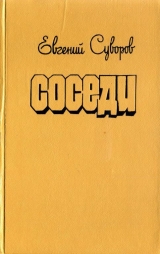
Текст книги "Соседи (сборник)"
Автор книги: Евгений Суворов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 22 страниц)
Валерий стоял в ограде и думал:
«А ведь как хорошо: ночь, луна, река, и познакомились бы… Нет, она бы не пошла со мной, потащила бы Александра… Для Таси я все-таки чужой…»
Оставшись с Александром, Тася вела себя по-другому: она перестала казаться взрослой, не старалась говорить умнее, чаще смеялась над собой и над Александром, срывала на ходу то ветку бурьяна, то полыни… обожглась о крапиву, вскрикнула, со стоном сказала:
– Ужалилась… Ой, умираю…
– Какую руку?
– Эту…
Она протянула ему правую руку с беспомощно расставленными пальцами.
– Хочешь, я возьмусь за крапиву?
– Зачем, – говорила она, смеясь и плача. – Пошли к мосту, к воде. – Уже не больно. Я выносливая. Если бы днем, ничего, а ночью, неожиданно…
Зашли на мост. Наклонились к перилам, хотели разглядеть что-нибудь в белом тумане… Слышнее стали крики ночных птиц. Исчезал и снова появлялся пугающий стрекот барашка.
– Дождя просит, – сказала Тася.
Вспомнил, что когда-то недалеко от моста росла белые и желтые кувшинки, и он доплывал до них – там было мелко, можно постоять и отдохнуть на крепко сплетенных корнях водяных растений… Нащупывал поближе к дну стебель и срывал… Плыл к берегу, держа кувшинки в вытянутой руке. Длинные, темно-зеленые стебли, пока он плыл, обвивали, холодили его, мешали плыть. На берегу отдавал их девчонкам, – те делали из стеблей бусы.
– Я помню, росли кувшинки…
– Мало осталось: появятся – их срывают.
– Достать тебе?
Спустился к воде и стал раздеваться.
– Оденься! Под мостом лодка!
Она перелезла через перила, удерживаясь за них, неловко прошла по коротко выступавшему над водой настилу. Он тоже снизу прошел ей навстречу, отклонился от моста и увидел ее крепкие, выше колен незагоревшие ноги.
– Упадешь! – засмеялся он, готовый поймать ее, хотя сам с трудом стоял в ботинках на скользких, едва скрытых в воде бревнах.
– Я спрыгну в лодку с моста! Только держи хорошо, не качай!
Она примерилась и спрыгнула так, чтобы коснуться ногами дна лодки рядом с Александром: если она поскользнется, он поймает ее.
Доплыли до того места, где росли кувшинки. Александр нагнулся, хотел сорвать и удивился: цветок крепко держится!
«Надо с длинным стеблем», – подумал он, встал коленями на мокрое дно лодки, перегнулся через борт, стебель сочно щелкнул и оторвался.
– Зря сорвал… Это желтая кувшинка…
Он подал ей новую.
– Не надо желтых! – по-детски рассердилась она. – Желтые – измена.
Он долго искал белый цветок.
– Мы еще в лесу не были, – сказала она, вылезая из лодки на мост. Она говорила, он держал ее, подсаживая к перилам, и слышал, и даже руками чувствовал, как рождался в ней голос и звучал в ее теле.
Шли по лесу вдоль болота.
Он слушал ее, улыбался ей, взял ее за руку.
– Боже мой, – сказал он, – это же петухи кричат…
– Вторые петухи, – уточнила Тася.
– Я ведь знал все это…
– Что – знал?
– Как петухи кричат…
– Глупости, – сказала она.
– Да, да, глупости, – ответил он самому себе и крепче сжал ее руку.
– Смешные вы, – проговорила она счастливым голосом, – что ты, что твой Валерий.
– Может быть, может быть…
– Не может быть, а точно.
Он пришел в восторг от ее слов, хотел засмеяться и не мог. Отпустил ее руку, шагнул к деревне и снова стал прислушиваться к пению петухов.
– Сколько же я не был здесь…
– Дорогу не забудешь, – приедешь. У нас зимой тоже хорошо бывает.
– И зимой…
– Что – зимой? – снова не поняла она.
Свернули с дороги и шли среди редких деревьев по сухой и скользкой траве.
На третий день Александр с Валерием собрались с утра в лес.
Дарья принесла из-под навеса тонкое белое ведро.
– Может, где в ягоды зайдете…
Это была та же дорога, по которой ходили Александр с Тасей ночью. Солнце поднялось к одиннадцати, но в тени и в низинах не сошла роса, сухой воздух мешался с влажным, пахло болотной сыростью, сосновой корой, дымным светом падали на деревья дрожащие солнечные полосы…
– Подожди, – сказал Александр. – Тася где-то здесь потеряла янтарного жука.
Ходил около дороги, искал…
Но разве найдешь в лесу, в такой траве…
Из леса пришли перед вечером. Дарье, потом Константину показали, нагибая, ведро: на дне на сковородку грибов с присохшими сухими листьями, немного скрытых брусникой.
Сели за стол. Константин с Дарьей выпили с ними по две рюмки вина.
– Обедайте, – сказала Дарья, – я пойду телят пригоню. А то опять останутся ночевать у Пушковых.
За этим же столом, отметил Александр, любил сидеть Федя. Запомнилось: много лет назад видел на столе разбросанный букет колокольчиков… Александр гостил у дяди Константина день-два, потом уходил домой. Галя с Федей провожали его до нестрашного места. Дальше он шел один, кричал на птиц, вылетавших слишком неожиданно, пугавших его, гонялся за бурундуком… Возвращался назад, – думал, что заблудился, – узнавал дорогу и снова шел домой…
Появлялся в гостях Федя.
Врезалось в память, как он заходит в ограду, открывает двери и стоит на пороге с букетиком цветов, красный от смущения и широкоплечий…
Вечером никуда не пошли.
Валерий чаще вспоминал о городе. Александр больше молчал. Потом поднялся с постели и, ничего не говоря, стал одеваться. Ходил по ограде и спрашивал себя:
«Я как будто забыл и не могу вспомнить что-то… Со мной такого никогда не было… такое чувство, будто что-то потерял… Вчера ночью чуть не разревелся…»
Потом он сидел на скамейке за воротами и смотрел на крупные звезды над лесом. Когда-то в этом лесу они играли с Федей… Они знали, что там живет огромный зверь, который разрешал детям кричать на него, бросать в него палками и засохшими сучьями… Он сторожил для них цветы… Показывал грибы и самые спелые ягоды…
Скрипнули ворота, к скамейке подошел Валерий, постоял и сел рядом с Александром. Он что-то сказал Александру… Потом Александр что-то сказал Валерию… Слова их были сказаны просто так, в пространство, можно было не отвечать…
Утром они уезжали на попутной машине.
Константин с Дарьей стояли у ворот, и только теперь было видно, какие они старые и одинокие.
Над обрывом
Я появился на Ольхоне в конце лета не потому, что в это время здесь теплее, – в августе жене дали отпуск, а у моей тещи не болело сердце, и в маленьком самолете ей было так же хорошо, как омулю в Байкале.
Остров Ольхон покорил меня с самолета, и я, еще не приземлившись, ругнул себя, что всегда чуть не самым последним появляюсь в таких сказочных краях.
Похожих на меня, – вечно везде опаздывающих, а потом стремящихся увидеть все сразу и упускающих самое интересное, – в городе остались единицы, а может быть, один я. Все, кого ни послушаешь, везде перебывали по десять раз, а я никак дальше Тайшета не могу проехать. И дело не в деньгах, которых всегда не хватало, – ездили же другие! А мне и не надо было никуда ездить: я даже на месяц не хотел расстаться с Иркутском! Какое там на месяц – на неделю!
В Ольхонском аэропорту я решил не торопиться, чтобы хорошенько ко всему приглядеться, и через полчаса обнаружил, что все как-то умудрились на чем-то уехать в поселок Хужир, и жена с тещей взглядами, едва заметно, укоряли меня: «Ну вот опять мы последние…» Я предпринимал меры, чтобы уехать в Хужир и до вечера найти там квартиру или хотя бы устроиться на ночлег, но мои женщины не сомневались, что до самой темноты, а может, и до утра им придется сидеть под одной из сосен возле деревянного здания порта, которое к вечеру неизменно закрывалось.
К нам подошел невысокий, сильно помятый мужичонка, один из тех, которые вечно бывают с похмелья, и сказал, что довезет нас на мотоцикле. Казалось, что он следил за нами из-за деревьев, поухмылялся вволю над моей беспомощностью, подождал, когда отношения между мной и женщинами обострятся, и появился перед нами для того, чтобы выручить и меня, и женщин… От всей его фигуры, от лица, которое и бритое казалось небритым, от одежды – добротной, новой, видимо в первый же день выпачканной нефтью и мазутом, веяло такой бескорыстностью, что не поехать с ним было невозможно.
Когда мы, боясь, что кто-нибудь опять нас обгонит, ринулись к видавшему виды «Уралу», мужичонка, не такой и старый, как это показалось вначале, сделал другое предложение: мы можем никуда не ездить и жить у него в хорошем сарае, в котором есть все – кровати, электросвет, электроплитка и еще какие-то удобства.
Мы отказались.
Он нисколько не огорчился и, равнодушный ко всему на свете, все прибавлял и прибавлял скорость. Пять километров преодолевали не меньше часу: мы тонули в песках, которые нам все равно нравились, теща наравне с нами иногда метров по двести помогала подталкивать коляску, в которой лежали наши рюкзаки и мешок с постелью. Мужичонка нисколько не жалел мотоцикла: мотор раскалился и, казалось, вот-вот разлетится вдребезги.
С квартирой нам повезло: дом был большой, с новенькой баней, с широкой вымощенной оградой, и хозяин – единственный житель этого дома, 82-летний Михаил Васильевич Васьков, оказался прекрасным человеком, но в доме не было форточек, и по ночам, на берегу Байкала, мы задыхались без воздуха. Двери на ночь открывать не разрешалось: старик боялся простудиться. Сначала он пустил нас только переночевать, но за два часа, пока мы сидели и беседовали с ним в столярной мастерской, которую мы и выпрашивали под жилье (это был маленький домик с плитой и форточкой), мои женщины Михаилу Васильевичу понравились, и он, наперекор старшей дочери, жившей неподалеку и каждый день навещавшей его, пустил нас на квартиру.
Дней через пять я заикнулся о смене квартиры, потому что каждое утро вставал с головной болью. Женщины встретили мое предложение с возмущением: они потратили столько усилий, чтобы понравиться старику, тот из-за нас поссорился с дочерью, выпил с нами водки и проговорил часов до двух ночи… По рассуждению моих женщин выходило, что мы и старика подведем, если перебежим на другую квартиру, и сами будем выглядеть не очень-то красиво. Они также не хотели расставаться с Мохтей – добрейшим рыжим псом, который хоть и неловко, но достаточно высоко подпрыгивал на привязи, напоминая своими сосредоточенными плавными прыжками огромную белку в колесе. Его и шкура по цвету напоминала беличью… Дочь старика откармливала его на унты. Мохтя, кажется, знал об этом и ел плохо. Он всегда восторженно встречал моих женщин: они любили играть с ним, хотели как-нибудь спасти его, и Мохтя кидался к ним изо всей силы; короткая цепь, привязанная к бане, возвращала его на место.
За домом Васьковых, через дорогу, сверкает белизной новая изгородь, защищающая огромное поле темно-зеленого молодого овса. Около изгороди в любое время можно увидеть коров, мечтательно разглядывающих поверх изгороди или в ее просветы сочную отаву, и только одна или две, чаще всего одной и той же масти – черно-пестрая и бурая, – безмятежно пасутся в этом зеленом море. Поле с трех сторон окружает старый сосновый лес с деревьями, разросшимися как им хочется – так много для них песка и солнца! Кажется: нет прекраснее уголка на земле, чем этот остров с пасущимися коровами и козами, и лениво лежащими, где им вздумается, собаками! И в самом деле, не было бы счастливее уголка, если бы поминутно не сновали по песчаным дорогам и тропинкам, по лугу и лесу всех мастей мотоциклы. На мотоциклах здесь ездят все – дети, старики, женщины.
Все свободное время я старался проводить в лесу или на берегу Байкала. А в общем-то, мне удавалось совместить и то и другое: в одном месте недалеко от поселка лес подходил к самому берегу, только надо было пройти маленькую самую настоящую пустыню – с дюнами и редко виднеющимися уродливыми деревьями, лишь отдаленно напоминающими сосну или лиственницу. Я подолгу задерживался около иссохших, окаменевших, но все еще живых деревьев…
Иногда мне казалось, что на сказочный остров медленно надвигается пустыня… И тогда я спешил к морю, чтобы увидеть не ярко-желтые, слепящие глаза застывшие волны, а живые – голубовато-зеленые, с шумом выбрасывающие на берег разноцветные водоросли, мертвую рыбу, бревна из разбитых плотов, обломки каких-нибудь строений и лодок…
По утрам, вместо физзарядки, я колол старику дрова на зиму и уходил к берегу на час или на два позже моих женщин.
Однажды, разыскивая их, я спускался с косогора, подгоняемый первыми крупными каплями дождя, редкого здесь летом, почти всегда короткого, и следов которого, через два часа не оставалось, – песчаная почва поглощала воду мгновенно, и от прошедшего недавно дождя оставалась едва уловимая радостная прохлада и яркое сияние зеленых трав и цветов, которые растут только здесь, на Байкале. Они кажутся диковинными, из какого-то другого, фантастического мира, о котором они робко напоминают. Такие цветы не хочется срывать – начинаешь думать, что с каждым сорванным цветком это далекое и фантастическое отодвинется еще дальше…
На середине косогора я остановился: спуск был крутой, я хотел выбрать дорогу полегче, – я вдруг увидел, как ловко скользила меж огромных валунов фигурка девушки. Сначала я подумал, что это моя жена, но тут же понял: с такой ловкостью бежать по россыпям, мгновенно появляясь из-за огромных валунов, своим беспорядочным расположением создававших множество лабиринтов, может только тот, кто вырос здесь или часто приезжает сюда.
Гибкая, стройная фигурка, то исчезая, то появляясь, стремительно двигалась в мою сторону. Я, не понимая зачем, по самой крутизне шагнул навстречу, на миг устыдившись, что только что хотел спуститься вдоль по косогору, где дорога хоть и длиннее, но зато безопаснее. Девушка бежала ко мне и делалась все старше, старше – и на глазах превратилась в старуху! Превращение произошло так быстро, правда и обман переплелись настолько, что мне продолжало казаться: передо мной не старуха в ситцевом платье, а девчонка, для чего-то играющая старуху… Я взглядывал на огромные валуны, на лабиринт ходов между ними…
«Может быть, – размышлял я, – меж валунов бежала девушка, потом она исчезла – встретилась с тем, к кому бежала, а старуха, когда я схватился за ветки кустарников, чтобы не свалиться с крутизны, появилась из-за ближних валунов и продолжила путь девушки?..
Старуха смотрела на меня до жути внимательно и, казалось, своим взглядом впитывала меня. Я шагнул к ней. Она расцвела в улыбке.
– Ты меня с кем-то спутал, да?
Не мог же я сказать, что спутал ее со своей женой, которой едва минуло за двадцать, и если бы сказал об этом жене, она бы сердилась на меня, самое малое, неделю.
– Я приняла тебя за инструктора… Он с такой же, как у тебя, тетрадью ходит…
Только сейчас я увидел в руках у себя блокнот, в котором я делал простым карандашом рисунки гор. Ничего не понимая, я смотрел на старуху.
– Вчера меня обругал инструктор, – пояснила она. – За то, что я залезла до половины вон той скалы. Я бы и выше залезла, да он не разрешил.
«Это я старик… У меня и в мыслях ни разу не было вслед за смельчаками подняться на отвесную, почти вертикальную скалу…»
И еще я подумал:
«Ей недоступны те радости, которые доступны мне в моем возрасте, и она последние годы, а может быть, дни отважилась сделать опасными, хотя бы в чем-нибудь напоминающими молодость… А может, она смеялась над такими, как я, кто боится рискнуть лишний раз, а то и вовсе никогда не рисковал, и по этой причине добивался своего только до половины, а потом оправдывал свою робость тем, что на большее и не был способен?»
Один раз она сорвалась с уступа, пролетела метра два и снова начала карабкаться наверх… Издалека я видел, как она боролась с опасностью, но разве мог подумать, что на скалу карабкается не юная спортсменка, а старуха, которой давно за семьдесят?!
Моя жизнь показалась мне никчемной, трусливой, жалкой…
Капли дождя ударяли о камни и листья, ярко светило солнце, над островом не смолкал жизнерадостный гул маленьких самолетов.
Старуха увидела, что я собираюсь уйти, и стала вглядываться в меня сильнее.
– Дождя боишься?
И она протянула мне свернутый в трубочку, тонкий, как папиросная бумага, болоньевый плащ. Я отказался, спросил, как ее зовут.
– Ниной звали, – сказала она, улыбаясь, как будто ей и в самом деле было лет двадцать.
Ее голые ноги, обутые в старенькие домашние сандалии, были бронзово-черные от загара, в свежих царапинах и ссадинах… Она оглянулась, видимо, опасалась встречи с инструктором, легко переступила с ноги на ногу и, глядя мне в глаза, доверительно сообщила, как будто мы с ней были давно знакомы:
– Ты только не говори ему, – я ведь что выдумала: сижу вон там, – она показала на глубокое синеющее пространство за обрывом.
– Где? – не понял я.
– Над обрывом, – весело сказала она. – Свешу ноги вниз и читаю книгу.
Я поверил ей.
– Вы можете сорваться, и никакой инструктор тогда не поможет…
– А ну его, – сказала старуха. – Он – грубый человек.
Я не согласился:
– Вежливость тут может навредить…
Я не мог обращаться к ней только по имени, – все-таки разница в возрасте была большая, – и довольно громко спросил ее отчество.
Старуха как будто не слышала моего вопроса.
Я сказал:
– У Лермонтова в «Маскараде» ваше имя…
– Я знаю, – ответила она. – Ее отравили…
Мне показалось, что передо мной – сельская учительница. Но я ошибся, и это еще больше расположило меня к моей старухе.
– Я чувствую себя моложе, когда сижу над обрывом… Хочешь посидеть?
Я представил, как сижу на самом краешке отвесной скалы, по незаметным выступам которой высоко над землей делают невероятные прыжки домашние козы, и промолчал, вспомнив, как мы с берега с изумлением следили за ними… Чья-то большая, с белыми пятнами собака вместе с нами, только чуть поодаль, долго, замерев, смотрела за козами, пролетавшими в воздухе, которых она, как и мы, наверное, приняла в это время за диких…
– Боишься, – без всякого укора сказала старуха.
Взглянув на скалу, я понял, что никогда не сделаю даже попытки карабкаться по ней. Зачем? Чтобы сорваться? Другое как будто было легче – сидеть, свесив ноги, на краю обрыва… В первый же день мы приходили сюда. Я постоял на краю пропасти, но, оказывается, это был еще не самый край – два шага земли, а точнее – скалы впереди оставалось… Мои женщины вскрикнули, испугавшись за меня, и я отступил, так как мне хотелось и эти два шага сделать… В тот раз я почувствовал, как тянула к обрыву какая-то непреодолимая сила… Я слышал, что бездна притягивает, человек не хочет и делает в нее шаг… А иногда он делает этот шаг с восторгом, граничащим с безумием…
Проговорили мы с ней минут двадцать и разошлись каждый своей дорогой, и не начинавшийся дождь был тому виною – ведь можно было укрыться среди валунов на берегу, под соснами, да и возле заправочной можно было спрятаться от дождя под крышей… Тогда мне как будто не надо было встречаться с нею, – а почему же сейчас хочется и увидеться, и поговорить? Может быть, в тот раз ей нужно было поделиться какой-нибудь своей новостью, может, печалью, а может, радостью… А я торопился, застеснялся чего-то, неловкость какую-то увидел, и уж самое никчемное, если дождя испугался… Она никак не хотела уходить, стояла в лучах солнца и дождя, похожая на колдунью, знавшая об этом мире и о себе какую-то тайну, о которой она, как я теперь понимаю, начинала рассказывать…
Я узнал, что она не любила ездить. Это у нее с войны. Когда бежала с мешком продуктов в райцентр, – там учились ее ребятишки, – и когда кто-нибудь из колхозников предлагал место в санях или в телеге она всегда отказывалась, говорила, что ей надо скорее… На Ольхоне она побывала один раз нечаянно и теперь каждое лето прилетает сюда на маленьком самолете.
Совсем недавно вдруг вспомнилась она мне – тоненькая, до черноты прокаленная солнцем, с сияющими молодыми глазами, умудренная жизнью, – и все думал: почему же она не исчезла из памяти, почему за такую короткую встречу оставила в моем сердце след, какую-то царапину, которая не исчезает и, наверное, никогда не исчезнет?
Она сказала, что живет где-то недалеко от Усть-Орды, вырастила четверых детей. Было бы семь, и она жалела трех, неродившихся, «выбитых», как она сказала, буянившим мужем, из ее короткого рассказа скорее походившим на зверя, а не на человека…
Я подумал о великом упорстве женщины, о ее неиссякаемой любви ко всему живому, дающей любовь тем, кто ее недостоин, и своей любовью помогающей укрепиться всему, что должно жить.
Лесные колодцы
Старик Букин доживает свои дни у дальней, родственницы.
Никто не знает, сколько ему лет. Больше он лежит на широком, из сосновых досок топчане, таком же старом, как сам Букин. Подогнув ноги в самодельных носках из овечьей шерсти, почти с головой укрывшись одеялом, сшитым из разноцветных лоскутков, он, не отрываясь, смотрит наверх. Валяется в изголовье старинная книга с металлическими уголками, с позолоченными буквами, на страницах желто-розовые круги – книга долго хранилась между досок, под крышей.
В другом углу пустует никелированная двуспальная кровать с панцирной сеткой. Букин давно отказался от железной кровати, и я теперь сплю на ней рядом с высокой переборкой и окном. Мне надоела городская жизнь, вечная суета, спешка, и уже полмесяца я живу у незнакомых людей в одной комнате со стариком Букиным.
Днем Букина не слышно.
Ночью он кашляет на весь дом, и я просыпаюсь. В мое окно видно большую, с отблеском пожара, луну, на обрезанном пашней выгоне чернеют копны листового сена, в открытую форточку вливается речной воздух.
– Ночь – год, – недоволен Букин.
Утро не излечивает Букина. Пойдет он к умывальнику, на полпути вспомнит:
– Ай, нет. Корчик, дай корчик.
Он держит одной рукой корец – большую, с облезлой эмалью кружку, льет воду в полусогнутую ладонь и часто дотрагивается до щек влажными пальцами.
Но что это сегодня: Букин легко ходит по ограде, поправляет доски в штабеле, приглядывается к ведрам на кольях.
– Эй, студент, будет спать! Иди ополоснись – вода под навесом.
Он снимает ведра и со словами: «По рыжики сходить», – ставит на зеленую траву.
Два раза перелезаем через прясло. Вызванивая ведрами, идем по ярко освещенному лугу. Хрустит быльем под ногами первая срезанная трава. Вторая трава еще не готова. Когда она поспеет, даже самая острая коса не возьмет ее. Выходить надо рано – вторая трава тогда легко поддастся и ляжет с веселым хрустом. Она долго сохнет под нежарким осенним солнцем, останется такой же зеленой и даже в полдень будет пахнуть морозом.
Останавливаемся на грани леса и поля.
Пролетел вечно испуганный дикий голубь; странный звук подала ворона, не знаешь – будешь думать: кто это? Поле убрано, не слышно людских голосов, только зимой приедут сюда за соломой, негромко переговариваясь.
От дороги донесся пронзительный скрип пускача, эхо заработавшего трактора проликовало и утонуло в реке.
– Не нагибайся, – предупредил Букин, когда я хотел поднять подберезовик. – Наберем одних рыжиков.
Попадется целая армия грибов. Никуда не нужно идти – упади, раскинь руки: сколько захватишь – и полведра. Букин шагает, что-то говорит самому себе, и я не могу ломать «суравеги, грузди, березовики и подосинники». Прокидывались рыжики. Но это, оказывается, не то – настоящие рыжики где-то дальше, на старой залежи.
Едва поспеваю за Букиным.
Что напомнил ему этот лес, это время осени, когда устанавливаются хорошие дни, дожди короткие, самые грибные?
Залежь…
Широкой полосой стоит молодой лес. И внизу и выше по стволу он был чистым и не давал тени. Здесь светлее, тонкие высокие сосны и лиственницы готовы зазвенеть от малейшего удара.
– По закрайку, сюда реже заглядывают, – показал Букин в сторону низких острозеленых елочек. – В этих местах я собираю рыжики с твоих лет. Тут их косить косой было…
Никогда я не видел таких небольших толстых и крепких рыжиков. Они еще держат утреннюю воду, с готовностью хрупнут, если наступишь или неосторожно сломаешь, шляпки проткнуты прошлогодними иголками.
Букин кладет рыжики обрезанными корнями вверх – так они ложатся плотнее и не ломаются. Свежеет его лицо, глаза стали синее, заблестели. Он уже не видит рыжиков – оттуда, где лес сомкнулся с белыми легкими облаками, где одного цвета небо и земля, виднеют молодые годы Букина… и не уйти ему отсюда никуда и не уехать.
У нас полные с краями ведра. Подвигаемся к дому лесной дорогой, заросшей высокой сухой травой и широкими листьями. Солнце уже высоко. Нет зноя, хотя небо грозово-синее, только к горизонту белое, тонущее; в синевато-туманном бесконечном воздухе приглушенные звуки.
Скрипят журавцы, бьют ступицы колес, за уметом рядом с колодой для воды Маланья с девчонкой выбирает картошку. Мы близко, бежит к нам, спотыкаясь на лунках с ботвой, Маланьина девчонка.
– Где брали?
– А за угором, – отвечает Букин. – К вечеру нарастут.
День впереди, Букин вспоминает: надо загородить сено, тын перекопать…
Достаю воду в Лесных колодцах, пью долго, не отрываясь, до боли в висках, и не напьюсь. Вижу, как растут огурцы на гряде, срываю их. Листья и стебли еще зеленые, шероховатые. Колю дрова, свежие поленья отлетают в сторону, иду за ними. Ко мне привык черноголовый капризный воробей, он ждет, когда я открою двери веранды, чтобы залететь на ночь.
Снова сплю на улице под черемухой. Причудливыми арками склонились надо мной, где я лежу на низкой постели, черемуховые стволы. Позднее с размаху налетит ветер. Хлопают, будто крыльями, листья, и тогда виднее становятся темно-голубые просветы между ветвями и кажется, кто-то крадется, кто-то не спит в эту тревожную в звездах ночь.
Вернулись с мельницы и сгружают мешки, закрываются двери ларька, горланит Пашка.
В доме на топчане умирает старик Букин.








