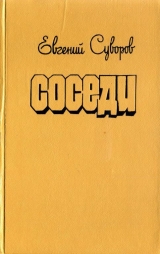
Текст книги "Соседи (сборник)"
Автор книги: Евгений Суворов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 22 страниц)
С попутной машиной Иван доехал до Бабагая. Сидел рядом с шофером, а не в кузове, где еще два пассажира, которых бросает по кузову как пустые ящики. Пока машина пробирается по длинной и неровной стлани, по левую сторону от которой в холодной воде плавают утки и гуси, Иван смотрит, куда ему лучше пойти – в контору или в магазин? Контора сразу направо, как проедешь стлань, магазин – налево и дальше. Около магазина толпится народ. Привезли чего-нибудь или у мужиков какой-то праздник. Вот жизнь пошла: что ни день, то праздник! Хорошо бы, шофер поехал в ту сторону, Иван бы сошел возле магазина, посмотрел бы, чего привезли, или узнал, что за праздник.
Шофер свернул налево от стлани, с ветерком домчал Ивана до магазина и остановился, как будто прочитал Ивановы мысли. Главное, еще спросил, когда подъехал к магазину:
– Сюда тебе?
Иван кивнул, довольный, что все так идет хорошо.
– Миронов будешь или Колесников? – спросил Иван у шофера, так как всех бабагайских запомнить не мог. Другое дело – шангинские!
Шофер, кучерявый, лобастый, веселый парень, ответил Ивану, что он – Миронов.
Иван не стал уточнять, как зовут парня и которого он Миронова. Миронов, и ладно. Иван так и думал: по кудрям видно!
На глазах у публики Иван с важностью вылезает из кабины. Захлопнуть шоферу дверцу он ни в коем случае не позволяет – будь ты хоть Миронов, хоть Колесников! Он ее распахнул широко, когда вылез, а потом сам захлопнул, до одного раза. Когда шофер за тобой дверцу закрывает – не то навроде как он тебя выгоняет или выталкивает. А ты сам захлопни!
Иван поднимается по ступенькам высоченного магазинского крыльца, оглядывает публику, здоровается: с кем просто так – кивком или словом, с кем – за руку, и – в магазин. Кто-то из бабагайских, а может, из марининских (их села разделяются только мостом) не знает Ивана и спрашивает:
– Кто это?
Чей-то знакомый голос отвечает:
– Это Иван Федосов.
Дверь за собой Иван закрывает медленно – боится с кем-то столкнуться или ждет, что за хорошими словами кто-то бросит вслед что-нибудь нелестное, может быть, даже оскорбительное. Иван не связывается с такими – пусть завидуют! В Шангине никогда не слышал неприятных слов, разве только от родни… А в Бабагае и на Марининске народ жестче. Чем дальше от своей деревни, тем хуже…
Продавали стиральные машины. Колхозники покупали их в Ангарске или в Черемхове, а тут – в Бабагае! Вот и толпится народ. Ивану стиральная машина не нужна – Марья полощет белье в Индоне и летом, и зимой. То ли дело в свежей воде – стирай, сколько хочешь! – а не в какой-то машине, которая, того и гляди, сломается. Шуму не хватало в доме! Иван как-то сказал Марье, что купит стиральную машину, так Марья на него целый день сердилась.
Постояв около прилавка, Иван маленькими шажками (в магазине тесно было) пошел к двери с таким видом, как будто у него дело, не терпящее отлагательства.
Скоро он очутился возле двухэтажного здания колхозной конторы, в котором размещались клуб и библиотека. В этом доме, наверно, еще что-нибудь размещалось, только Иван не знал. Зато он хорошо знал: двухэтажное шлаколитное здание, осевшее и давшее трещину посередине, строилось лет пять, и называлось, пока строилось, Домом культуры. И вывеска такая была: «Дом культуры колхоза «Большой Шаг». Теперь вывески нет, но по разноцветным цифрам на деревянных подставках и по тому, что нарисовано рядом с цифрами, еще издалека видно, что здесь – правление колхоза.
Нынешний председатель Георгий Алексеевич Сухарев, если случалось из ряда вон выходящее, ни на кого не кричал, не выгонял из кабинета, держался так, будто ничего не случилось, и даже посмеивался в том месте, где другие наверняка бы начали кричать и топать ногами.
«Смеется-смеется, а потом и до меня доберется», – сочинил Иван невеселую шутку.
Бригадиром только Илью Андреева оставил, из Шангины, остальных – всех заменил. Тут, правда, Ивану повезло: с Ильей они вроде бы давно столковались! Илья сколько раз говорил Ивану:
«Зря ты, Иван Захарович, боишься Сухарева, – хороший мужик!»
«Для тебя-то он, может быть, и хороший, – отвечал Иван, – а мне с какой стороны к нему подступиться? А ну как не в добрый час попадешь, – всему конец!»
Как бы так угадать, думал Иван, чтобы Сухарев был в хорошем расположении духа. Несколько раз он пытался разведать, какое в данный момент настроение у председателя, и от разных людей слышал один и тот же ответ: «У него всегда хорошее настроение. Иди, не бойся!»
Иван делал вид, что идет к председателю, а сам сматывал удочки на заимку.
В последнее время появилось новое, обнадеживающее чувство, подсказывающее Ивану, что все лучше, чем ему кажется. Иван и сам знал, что выход есть из любого положения, главное, не унывать. «С веселым человеком трудней справиться!» – неожиданно для себя заключил Иван, пытаясь сообразить, так ли это, потому что по себе знал: не всегда ему нравились веселые люди, и даже чаще – не нравились!
Прошел по высохшему тротуару, удобному тем, что в грязь об него можно обчищать сапоги, что Иван тут же тщательно проделал, и скрылся в дверях колхозной конторы. Поднимаясь по лестнице на второй этаж, Иван уже меньше боялся председателя и выбросил из головы мысль, которая сопровождала его каждый раз, когда он поднимался по лестнице, – чтобы председателя на месте не оказалось.
– Председателя нету? – спросил он у главного бухгалтера Михаила Александровича Кирпиченко, который жил раньше в Шангине и в Бабагай перебрался только в прошлом году, а то все ездил на работу из Шангины.
– У себя, – ответил Михаил Александрович грустным и усталым голосом, и перед тем как снова застучать костяшками, так скорбно поглядел на Ивана, что Иван сразу же пожалел колхозного бухгалтера и за этот усталый взгляд, и за страдальческие морщины в углах рта и около носа, и за то, что он всю жизнь считает чужие деньги.
Главный бухгалтер слышал, что Иван не ушел, и с каким-то упоением считал деньги, – вроде как Иван Федосов как-то подействовал на него – не плохо, как некоторые привыкли говорить, а наоборот, хорошо.
Что-то сосчитав, Михаил Александрович отложил счеты в сторону, отрывисто бросил:
– Чего хотел?
– Председателя мне надо, – ответил Иван.
– Председатель – там, – Михаил Александрович кивком указал, где председатель, то есть в противоположной стороне коридора. Он провел по лицу ладонью, прогоняя усталость и как бы заодно удостоверясь: может, никакого Ивана Федосова нет, может, он ушел и тогда не надо с ним ни о чем говорить? Но Иван Федосов стоял в бухгалтерии, даже дверь за собой прикрыл, и смотрел только на главного бухгалтера…
Тот не каждому предлагал сесть возле своего стола, а Ивану – предложил.
Иван сел не напротив – этот стул был для просителей, – а чуть в сторонке, как будто рядом с Михаилом Александровичем. К тому же он видел, что главный бухгалтер устал и наверняка найдет время поговорить с ним. И в самом деле, Михаил Александрович с удовольствием отодвинулся от стола и оказался совсем рядом с Иваном, как бы подтверждая этим, что раньше, когда он еще не был бухгалтером и жил в Шангине, у них отношения были простыми и такими же они остались. Иван может говорить с ним как свой со своим, хотя Михаил Александрович отлично понимал, что Иван свой, да не совсем. По собственному желанию или, как там говорят, помимо воли он все больше и больше отдалялся от колхоза. Но никуда Ивана не денешь, приходится принимать таким, какой есть: не исправишь его сейчас, не переделаешь!
Как бы там ни было, а встретил его Михаил Александрович по-приятельски – так, как и хотелось Ивану.
Такой прием, оказанный Ивану главным бухгалтером, привел в некоторое замешательство всю бухгалтерию.
Тихон Бадейников, не удивленный, а скорее возмущенный поведением Ивана и не одобрявший поведения Михаила Александровича, бросил работу, а точнее сказать, выронил из рук счеты (у него тоже, как у Михаила Александровича, были счеты, только поменьше) и смотрел на Ивана, как бы говоря: «Кто тебя звал? Кому ты здесь нужен?»
Своего презрения к Ивану Тихон не скрывал и, снова начав работать, чутко прислушивался, о чем будет говорить с ним главный бухгалтер.
– Не надумал переезжать?
Иван чуть не подпрыгнул на стуле от этого вопроса: удружил Михаил Александрович, как холодной водой окатил! Справившись с собой, Иван ответил:
– Буду доживать свой век на заимке. Я там никому не мешаю. Ты бы, Михаил Александрович, запланировал на заимке летний лагерь для скота. Сарай не надо строить – готовый стоит. Колодец рядом. Мы бы с Марьей скот сторожили. И колхозу хорошо, и нам.
Летом колхоз держал на Татарске то овец, то свиней, то коров. Иван с Марьей слушали блеянье овец, рев свиней, мычание коров со счастливыми лицами, как будто это были свои овцы, свои свиньи, свои коровы…
Сейчас бы Иван не согласился держать столько свиней, коров, быков, кур, огорода – силы не те, а смотреть, когда много живности, приятно.
– Лагерь откроем на заимке на будущее лето, – сказал Михаил Александрович.
Его слова прозвучали отрешенно, вроде как летний лагерь – одно, а заимка, то есть Иван с Марьей, – другое.
Иван сделал вид, что не уловил этой интонации, и веселеющим голосом сказал:
– Это хорошо.
Бухгалтер, казалось Ивану, чего-то недоговаривал, скрывал, что ли. Спрашивать, не подкапывается ли председатель колхоза к заимке, Иван считал, не стоит. Промолчит, оно, глядишь, и лучше… И в то же время Иван прикидывал, что прятаться не надо, – пусть знают: здесь Иван, никуда он не потерялся.
Сделав жест рукой, Иван нечаянно коснулся локтем Михаила Александровича, вроде как по-дружески его подтолкнул, и, может быть, от этого прикосновения, а главное, конечно, оттого, что сидел рядом, вдруг расхрабрился – стал поглядывать на бухгалтера так, будто тот был у него в руках, будто не Иван в ложном положении, а бухгалтер.
– Что Марья делает?
– Копается, – небрежно и как будто с неохотой ответил Иван. – Что ей еще делать.
Иван ждал, что Михаил Александрович спросит о чем-нибудь другом, более интересном. А про Марью что спрашивать?
– Зря так о Марье говоришь, – укорил Ивана Михаил Александрович.
– А что такое?
– Марья – великая труженица.
«Что он с ним антимонию разводит, – выходил из себя Бадейников. – Нашел кого хвалить – Марью!»
Иван как-то вдруг разом потускнел: какой может быть разговор, когда столько свидетелей? Но, подумав, он и этим остался доволен: как-никак Михаил Александрович бросил работу, сел рядом, о чем-то спрашивает… Зря, что ли, Бадейников сидит бесится… Да-а, попадись-ка ему в лапы – мигом голову скрутит!
Михаил Александрович что-то хотел спросить, но передумал или некогда было, и так стукнул разом костяшками счетов, что даже испугал Ивана, потому что Иван не видел никакого движения рукой, а его сразу оглушил удар костяшек. Он понял, что Михаил Александрович не намерен больше разговаривать да вроде и не о чем – у Михаила Александровича одни заботы, у Ивана – другие. Но что-то с той самой минуты, как Иван заглянул в бухгалтерию, объединяло его с Михаилом Александровичем…
Перед тем как уйти, Иван весело оглянулся, и в это время его настиг голос Михаила Александровича.
– Иван Захарович, может, ты дашь мне взаймы десять тысяч?
Иван вздрогнул, хотя просьба бухгалтера прозвучала, как ему показалось, шутливо. Просьба бухгалтера, пусть даже несерьезная, прозвучала не столь уж и неожиданно: Иван все эти дни мучился над чем-то над этим, а бухгалтер как будто угадал и посмеялся над Иваном: мол, не мучайся, я у тебя спрошу, ты мне ответишь, и ответ мне твой заранее известен, и все останется на своих местах, – Михаил Александрович ни о чем не просил, а Иван – ничего не слышал.
В первый миг, когда бухгалтер попросил у Ивана денег, Иван так и хотел сделать – переступить порог, закрыть за собой двери, как будто ничего не слышал. Не в первый же раз приходилось притворяться, что не слышал или не видел, и без объяснения потом как-то легче всем было, вроде как ничего ни плохого, ни хорошего не было, и снова все шло своим чередом, пока что-нибудь не случится. И вот, кажется, случилось!
Иван сам был виноват, и даже не виноват, а как будто все эти дни упорно шел навстречу чему-то такому, о чем вот сейчас сказал главный бухгалтер.
– Куда тебе столько денег? Это, сам знаешь, не сто рублей и не полтораста!
– На Дом культуры не хватает.
– А ты сказал – тебе.
– Это одно и то же.
Иван не поверил:
– Разве колхоз и ты – одно и то же?
– Я себя от колхоза не отделяю, – ответил Михаил Александрович.
– Большая разница, – сказал Иван, не зная, что ему сделать: разговаривать с Михаилом Александровичем, стоя у дверей, или вернуться и сесть.
– Никакой разницы, – Михаил Александрович проговорил эти слова как что-то давным-давно решенное. – Я вот здесь сижу с утра до вечера и не помню, бываю дома или нет.
– Точь-в-точь как у меня! – сказал Иван. – Вчера я в Шангине ночевал и сегодня не знаю, доберусь домой или заночую где-нибудь.
Все засмеялись, Иван – тоже, как будто нашли что-то общее, одинаково для всех интересное и очень важное, и это «общее, интересное и важное» было вовсе не деньги, а что-то другое.
Иван вышел из бухгалтерии и, даже не взглянув на кабинет председателя, выбрался из душного помещения на улицу, пытаясь сообразить, что же произошло с ним и как ему быть дальше. Бухгалтеру Иван не очень-то поверил: сначала взаймы, а потом не отдадут, и закон будет на их стороне. Нет, «взаймы» Ивана не устраивало… Так надо отдать! Подарить! Он хотел вернуться и сказать Михаилу Александровичу, что согласен, но тут же подумал:
«Не успели попросить, Иван – готово: на, возьми! Надо, самое малое, неделю подождать, чтоб не наспех, не как попало… А то ведь что получается: десять тысяч отдаешь как десятку! Им такой и счет будет!»
5Получалось только, что будто бы эту мысль подсказал бухгалтер колхоза. Но ведь хоть и подскажет кто-то, и ничего не будет, если сам не захочешь, если сам не додумаешься! Это Иван подсказал бухгалтеру! А что еще Михаилу Александровичу оставалось делать, если Иван маячил у него перед глазами? Это бухгалтер воспользовался Ивановой мыслью, которая у Ивана была недалеко спрятана. Бухгалтер пошутил, а Иван все воспринял на серьезе, потому что это нужно было Ивану, а не бухгалтеру…
Все, что видел Иван перед собой, – бабагаевские дома, просыхающая на взгорках дорога, черно-зеленые ели за мелким и грязным прудом, в котором среди льдин и белого снега плавали озябшие утки и гуси, забуксовавшая машина на Полыновке, под колеса которой ученики начальной школы готовы были, кажется, бросать шапки и портфели, только бы машина выбралась на дорогу, прошедший навстречу румянощекий старик Овсянников, никак не бросавший работу на мельнице, хотя ему было давно за восемьдесят, – все это и все, что видел он вокруг, осветилось вдруг по-новому, сделалось праздничным. В необычном Ивановом настроении было, конечно, виновато и апрельское солнце, набравшее под вечер силу и старавшееся растопить последние льдины в деревне и снег, лежавший огромными клоками на полях и в лесу.
На Татарске Иван только сегодня услышал, как позванивали под снегом ручейки, пробивая себе дорогу в темноте, чтобы потом, набрав силу, удивить мир, вырвавшись наверх неожиданно, как будто за день или за час. Иван около Татарских полей одно такое место раскапывал сапогом до тех пор, пока не увидел, как темная вода хлюпнула под сапогом, как будто довольная, что Иван облегчает ей работу.
Откуда столько солнца в Бабагае: хоть расстегивайся и снимай шапку! Чем больше деревня, тем в ней теплей, что ли?.. Тихий, ласковый ветерок съедает снег, заставляет ручьи бежать скорее, делать причудливые петли, переговариваться десятками и сотнями радостных голосов.
Еще таких день-два, и весна ударит на Татарске во всю силу. По вечерам и ночью, выходя на крыльцо, Иван будет слушать, как ревет на всю тайгу весенняя вода.
Шагалось легко, как будто Иван сделался лет на десять или на двадцать моложе. Что-то похожее бывало с ним, когда он был совсем молод, когда ему казалось, что никуда не надо торопиться, что вся жизнь впереди и что конца ей не будет. И сейчас было такое чувство, будто Иванова жизнь только начинается, – как будто каждая тысяча, которую он собрался подарить колхозу, на глазах превращалась в год или в два, самое малое. Такая мысль Ивану понравилась, и он удивился, что ни разу не думал об этом раньше. А если все деньги, лежавшие у Ивана на книжке, перевести на годы, то получалось, что в запасе у Ивана целая жизнь и что ему сейчас не шестьдесят четыре, а лет восемнадцать или того меньше.
Перед Шангиной догнала Ивана машина. Пока он садился в кабину, ему тоже хорошо думалось. Шофер проверил дверцу, и машина пошла скорее, оставляя позади березовый лесок с двумя огромными соснами, чудом уцелевшими на краю поля. Сосны стояли, наклонившись в одну сторону, как будто разглядывали внизу хоровод березок, особенно веселый летом, когда березки оденутся и зашумят листьями. Иван сколько раз отдыхал под этими соснами! Ему стало жалко, что жить березовому лесу и двум соснам осталось мало. Покажется кому-нибудь, что поле в этом месте неровное, и – прощайте, молоденькие березки и старые сосны!
Шофер терпеливо дождался, когда Иван выберется из кабинки, развернулся перед мостом и чуть-чуть не задел Ивана кузовом. Около самого лица промелькнул обшарпанный борт, дохнувший стылой краской и железом. Иван едва успел отскочить в снег.
На шофера Иван не обиделся – стоял на обочине и думал совсем о другом: от моста начиналась дорога, которую он знал в мельчайших подробностях и так привык к ней, что видел ее даже во сне, и не мог иногда понять – спит он или наяву идет по дороге…
Иван не стал оглядываться на машину, с яростным завыванием взбиравшуюся по проулку в деревню, так же, как не стал оглядываться на Шангину, потому что знал: стоит пооглядываться, что-нибудь или кого-нибудь вспомнить, как покажется, что надо вернуться. Долго смотреть на Шангину, – значит, остаться в ней ночевать!
Пройдешь первый поворот дороги и не захочешь возвращаться, и только с необъяснимым чувством тревоги и радости будешь слышать, как отдаляется лай собак, без которого деревню невозможно представить. Как бы громко ни гудели трактора, будешь все время прислушиваться, не донесется ли еще лай собак, и покажется он в это время лучшей музыкой, которую ты когда-нибудь слышал.
Прозвенела среди ветвей тонкая сосулька. Дрогнувшая ветка уронила ком снега – мелкая искрящаяся изморозь сыплется и сыплется с дерева… Возле Татарска самая настоящая зима! Еще день-другой вечером или рано утром легкий морозец скует тонким ледком растаявшие лужи, ущипнет, развеселившись, за щеку или за нос, а потом и на это не хватит силы – он только разрумянит их, чтобы ты не сердился на мороз, помнил о нем и ждал его в жаркий летний день так же, как ждешь зимой лета!
Солнце спряталось за Белопадский бугор, и сразу же стало холоднее, длинные голубоватые тени от деревьев легли на снегу. Кажется, что скоро стемнеет, но солнце еще выберется из-за бугра и начнет светить прямо в глаза, когда Иван будет подходить к своему дому. На Татарской поляне и на Широком болоте, все еще укутанном глубоким снегом, на короткое время снова сделается теплее. Потом, как будто обессилев, солнце упадет в дремучий лес, перекрасит Саяны, скатится по ним в бездну и появится утром со стороны Шангины.
Иван остановился на Татарском бугре, в лучах солнца, и залюбовался своим домом. Поскорее отогнал мысль, которая в последнее время все чаще закрадывалась в сердце: не вечной же будет заимка? Увидел, как Марья носит вязанками сено от зарода к сараю. Согнувшись в три погибели, донесла вязанку до места, бросила, увидела Ивана, стоит, ждет. Иван бы сам перенес сено к сараю, сделал бы это не сегодня, а завтра, куда торопиться. Конечно, воды, дров наносила, картошку варить поставила… Дымок из трубы идет, значит, все сделано, и Марья принялась за Иванову работу. Ему только отдыхать осталось, дожидаться, когда картошка сварится.
Сегодня он все время будет чувствовать на себе ее укоряющий взгляд. Больше всего он считает себя виноватым, когда уходит к людям. Марья тогда долго не хочет с ним разговаривать.
Она и не помнит, когда последний раз была в Шангине. Лет двенадцать прошло, не меньше, когда бабы силой забрали ее с заимки в родительский день или в троицу, а Ивана заставили сидеть дома. Марья кое-как вырвалась от людей и прибежала вечером на заимку. Чудно ей тогда показалось, и она была рада не рада, что не слышит больше ни песен, ни шума, ни крика…
Ей хорошо, когда она говорит с коровой, с поросенком, с курами, с собакой, у которой нет имени, Марья его так и зовет: «Собака, Собака!» Разговаривала с плитой или с печью, когда в ней горят, потрескивают дрова, когда закипит кастрюля или чайник и просит отодвинуть скорее от сухих и жарких дров…
В непогоду Иван чувствует себя плохо: все болит, портится настроение, белый свет становится не мил. Он смотрит в окна с надеждой, что, может, скоро разъяснит, уляжется, а Марья как ни в чем не бывало хлопает и хлопает дверями – несет то дрова, то воду, кормит свиней, коров, кур… Но это еще полбеды, что без конца хлопают двери, что-то падает, грохочет, скрипит, льется, в это время Иван не узнает Марью – она становится румяной, как в молодости, глаза наполняются прежней чернотой, блеском, – и кажется, что она смеется над ним.
Поправив шапку, то есть надвинув ее немного на глаза, Иван зашагал с бугра к дому, заранее представляя, как он зайдет в избу, снимет пальто-москвичку, надавившее за день плечи, забросит под кровать сапоги, наденет валенки, сядет у плиты и, может быть, расскажет что-нибудь Марье – не все, что случилось с ним за эти два дня, а что-нибудь из шангинских разговоров… Только сейчас, перед домом, он почувствовал, как стянуло лицо от холода, щеки набрякли, сделались большими и тяжелыми. Ему даже казалось, что он видит их. Дотронулся до щек, потер их, и ощущение, что он видит их, исчезло.
Во дворе каждый предмет говорил Ивану: сюда подойти, теперь – сюда. Все встречало Ивана хорошо, как будто соскучилось по нему, как будто его не было дома не два дня, а больше.
Он сказал Марье, что не надо было переносить сено, что завтра сам все сделает, и Марья что-то проговорила, соглашаясь. Что она проговорила, Иван не разобрал, потому что Марья скомкала слова, сказала не для Ивана, а себе одной, – ей понятно было, и ладно.
Вспомнив что-то, она сразу же пошла в избу.
Иван походил по двору, как будто хотел убедиться, все ли на месте, все ли так же, как было два дня назад. Все было так же, а ему казалось, что произошли изменения, которых он не замечает, и они, как сорина в глазу, беспокоят, и он все видит изменившимся, а в чем эти изменения, понять не может. Наверное, в нем говорила привычка что-нибудь делать, а не терять время попусту, и он забыл о том, что с дороги все-таки, и не меньше часу, до самой темноты, занимался в ограде по хозяйству. После этого будто тяжелый груз свалился с него, и он пошел в дом, удивляясь, почему Марья сидит в темноте, не зажигает лампу.
Каждому, кто через заимку возвращался откуда-нибудь домой, радостно было видеть огонек в окне Иванова дома. Кругом пустынно и глухо, невесело ехать ночью по таким местам, и вдруг – огонек! Сначала не можешь понять, что за огонек, откуда, потом вспомнишь: да ведь это Татарская заимка! И сразу же пропадают невеселые мысли, навеянные одиночеством, глушью и темнотой, и дорога от Татарской заимки до твоей деревни не кажется такой длинной: коль живет здесь кто-то, значит, не такая это глушь, и тебе перестают мерещиться за каждым кустом волчьи глаза, и ты заранее знаешь, что на дороге стоит, подняв лапы, не медведь, а дерево, которое ты, конечно же, видел, когда ехал сюда, но забыл или не узнал в темноте. И ты оглядываешься на огонек возле Широкого болота еще и еще раз. Он уже скроется за поворотом, деревья обступят тебя, сомкнутся над тобой, даже неба не видно, а тебе все кажется, что ты видишь огонек в Ивановой избе, как будто он не позади остался, а впереди, еще только встретится, – и стук колес на корнях и ямках, шумное хлестанье веток, цепляющихся за ступицы колес, бодрый шаг лошади, знающей, что после заимки не так уж и далеко до деревни, все это и еще многое, о чем ты успел подумать за дорогу, покажется самым близким, ни с чем не сравнимым, и ты будешь думать о том, что никуда не уедешь отсюда, хоть иногда и похвастаешься: что вот, мол, все брошу и уеду если не в город, то хотя бы в райцентр. Ведь уехали большинство твоих сверстников!
В одну из таких темных, беззвездных ночей, возвращаясь по этой же дороге, ты сделаешь открытие, не такое уж и неожиданное для тебя: разве может быть лучше где-то далеко, а не там, где ты родился, где прошло твое детство?








