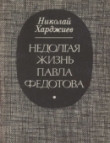Текст книги "Павел Федотов"
Автор книги: Эраст Кузнецов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 24 страниц)
Временами его карандаш обращался и на реальную жизнь, простиравшуюся за стенами лейб-гвардии Финляндского полка. В таких рисунках принято видеть предвосхищение интересов будущего художника, предчувствие им своего собственного пути. Это, конечно, так, хотя и требует известного уточнения.
Изображение обыденной городской жизни отнюдь не было чем-то экстраординарным для того времени, в том числе и для любительского художества. В старых альбомах рядом с амурами и букетами, надгробиями и головками нетрудно встретить и «типы» – будочника, дворника, чухонку-молочницу, фонарщика, трубочиста да кого угодно еще, и тут не содержалось решительно ничего нового. Пользовались успехом и юмористические сценки из городской жизни – их сочиняли, чтобы потешить друзей, но они были наделены живыми чертами реальности. Федотов, нарисовавший приятелю своему Базилевскому «модную барыню, щупающую кур, и еще всякой всячины», делал то, что и без него и до него делали многие любители.
Вот почему более всего надо видеть обещание будущего Федотова не здесь, а скорее в тех зарисовках, в которых вообще никакой цели не ставилось, кроме как бесхитростно воспроизвести увиденное.
Ту своеобразную, не всем доступную радость, которую приносит зоркое наблюдение над людской жизнью, Федотов узнал рано, еще в детстве, с высоты сенника, дававшего возможность видеть, что делается в соседних дворах. Со временем она стала одной из немногих житейских радостей, в которых он нуждался, а в поздние годы обратилась чуть ли не в манию, впрочем, манию профессиональную, полностью обращенную на творчество, питающую его.
Неся караул у Нарвских триумфальных ворот («колоссальное здание бронзовое со славами, богатырями, ворота, каких не бывало и в царстве титанов»), он написал: «Я стою в карауле, что может быть неприятнее, и стараюсь развлечься тем, что происходит вокруг меня интересного…» И подробнейшим образом с истинно живописными деталями воспроизвел впечатления: «Едет купец, уязвленный золотой стрелой корыстолюбия; едет бессеребреник, бескорыстный (поэт-любовник); едет эффектный гвардеец из отпуска; едут юные дети определиться, кто в корпус, в будущие Ахиллесы или повесы, кто в Смольный, доказать, что и в нашем климате могут расти розы, едут, не боясь нашего мороза, родители их, пожилые и старые, согретые любовью к детям своим; едут оскорбленные надежды без порядочной одежды; едет охотник травить зайца; едут блонды на травлю роскоши… едет слава на воротах, едет и мое почтение к стопам вашим». Все это будет написано немного позднее, несколько лет спустя, когда и сюжеты один за другим завязываются в голове, и морализаторство слегка намечается, и уже сыскался тот художник, которого хочется если не переплюнуть, то хотя бы взять в образец («Бессмертный Гогарт, воскресни со твоею кистью!»). Но и сейчас в дневник вдруг забредают записи: «…имел удовольствие видеть двух оригиналов провинциалов с их ужимочками…» (Каков! – сам в Петербурге чуть более года, а уж судит о провинциальных «ужимочках»!) Или: «Невский полон гуляющих – в одних сюртучках. Франты-гвардейцы». Что ему эти провинциалы, что ему эти гуляющие в одних сюртучках – а в память запало.
И стало возникать желание, – не сочиняя занимательного сюжета, не выстраивая композиции, не подбирая интересных деталей, не заботясь о точности рисунка, не стараясь никого ни потешать, ни поучать, вообще ни на что не претендуя, – передавать свои впечатления, запечатлевать жизнь такой, какой она сама явилась его непосредственному и непритязательному взгляду. Захотелось – и нарисовал «Продажу съестных припасов на рынке», возвратясь со своего ближнего Андреевского рынка. Захотелось – и нарисовал «На набережной Васильевского острова». Захотелось – и испещрил лист набросками только что подсмотренных уличных сценок. Спроси его: «Зачем?» – он бы и сам не смог ответить.
Это, конечно, еще не призвание, не понятие о своем художническом пути, но уже многое – инстинкт высокоодаренной натуры, еще не понимающей себя, своих возможностей, но исподволь пробирающейся к ним, – как бы между прочим, среди иных дел, которые до поры представляются важными, первостепенными.
Что же, как не инстинкт, толкнуло юного прапорщика, целиком поглощенного служебными заботами, уповающего на ровную военную карьеру, вдруг всерьез заняться своим художественным образованием? В самом деле, в июне 1834 года, то есть полгода спустя после вступления в полк, он получил билет № 241 на право посещения вечерних рисовальных классов Императорской Академии художеств. «Самолюбие подстрекнулось, а близкое соседство на Васильевском острове Академии и лейб-гвардии Финляндского полка, в котором служил, дало возможность походить иногда в свободные дни в вечерние рисовальные классы Академии поучиться».
От казарм полка до академии действительно рукой подать, но решиться проделать этот путь не так уж легко.
Существование художника дилетанта, почитаемого в своем кругу, имеет скользкую сторону. Репутация полкового Рафаэля или батальонного Корреджо ласкает самолюбие, но ни к чему серьезному не обязывает: и так будет хорош. Чтобы вырваться из этого сладкого плена, нужны талант недюжинного масштаба, характер, стимул, сильное самолюбие, которое не склонно довольствоваться малым даже на малом поле деятельности.
Что-то заговорило в Федотове. И «самолюбие подстрекнулось» – быть первым. И сам стал ощущать недостаточность своего небольшого умения: видел, что получается не то, чего бы хотелось, что так красиво и чисто выходит у настоящих художников. А по природе своей он был человек собранный, аккуратный, четкий; во всем – в жизни, в службе, в рисовании – стремился к тому, чтобы получалось ладно, как должно быть, не хуже других, – и умел добиваться этого с известной долей педантизма, здесь, впрочем, весьма уместного.
Правда, вечерние рисовальные классы не были в точном смысле слова профессиональным учебным заведением. И порядки там были вольные: хочешь – ходи, не хочешь – не ходи. И собирались здесь главным образом любители, желавшие усовершенствоваться, причем самого разного состояния (в начале 1830-х годов сюда заскакивал и юный Гоголь), а среди них немало офицеров, даже гвардейских. Излишне говорить, что никто из них не помышлял о карьере художника.
Федор Львов, тоже ходивший в классы в 1830-х годах, перечислил некоторых – конногвардейца князя Щербатова, гвардейского сапера Зацепина, лейб-егеря Степанова. Некоторых назвал и сам Федотов: «…рядом сидит сын лавочника, по другую сторону камер-юнкер Вонлярлярский, впереди конногвардеец Вуич, рядом с ним ученик Академии – мальчик в курточке; там сзади – чиновники, опять академисты, там опять офицер, опять какой-то драный уличный замарашка, разные по летам и нарядам, но с одинаковым соревнованием, углубясь на свой лист, хлопочут не поддаться друг другу. На экзамене номера ставят не по чинам. Сладко недостаточному и без связей человеку попасть туда, где каприз фортуны нипочем. Дорога открыта всякому…» Да и билет на посещение классов был дешев.
Поначалу Федотов возлагал на классы большие надежды, следуя несколько прямолинейной логике: если в кадетском корпусе его толково обучили армейскому делу, то где кроме как в академии толково обучат делу художественному. После необходимых приемных испытаний определен он был во второй класс оригинальных фигур. Не будем обмануты непривычным для нас словоупотреблением – ничем оригинальным в этом классе как раз не занимались, а медленно и тщательно копировали «оригиналы», то есть образцовые рисунки; это была первоначальная стадия обучения. Надо думать, что способности нашего героя были замечены, потому что он попал не в первый, а во второй класс. Потом, если всё пойдет успешно, ему предстояло перебраться в классы гипсовых голов, потом в классы гипсовых фигур, чтобы в конце концов быть допущенным в класс натурный.
Классы он посещал «хотя прерывисто, но с любовью», а если быть честным, то очень уж «прерывисто»: в 1835 году занимался только первое полугодие (да и то не полностью, потому что болел и даже передавал через сослуживца Круговихина рисунок на экзамен), в 1836-м вовсе не ходил, в 1837-м – снова только первое полугодие (потом проводил отпуск в Москве), а там и забросил до самого 1841 года, когда во втором полугодии снова пошел, правда, уже был допущен сразу в класс гипсовых фигур, миновав класс гипсовых голов, судя по чему пропущенное время не проходило зря.
Конечно, мешала служба: когда караул – в классы не пойдешь. А не караул, так еще что-нибудь – начальство изобретательно. Но дело не только в службе. Сама академическая система, основанная на долгом высиживании и медленном переползании из класса в класс, годилась для мальчишек, у которых не то что молодость, но и юность была впереди. Взрослому человеку было неинтересно и как-то ни к чему топтаться на месте, корпеть над «оригиналами», когда дома он изо дня в день рисовал живых людей. Тут никакая усидчивость, никакой педантизм не переборят очевидного. Так и сложилось, что он посещал классы от случая к случаю, ухватывая там все, что ему полезно было, а в прочем полагаясь на себя.
Излишне распространяться о том, что самообразование художника имеет тьму недостатков – иначе бы художники-автодидакты плодились как грибы. При всем том встречаем же мы среди них и Ван Гога, и Гогена. А мало ли мастеров, формально (по справке в биографическом словаре) числясь за разными академиями, школами, студиями, курсами, мастерскими, на самом деле образовывали себя сами и своим успехом были обязаны себе самим – когда главным образом, а когда и исключительно.
Самообразование не дает лазейки механическому натаскиванию в навыках, оно требует собственной активности, осмысленности того, что делаешь, – никто не подскажет, не поправит, никто не ткнет пальцем в неудачное место. Все надо пробовать, обдумывать, решать самому, на свой страх и риск, всякий раз сосредотачиваясь на деле и стремясь все свои отвлеченные познания и сведения худо-бедно, но применить практически. Испытывать, ошибаться, разбивать нос, порою больно, но чем больнее, тем памятнее: однажды сунувшись на неверный путь, второй раз по нему не пустишься.
Одна беда (впрочем, как поглядеть – скорее преимущество) – это путь не для всякого. Нужен не только талант большого масштаба, нужны и упорство, настойчивость, последовательность и все тот же педантизм (который так редко уживается с талантом), способность быть жестким к себе и умение, раз начав, доводить начатое до конца. Не будь этого – леность легко отыщет повсюду спасительную подсказку, шаблон, приемчик, и подсказка эта станет во сто крат вреднее, чем подсказка многоопытного, проевшего зубы на антиках академического профессора.
У Федотова был талант, был и характер. Он взялся за дело серьезно. Прежде всего он, и это естественно, постарался следовать тому, что было принято по педагогике того времени, чему учили в Академии художеств. Завел у себя «оригиналы», только не рисованные, а литографированные (их продавали в лавках для удобства любителей). Завел – развесил по стенам и расставил где мог – кое-какие гипсы: носы, руки, ноги, лица, и в первую очередь голову непременного Аполлона Бельведерского, его же правую длань, простертую в величественном жесте.
Он копировал «оригиналы», рисовал гипсы, постигая высокие образцы изящного; рисовал и драпировки – развешивал их на веревке, протянутой поперек комнаты, стараясь скомпоновать их красивыми, набегающими друг на друга складками, как у антиков. Правда, и гипсы, и тем более драпировки полагались преждевременными для зачисленного во второй оригинальный класс и обязанного только копировать, копировать и копировать – он это знал, но пренебрег: почувствовал, что на одной копировке далеко не уедешь.
Он постарался раздобыть существовавшие тогда различные пособия для начинающих художников по пластической анатомии, по перспективе – и все это добросовестно читал, изучал, повторял чертежи и схемы, как приучен был еще в корпусе; во всё старался вникнуть основательно. Ездил верхом на этюды в Парголово; так и нарисовал себя – с большой папкой, притороченной к седлу, с папироской в руке.
Разумеется, присматривался к картинам старых мастеров. Наверное, получил разрешение посещать Строгановскую галерею, знаменитую коллекцией западной живописи, не миновал и Кушелевскую галерею, а может быть, и галерею Палацци, где можно было увидеть кое-что из новинок. Что же до Императорского Эрмитажа, то в нем он был давний завсегдатай и посвятил ему немало часов. Дружинин вспоминал: «Павел Андреевич… часто бывал в Эрмитаже и возвращался оттуда в восторженном настроении. Теньер и фан-Остад были его любимцами. Нельзя было без хохота слушать его рассказов о содержании той или другой картины этих мастеров: зоркий глаз его мастерски подмечал все особенно комическое, все более доступное поверхностным любителям живописи. Раза два мы были в Эрмитаже с ним вместе, и всякий раз он, так сказать, двумя-тремя словами приковывал все мое внимание к которой-нибудь из своих любимых вещей…»
Отнюдь не в укор нашему герою надобно заметить, что в его нежности к Давиду Теньеру (Тенирсу) и Адриану ван Остаде, на которой так многозначительно настаивают биографы, не содержалось по тем временам ровно ничего исключительного, указывавшего на самостоятельный вкус.11 Оба эти живописца ходили в любимцах у тогдашней публики, оба были предметом восторгов, восхищаться ими едва ли не полагалось. Да и привлекали они Федотова, увы, тем, что действительно было доступно «поверхностным ценителям живописи»: «Глядите-ка, глядите сюда, – говорил он, подходя к большому изображению одной из фламандских пирушек Теньера, – вон смотрите, как хозяйка выгоняет метлой буяна. Ему хочется назад… полюбуйтесь, полюбуйтесь: он так и удирает! А здесь (картина изображала народную пляску), смотрите, как вот тот плясун поднял свою толстуху и подбросил ее на воздух! Как все веселятся, и какие рожи довольные! Самому так весело становится!»
А 8 мая 1837 года он даже получил разрешение копировать картины, находящиеся в эрмитажном собрании. Воспользовался ли этим разрешением и точно ли предполагал копировать? Скорее всего, нет, потому что о масляных красках тогда еще не помышлял. Но он мог делать беглые карандашные «срисовки», вникая в рисунок и композицию. Наверно, ему и раньше приходилось этим заниматься – но украдкой, отбывая караульную службу, прямо в кивере, перчатках, затянутым в мундир и тесные панталоны, – подобно тому, как зарисовывал картины тот же Федор Львов, такой же гвардеец.
Словом, он старался делать все, что было положено по тогдашним правилам обучения. Правда, далеко не все выходило именно так, как в Академии художеств.
У него не было возможности просиживать многие часы, неторопливо выделывая и отчеканивая рисунки с гипсов – с того же Аполлона. Он делал рисунки более быстрые, на час-два, а то и короче, стремясь за это время возможно точнее ухватить и передать главное. Изобразил Аполлонову длань в одном ракурсе, поворотил в другой, потом в третий, потом в четвертый, в пятый – глядь, и вся длань понята и осмыслена в своей пластике.
Такой способ учиться сложился у него невольно, в силу обстоятельств казарменной жизни, вряд ли он над ним задумывался. Однако тут содержалась очевидная польза, даже преимущество перед академической учебой. Длительная академическая штудия полезна по-своему – она дисциплинирует; между тем она же способна взрастить в ученике привычку к добротному, но пассивному срисовыванию того, что видит глаз. Постановка более кратковременная активизирует, заставляет энергичнее и сознательнее воспринимать форму в пространстве и заново выстраивать ее на плоскости листа. На то, что было понято педагогами значительно позднее, уже в нашем веке, Федотов набрел интуитивно.
Он придумал сам себе и другое занятие, род учебы. «В пользу рисования строил гримасы перед зеркалом…» – написал он в дневнике с присущей ему витиеватостью выражения. Понять, что это значит, помогает лист, сохранившийся среди его рисунков. На листе – глаза, или, если быть точным, один, правый федотовский глаз, рисованный скупо, обобщенно, но точно. Вот он спокойно смотрит в зеркало. Рядом же – заметно сузился, а бровь гневно нахмурилась, и складка верхнего века тяжело нависла над глазом – ни дать ни взять, как у микеланджеловского Давида. Рядом – он же, раскрылся шире, бровь изогнулась резче, а мускулы собрались сильными складками – до Лаокоона, пожалуй, недотягивает, но метит, точно, в Лаокоона. Рядом – глаз смеющийся, искрящийся, окруженный набежавшими вокруг складками. Рядом – то ли недоумевающий, то ли испуганный, покинутый бровью, которая взлетела, сморщив лоб, так высоко, как только смогла. Тут сразу урок и рисования, и мимики, и пластической анатомии: как «круговой» мускул глаза взаимодействует с «пирамидальным» и со «сморщивающим брови».
На том же листе – быстрые, полусхематические наброски глаза в разных ракурсах, уже не только своего, но и чужого, или с гипса, а вернее, и то и другое. На отдельном листе одни только губы: смеющиеся, улыбающиеся, гневные, строгие, скорбные, приоткрытые, плотно сжатые и прочие. Сколько же еще рук, ног, глаз, носов, ртов, ушей, подбородков было запечатлено старательным карандашом – штудий и упражнений, в которых настойчиво и педантично закладывалось будущее высокое мастерство рисовальщика. Сколько изрисовано было таких листов, не сулящих молодому художнику самых слабых восторгов почитателей, не предлагаемых чужому глазу, без церемонии скомканных, изорванных, выброшенных или послуживших в домашнем обиходе.
Федотов начинал как любитель, любителем долго оставался, да и самый переход от любительства к серьезному профессиональному творчеству у него оказался затянутым. В ином это обстоятельство закрепило бы чисто дилетантскую безответственность – перед делом, перед зрителем, перед самим собою, наконец. В ином – но не в Федотове.
Человек скромный и добросовестный, он всегда помнил, что не получил законченного целостного художественного образования, что умение его прерывисто и неравномерно, а все возраставшая серьезность возникавших перед ним задач постоянно напоминала ему о необходимости быть на уровне этих задач. Все вместе взятое породило в нем непреходящее ощущение своей неумелости, все обязывало эту неумелость, стиснув зубы, любой ценой, вновь и вновь перебарывать. Он не смог бы когда-то вдруг остановиться, сказав себе: «Слава богу, всему научился, теперь буду творить» (опасное заблуждение, сколько дарований оно сгубило!). Он привык учиться в ходе самой работы, привык все время чего-то достигать, и вся его творческая жизнь была, в сущности, сплошной и нескончаемой учебой.
Как ни отдавай должное его упражнениям, штудиям с гипсов, изучению перспективы, посещению рисовальных классов и прочим глубоко полезным вещам, все-таки главной школой ему стала сама практика рисования, то самое дилетантское художество, которым неозабоченно занимались тысячи и тысячи любителей помимо него и в которое он вкладывал гораздо больше серьезности, вдохновения и страсти, чем любой из этих тысяч. Чем дальше шло время, тем все менее удовлетворялся он возможностью поразить снисходительное воображение приятелей наскоро исполненным листом и все более углублялся в решение то малых, то больших задач, которые возникали перед ним одна за другой, подобно головам Змея Горыныча, – задач, вряд ли заметных и понятных его зрителям, но для него обретавших первостепенную важность.
Кое-чему учила его и карикатура – группировать персонажей естественно и складно, отбрасывать ненужные подробности, замусоривающие рисунок, провести одну, но точную черту вместо нескольких приблизительных, избавляться от грязи, которая так упрямо сама собою возникала под его кистью в первых опытах акварелью. Но все-таки карикатура – менее взыскующий род творчества, и, что говорить, уместность вовремя зародившейся остроты сплошь и рядом нам дороже, чем формальное совершенство.
Иное дело портрет. Каждый из них требовал долгого и серьезного, не на день, труда. Портрет был единственным возможным в ту дофотографическую пору документальным изображением человека. Портреты берегли, вешали на стены, ставили на письменные столы и даже помещали в специальные футляры, чтобы брать с собою в дорогу. Для портретируемого это было напоминание о нем самом в былые годы, для близких и потомков – напоминание о том, кто их покинул. Портрету суждена была долгая жизнь, портрет был такой же нужной вещью, как подсвечник, чашка, шкатулка или хотя бы табакерка, – его и надо было делать так, чтобы он в своем повседневном существовании мог потягаться с этими ладно сработанными, а порою и дорогими вещами. Он сам собою обязывал к формальному совершенству, ну или хотя бы к заменяющему его внешнему лоску, что тоже не так уж легко дается.
Именно в портрете умение Федотова укреплялось разительно быстро. Многие из его портретов, исполненных через какой-нибудь год-полтора после начала занятий рисованием, удивляют явной мастеровитостью. Это свидетельство большого дарования.
Правда, кое-что этому и способствовало. В России уже существовала отличная и широко распространенная традиция небольшого «домашнего» портрета – миниатюрного, карандашного, акварельного. Уже выработались образцы, каноны, приемы, ухватки, которые можно было при усидчивости освоить и воспринять, а восприняв и использовав, сравнительно быстро добиться результата.
Вот почему и мастерство федотовских ранних портретов – сколь очевидное, столь же и одностороннее, со своими скрытыми, а то и не скрытыми слабостями. В одном портрете как будто безупречно вылепил лицо, а с глазами не справился – посадил их неточно, вразнобой. В другом посягнул на компоновку, на связь с окружающим – и потерялся, фигура прилипла к стене. В третьем… впрочем, к чему ловить на погрешностях совсем молодого человека, только-только начавшего рисовать, не получившего никакой школы, до всего доходящего самостоятельно.
И потом, что греха таить, как ни сложно и высоко искусство портрета, и в нем есть свои легкие стороны, или, лучше сказать, в нем при желании кое-что можно обойти, ограничившись известным ремесленным шаблоном. Можно не заботиться о композиции, повторяя одну и ту же: голова на плечах, срез погрудный; одному голову вправо, другому влево. Даже мастерство рисунка здесь ограничено умением передать рельеф лица, ну и как-то толково связать голову с шеей и плечами, а придал этой связи некоторую индивидуальность – и довольно. А руки, как и все прочее от человека, можно оставить за пределами рисунка. Можно не заботиться о сложностях передачи пространства, в котором человек находится, а просто сохранить чистый фон бумаги – и вся недолга.
Федотов на первых порах охотно пользовался распространенными портретными приемами, чтобы добиться необходимой ему выделанности, и в том нет ничего ни странного, ни зазорного. Удивительно (для дилетанта) иное: овладевая ремесленными приемами, усваивая технику, Федотов не склонен был останавливаться на том, что гладко вышло, коснеть в том, что затвердилось, а шел дальше, дерзал на еще неизвестное, отваживался на неосвоенное. Его ранние портреты очень разностильны. В любом ином случае это показалось бы недостатком, здесь же – достоинством: он старается перепробовать всё, освоить всё и лишь потом, со временем, начинает вырабатывать свой собственный стиль.
Так или иначе, но умение Федотова быстро и заметно росло. Не сравнить первую, известную нам, а может быть, вообще первую или одну из первых, акварель 1834 года «Иностранные военные атташе на репетиции парада…» с любой другой следующего 1835-го, тем более 1836 года – кисть стала свободнее, краска ложится легко и чисто, не замученно, и рисунок уверен. Он многим овладел, а там, где еще не овладел, – брал упорством, настойчивостью (характера было не занимать).
Петр Лебедев, знававший Федотова еще по корпусу, заметил в нем перемену: «В прежнем любителе картинок уже резко обозначилось художественное направление». Может быть, в этих словах содержится некоторое преувеличение (понятное в воспоминаниях, писанных о будущем великом художнике), но все-таки действительно что-то переменилось, даже для постороннего и не очень искушенного взгляда. Федотов слишком явно выделялся среди рисующих сослуживцев.
Правда, пока еще выделялся скорее уровнем, чем характером творчества, – по своим целям и тематике оно оставалось все тем же домашним рисованием, бытом рожденным и в быту остающимся. Художника-профессионала отличает работа на общество, он делает необходимое не только самому себе и своим друзьям, но и другим людям, обществу – в широком смысле, да и в узком. Вывесочник – профессионал, потому что он делает вывески. Живописец – профессионал, потому что он делает картины, которые смотрят на выставках и покупают. И тот и другой нужны публике.
Справедливости ради надо заметить, что и у Федотова довольно рано открылся выход профессионального приложения сил, правда, очень уж незначительный, скорее лазейка.
Мысль о приработке должна была завладеть им с первых же шагов самостоятельной жизни, как только поиздержалось офицерское пособие, показавшееся на первых порах таким громадным. Как жестко ни экономь и ни выгадывай, а жалованья хватит с трудом, да и нелегко в 20 лет лишать себя хоть каких-то удовольствий, а вместе с ними и компании, товарищества.
Люди, разделявшие с ним распространенную болезнь безденежья, скажем, мелкие чиновники, сплошь и рядом занимались каким-нибудь скромным промыслом, позволяющим сводить концы с концами и даже просветлять свое существование малыми радостями: раскрашивали гравюры и лубки для продажи в лавках, расписывали яйца к Пасхе, изготовляли из папье-маше («лепили из бумаги») простенькие игрушки, делали искусственные цветы или выращивали цветы живые в собственном палисадничке, переписывали бумаги или ноты – да мало ли еще что, кто к чему горазд и чему способствуют обстоятельства.
Ловкие федотовские руки многое могли бы – он и рамки мастерил, и футляр для часов, и яйца шелком красил, – но все это исключительно для самого себя или в угождение дружбе, гвардейский мундир вставал неодолимой преградой к каждому из распространенных побочных занятий. Ведь и мелкие чиновники, стесняясь своего приработка, не решались открыто сбывать изделия и всячески скрывали это. Сговариваться с каким-нибудь лавочником и превращать свои комнаты (тем более живя при полку) в подобие мастерской было немыслимо – неприлично. Так и полка можно было лишиться.
Бесполезны оказывались и его многочисленные дарования, так сказать, артистического свойства: ни флейтой, ни гитарой, ни приятным тенором прирабатывать он тоже не мог.
Казалось бы, прямой резон получать деньги за портреты, имевшие среди сослуживцев такой успех, – однако он того себе не позволял, и все портреты расходились как подарки. Дело было не только в щедрости натуры, но и во вполне трезвых соображениях. Начни он зарабатывать портретированием товарищей – и сразу (или не сразу, все равно) из равного, такого же как все, только поталантливее, да еще великодушно одаривающего, он превратился бы в услуживающего, в наемного работника, то есть стал бы ступенькой ниже. К офицерской чести это не шло.
Иное дело портреты высочайших особ: императора и его августейшего брата, великого князя Михаила Павловича. С одной стороны, самый предмет был более чем благороден и патриотичен. С другой стороны, в этих портретах сохранялась отчужденность от личных сношений, что позволяло им легко и неоскорбительно для чести Федотова становиться товаром. Знали ли о том его товарищи по полку? Кто-то мог знать, для других же этот промысел мог остаться незамеченным, затеряться среди прочих рисовальных дел. Да, может быть, и не один он так промышлял. Вон и сослуживец Базин «приносил царя портрет, чрезвычайно похожий» – приносил, скорее всего, на совет к более сильному товарищу. Не для собственного же удовольствия рисовал он Николая Павловича. Впрочем, как знать, как знать…
На парадный портрет Федотов, естественно, не претендовал, тут все было ему не под силу: и размеры, и самые масляные краски, за которые он браться не рисковал. Но небольшие портретики для сугубо домашнего употребления – это было по Федотову. (Не для них ли, кстати, он делал и свои рамки, хотя бы для некоторых из них?)
Таких портретиков, исполненных акварелью на осьмушках веленевой бумаги, Федотов перерисовал множество (Дружинин говорит о двадцати, но тут как раз ему не стоит доверяться: в полку он появился гораздо позднее, перед самым уходом Федотова в отставку). Разумеется, торговал он не сам, а передавал их по договоренности в лавку. Как будто шли они хорошо, продавались в тот же день, и купцы упрашивали художника делать еще и еще. Стоили портретики недорого (так, Николай Губерти приобрел один из них у самого художника всего за пять рублей ассигнациями),12 а сколько из их стоимости приходилось Федотову – неизвестно.
Несколько из них сохранилось. Они сделаны чрезвычайно добротно, в манере, близкой к акварельной миниатюре, мазочек к мазочку, и отличаются несомненным сходством. Николая I рисовать приходилось, само собою, не с натуры, а с чужих оригиналов, дополняя их собственными впечатлениями, собранными на парадах и смотрах. В дневнике Федотов как-то упоминает об одном из таких оригиналов (работы некоего Голдгойера-отца) – его дали всего на шесть часов, и надо было срочно работать. Михаила Павловича же, шефа императорской гвардии, он знал несравненно лучше, видел и чаще, и гораздо ближе, может быть, даже удостаивался короткой беседы. Любопытно, что на портретах этих Михаил Павлович выглядит довольно непривлекательным: то ли на самом деле он был еще противнее, то ли простодушие бытового портрета пересиливало эстетику портрета официального.
Пробовал Федотов запечатлеть и Александра I; одно такое изображение сохранилось – не акварельное, а карандашное – тщательная, штрих в штрих копия с литографии. Но только одно, потому что на покойного, пусть и почитаемого монарха спрос всегда пониже.
Порывался и на расширение размаха деятельности – вел переговоры о том, чтобы литографировать портрет императора. С Юнгером не договорился («с немцем не столкуешь» – в сердцах занес в дневник), направился к Прево, тот оказался сговорчивее и взялся исполнить 25 или 30 экземпляров. «Отдал, авось выручу что-нибудь: дома – ни то ни се, и все и ничего…» Чем кончилась вся затея – неизвестно, но скорее всего ничем – деляческой жилки Федотову всегда недоставало.