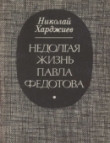Текст книги "Павел Федотов"
Автор книги: Эраст Кузнецов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 24 страниц)
Не та же самая жажда страстей и потрясений влекла его в театр?
В театре он бывал теперь гораздо чаще. Дороговизна билетов уже не отпугивала: ставший таким, как все, он мог теперь позволить себе роскошь, недоступную гвардейскому офицеру, – ходить в раек. Преимущества райка заключались не только в дешевизне. Жизнь, окружавшая его здесь, была куда как интереснее, нежели та, которая кишела где-то внизу – в партере, в ложах, в местах за креслами, едва различимая в блеске эполет и драгоценностей, в трепетании дамских вееров, едва доносившаяся единым ровным жужжанием, в которое сливалась праздная светская болтовня.
Вечный обитатель окраины и живописатель окраинных, непарадных сторон человеческого бытия, он и в театре тянулся ко всему непарадному, будничному, изнаночному.
Сами громадные здания Александрийского и Большого театров притягивали его не роскошными фойе, куда он не хотел и не смел спускаться, но всякого рода темными коридорчиками, лесенками, закоулками и тупичками. Любопытство даже завело его как-то в неведомое зрителям помещение под самой крышей, где в полу зияла огороженная решеткой дыра – в нее каждый вечер спускали и поднимали громадную люстру. Зрелище партера, открывшегося в дыре, прямо под ногами, было так диковинно, что он загляделся и даже пристал с расспросами к служителю, без церемонии выпроводившему пришельца дослушивать «Гугенотов».
Сидя в райке бок о бок с лавочниками, мастеровыми, слугами, бедными чиновниками, студентами и прочим простым людом, он оказывался в увлекательной для него житейской стихии и порою разрывался между желанием смотреть на сцену и потребностью оглянуться вокруг – так чистосердечно изъявляли его соседи свои чувства, так непринужденно выказывали свои характеры и вкусы, так резво и дружно вскакивали на ноги и цепенели, когда являлся на сцене престарелый отец, кознями недоброжелателей в течение многих лет отринутый от семейства, или невинная добродетельная героиня счастливо избавлялась из нечистых объятий злодея. И сам он точно так же вскакивал на ноги, так же цепенел, и замирал, и хохотал вместе со всеми.
Театр в ту пору процветал, превосходные актеры блистали в нем – Каратыгин, Мартынов, Самойлов, Сосницкий; не раз наезжал из Москвы Мочалов. При всем том учебником жизни театр тогда никак нельзя было назвать, и в этом смысле он, подобно живописи, сильно отставал от литературы: жизненная повседневность если и просачивалась на сцену в водевилях, то уж вовсе не заявляла о себе в исторических трагедиях и мелодрамах, заполнявших репертуар.
Но зачем было Федотову учиться в театре жизни? На то была перед ним сама жизнь. А вот незабываемые мгновения полета души, неизъяснимого восторга, вдруг переполняющего тебя, трепета от чужих страстей, бросающих то в жар, то в холод, великого опьянения небывалым, отрешающим от будничного, – мог ему подарить только театр.
Если и учился он чему-то у театра, так не жизни, а искусству. Сцена по-прежнему оставалась для него непревзойденным образцом того, как можно красиво и выразительно расположить и показать зрелище человеческого существования; жесты и мимика и самая позировка актеров показывали, какими зримыми и наглядными могут стать самые тайные, самые сокровенные чувства и побуждения человека.
Все театральные ухватки и приемы тем более легко было перенимать и приспосабливать к своему делу, что театр того времени, как уже было сказано, сам привык подражать картине, равно как и картина – театру, и весь спектакль представал чередой «живых картин», только что заключенных не в золоченую багетную раму, а в громадный портал сцены. Театр и живопись говорили на общем языке, и язык этот художнику надо было усвоить в совершенстве для того, чтобы его поняли зрители. (Федотову еще предстояло отказаться от него – и оказаться непонятым.)
Словом, театр увлек его. Он даже свел театральное знакомство – и не с кем-нибудь, а с Василием Самойловым, уже тогда широко известным актером.
Казалось бы, ему в самый раз сойтись с другим александрийцем, великим Александром Мартыновым, почти ровесником Федотову, актером редкого (сродни федотовскому) трагикомического склада, непревзойденным певцом горестей и радостей маленького человека, изворачивающегося в «медвежьих лапах» российской действительности. Так нет же, сдружился с Самойловым, «протеем русской сцены» – блестящим лицедеем, виртуозным создателем острых человеческих масок. Случай прихотлив. Впрочем, случай их, верно, лишь столкнул, а сблизил уже не случай, а взаимный интерес.
Федотовский круг продолжал меняться. Старых, от полка, приятелей становилось в нем все меньше, да и те мало-помалу отходили на задний план, исключая разве что самых-самых, вроде неистребимых друзей Ждановичей или Рейслеров со всеми их домами.
В повадках общежития Федотов был в известном смысле рационалистом. Его широко известное доброжелательство было слишком уж безупречно и неизменно и слишком уж ровно распределялось среди тех, с кем его сталкивали обстоятельства, чтобы за ним стояла безудержная и всепоглощающая жажда доверительного чистосердечного общения. Жизнь учила его общительности с первых самостоятельных шагов, и учила на совесть. Но по-настоящему ему хватило бы близкого участия очень немногих истинных друзей, может быть, только трех, тех, с кем он пожелал проститься перед смертью – Рейслера, Бейдемана (злосчастная история с Еленой была предана обоюдному забвению, и дружба воссияла вновь) и Дружинина.
И все же общество и общение в самом деле были интересны ему, и новых знакомств он не чурался, а охотно шел им навстречу.
Нужны были непрестанные наблюдения над человеческой натурой – не только те быстролетные, которые в изобилии поставляла ему улица, но и те длительные, скрупулезные, которые может дать только близкое и постоянное общение.
Нужна была (он давно это понял) и известная разрядка, отдых, возможность расслабиться в непринужденной беседе, в легком ухаживании за дамами, в острословии.
Наконец, нужны были, и чем дальше, тем больше, всевозможные новости, которых он был лишен в своем затворничестве, разные мнения и их стычка в свободном, а порою горячечном российском разговоре – к ним он прислушивался, над ними после раздумывал, пытаясь разобраться.
Разбираться было трудно. Говорил ли один из спорщиков – Федотов готов был с ним согласиться во всем, так сказанное было верно. Вступал ли в спор его оппонент – и тот оказывался решительно прав в любом слове, и его аргументы были не слабые. Все противоречили друг другу, и каждый был прав по-своему – и дерзкие мечтатели, убежденные в том, что жизнь надо переменять, и как можно решительнее, и трезвые консерваторы, взывавшие к мудрости высшего промысла, устроившего жизнь именно такой, пугавшие разрушительным хаосом. Все были правы – а жизнь не становилась ни лучше, ни хотя бы понятнее от их разумных и справедливых речений. Мир, когда-то представлявшийся таким простым в своих генеральных нравственных началах, которые надо было для достижения гармонии и благоденствия всего-то и делать, что исправно поддерживать, просвещая заблудших, – этот мир оказывался все более сложным, не поддающимся ни исправлению, ни истолкованию, – противоречивым до мучительной безнадежности. Это новое отношение к миру, которое зарождалось в нем, не несло отрады, и, может быть, он был бы рад возвратиться под сень успокоительной веры в силу высшего Промысла и даже в справедливую мудрость предначертаний и установлений Российской Империи, но назад пути не было.
Менялось не только окружение Федотова – менялось и отношение к нему. Раньше он был дилетант, один из многих, разве что подаровитее. Ему воздавали, но то был успех зрячего в стране слепцов. Сейчас же о нем, о некоем отставном офицере, делающем что-то удивительное, стали поговаривать среди людей, причастных к искусству, и его младшие (порою не намного моложе его) товарищи стали посматривать на него с пиететом.
Он шел туда, куда уже стремились некоторые из художников, но куда еще никто не знал верной дороги. Его безупречное мастерство, словно непонятно откуда взявшееся, его судьба художника, самого себя выучившего и воспитавшего, его положение частного лица, не защищенного ни одним из механизмов государственной службы, не пользующегося ничьей поддержкой, живущего как ему вздумается и делающего то, что ему хочется, – все было необычно, все внушало к нему уважение.
К Федотову все чаще начинали прислушиваться – не только когда он брал в руки гитару или читал стихи, но и когда речь шла об искусстве. Если он и раньше не любил держаться робким молодым человеком, ищущим покровительства, то теперь за ним стояло его дело, дававшее определенные права. Его звали поглядеть новую картину товарища – он смотрел, просили сказать мнение – он говорил, спрашивали совета – он давал, неизменно сохраняя деликатность, присущую ему.
«Расхаживая с ним по чьей-нибудь галерее или по залам Академии во время выставки, нужно было дивиться его беспристрастной, или, скорее, пристрастной в хорошую сторону натуре. Для маленькой искры таланта он прощал все ошибки, ее глушившие; если и таланта не было, он чтил трудолюбие художника, хвалил выбор сюжета, указывал на какую-нибудь малейшую дельно выполненную подробность. Людям, дающим волю своей зависти, стоило иногда послушать эти оценки.
– Не глядите на эти деревья: это веники, – говорил он, – да ведь и старые итальянцы писали веники на своих фонах. Обратите внимание на грацию головки и на эту складочку. – А вот полюбуйтесь на этого голяка, что стоит на коленях. Он в восторге: видно, что у него сердце хочет из груди выпрыгнуть. Освещение… ну да незачем глядеть на освещение! – А вот заметьте, что значит писать на память, без натуры, от себя: у этого сидящего старика нога будет в сажень, если ее вытянуть; зато как милы две девушки по сторонам. Писал француз – французу все прощается.
Терпимость Федотова могла назваться безграничной; даже в его осуждении всегда было нечто мягкое, смягчающее резкость главного приговора. Мимо картин, плохих до крайности, проходил он молча и как бы торопливо: никогда не позволял он себе глумиться над бездарностью, наносить удар упавшему человеку…» – вспоминал Дружинин.
И все же, как ни возрастал его авторитет у художников, как сам он ни оценивал сделанное – все это было еще не то. Главная проверка была еще впереди: выставка. Только она одна могла установить истинную цену его терзаниям, жертвам, труду и подвижничеству.
Положенной годичной выставки Академии художеств в 1848 году не было, но Федотова это не огорчило: со «Сватовством майора» он бы все равно на нее не поспел, а именно «Сватовство» было тем главным, на что возлагалось более всего надежд. Он ждал с замиранием сердца трехгодичной выставки.
Она открылась 2 октября 1849 года и продолжалась ровно две недели.
Успех пришел в первый же день, и успех разительный. Сначала посетители ровно растеклись по всем залам, где висели саженные исторические композиции, парадные портреты, слащавые ненатуральные пейзажи – свежие, недавно сработанные, но ровно ничем не отличавшиеся от прежних. Все это было видано и перевидано, исключая разве что недавно привезенных из Италии, исполненных там по специальному заказу копий с прославленных картин старых мастеров. Но понемногу все залы стали пустеть, а в предпоследнем из них собралась толпа – там висели три картины Федотова: «Свежий кавалер, или Следствие пирушки и упреки» (так ее назвали), «Разборчивая невеста» и «Поправка обстоятельств, или Сватовство» (тоже отчасти переименованная).
Об удивительных картинах пошли слухи по городу, началось паломничество любопытствующих; иные приезжали по нескольку раз, да еще прихватывая с собою новых и новых знакомых. Сначала Федотов, почти не покидавший выставку, робко таился среди посетителей, прислушиваясь к спорам и толкам и стараясь лишь сохранить безразличное выражение на лице. Потом он осмелел, сам стал приводить друзей и давать пояснения. Пробиваясь сквозь толпу, он уже позволял выказывать себя как автор – зрители почтительно расступались перед ним. Потом он осмелел еще более – решился читать перед незнакомой публикой собственные стихи, посвященные «Сватовству майора», которые, вне всякого сомнения, оказались в центре внимания.
Поэма «Поправка обстоятельств» к тому времени давно была закончена и ходила по рукам. Успех картины сразу прибавил ей известности, и писари не разгибали спины, множа списки. Однако она, в силу насмешливых и критических суждений, в ней содержащихся, не могла быть опубликована, и сам Федотов решался читать ее вслух исключительно в «своей» компании. В публичном же месте о чтении поэмы и речи не могло быть; впрочем, она для того была и слишком пространна.
Перед картиной Федотов читал совсем другое сочинение, написанное либо незадолго до выставки, либо (и скорее всего, экспромтом) как раз в те дни, когда явилась неожиданно необходимость давать пояснения толпе незнакомых людей.
Стихотворение он иронически назвал «рацеей», иначе говоря, длинной и нудной назидательной речью, – словцом, заимствованным из семинаристского жаргона. Если угодно, ирония прежде всего относилась к самому автору. Ведь именно в эти дни, обедая с Дружининым и несколькими друзьями, он все еще продолжал настаивать на том, что «каждое из его произведений должно содействовать исправлению нравов», и даже подкрепил это суждение примерами: «В “Последствии пирушки” всякий зритель усмотрит вред от нерасчетливой жизни, от дурных сообщников. “Сватовство” приведет на мысль унизительное положение праздного человека, ищущего поправки обстоятельств посредством нелепого брака…» Противоречие между скудной моралью и тем впечатлением, которое производила самая картина «Сватовство майора», было слишком очевидно, и разгорелся спор, в ходе которого один из приятелей резонно заметил: «Эти уроки о вреде праздности и дурной компании скажет человеку всякий писака, даже из бездарных… Твоя сила не в поучении нравов, или, если хочешь, в поучении, только не через такую мораль, а через зрелище изящного…»
В самой «рацее» поучений как раз не было. Писалась она с удовольствием, в любимом Федотовым тоне простонародного речитатива, он так и назвал ее в подзаголовке – «Рассказ простонародным протяжным напевом», словно рассчитывая, что кто-то другой будет исполнять ее, руководствуясь этим указанием. Представляла собою она подражание речи балаганного раешника, комментирующего перед зрителями потешные картинки:
Честные господа,
Пожалуйте сюда!
Милости просим,
Денег не спросим:
Даром смотри,
Только хорошенько очки протри.
Начинается,
Починается
О том, как люди на свете живут,
Как иные на чужой счет жуют.
Сами работать ленятся,
Так на богатых женятся…
И прочее. Федотов весело и хлестко характеризовал все происходящее и всех действующих лиц, повторяя время от времени: «Вот, извольте посмотреть», – в полном соответствии с раешным каноном. Сочиняя «рацею», он и впрямь почувствовал себя таким раешником – ехидным, злословным, готовым не пожалеть родного отца ради красного словца, и так вел свой озорной обсказ картины, словно писал ее один Федотов, а «рацею» – тоже Федотов, но какой-то совсем другой.24
Не без робости, хорошо скрываемой, произвел он первый опыт чтения в громадном величественном зале перед незнакомой публикой и имел полный успех. Он вошел во вкус и уже без смущения обращался к густой толпе: «Господа, позвольте пройти автору!», предвкушая производимое этими словами действие, и в самом деле зрители тотчас же расступались, обнаруживая трепетное внимание. Сыпались просьбы прочесть «рацею», сразу же ставшую известной в городе, он охотно соглашался и, улыбаясь, читал нараспев своим симпатичным тенором. Дружный искренний смех, а то и возгласы одобрения не раз прерывали его, а по окончании аплодисменты являлись ему непременной наградой.
К нему спешили с изъявлениями чувств, его обступали, теснясь со всех сторон, он видел вокруг себя восторженные лица и горящие глаза. Ему приходилось выслушивать десятки мнений, порою наивных, порою вздорных, но всегда неравнодушных, приходилось отвечать на вопросы, разъяснять недоумения, сдержанно возражать противникам. Нередко кончалось вторичным чтением «рацеи», к полному удовлетворению как аудитории, так и самого автора.
Две недели, что продолжалась выставка, и несколько времени после, пока медленно расходились круги, произведенные ею, Федотов не работал. Он впервые дал себе большой отдых и упивался им в полную меру. «Помните, – говорил он Дружинину, – как на службе мы наслаждались после утомительных переходов, где-нибудь на дневке, летом, посреди зелени и деревенского веселья? Или помните, как, воротясь в город, по домам, мы радостно ложились в сухие постели и на несколько дней делались объедалами? То же теперь со мной». За обе недели всего-то и исполнил два женских портрета, да еще скопировал кое-что, да порисовал немного карандашом и пастелью.
Он переживал свой триумф.
Триумф был полный. Поминали успех «Последнего дня Помпеи» в этих же стенах 13 лет тому назад, сравнивали, и удивительной казалась разница между тремя крохотными тихими картинками и гигантским – более трех саженей в длину и двух в высоту – полотном с молниями, черными тучами, багровым пламенем и бегущими в разные стороны людьми.
Успех приманчив. К Федотову то и дело подходили – набивались в знакомые, напрашивались посетить мастерскую; приезжали даже на дом. Известнейший петербургский меценат, член Государственного совета, директор Почтового департамента и вице-председатель Общества поощрения художников Федор Прянишников предложил ему за «Сватовство майора» неслыханную сумму – две тысячи (серебром!). Федотов дрогнул, но отказался, голова шла кругом, жизнь сулила новые восторги и потрясения, да и расстаться с лучшим своим творением казалось немыслимым.
Случались происшествия и анекдотические. Как-то, уже после закрытия выставки, заявился к нему незнакомец и бросился на шею с выражением радости и восторга. Недоумение прояснилось: оказалось, что он, выйдя в отставку майором и желая «поправки обстоятельств», женился на богатой купчихе, живет с нею счастливо и чрезвычайно рад. Прослышав про знаменитую картину и познакомившись с ней, он был поражен тем, как правдиво передал неизвестный ему художник его незамысловатую историю. Вслед за гостем в дом была внесена корзина с шампанским и разного рода закусками, очень уместно подкрепившая словесные изъявления восторга. Было от чего растрогаться!
Знакомства Федотова расширились в эти дни чрезвычайно. А скольких еще жаждущих личного общения останавливали робость, щепетильность или заметная разница в возрасте. Скажем, юному тогда Андрею Сомову, по его признанию, «навязаться на знакомство со столь замечательной личностью казалось неделикатным», и их встреча состоялась несколько позднее, при посредничестве их общего знакомого, художника-литографа Александра Козлова.
Среди сонма людей разного звания и толка, привлеченных к Федотову либо суетным любопытством, либо серьезным интересом, была Юлия Тарновская – прелестная молодая девушка, недавняя выпускница Смольного института благородных девиц, успевшая, правда, быстро распрощаться с привычками институтского аскетизма, – элегантная, одетая по последней моде, уверенная в себе и непривычно смелая в обращении с людьми. В ее положении ощущалась некоторая двусмысленность, дававшая повод к кривотолкам: дочь захудалого полтавского дворянина, отставного подпоручика, скончавшегося недавно и оставившего ее вместе с кучей братьев и сестер, она наезжала каждой осенью в Петербург со своим дядей, знаменитым богачом Григорием Степановичем Тарновским, чьими щедротами, в сущности, и держалась осиротевшая семья. Здесь Юлия вела светский образ жизни, блистая в обществе, не отказывая себе ни в какой прихоти, в том числе и в знакомствах по собственному усмотрению. С Федотовым она познакомилась, скорее всего, через Виктора Юзефовича, шурина ее старшего брата, человека тогда довольно влиятельного – обер-секретаря Синода, а сверх того, большого любителя искусств, якшавшегося со многими художниками.
Подобных ей в федотовском кругу до сих пор не водилось. Райская птица, вдруг слетевшая в его лачугу на 21-й линии, она должна была казаться ему вестницей той новой и прекрасной жизни, которая вот-вот откроется перед ним.
Простодушная вера Федотова в справедливость жизненного устройства как будто начинала оправдываться. Успех он зарабатывал честно – не ластился к академическим профессорам, не просил о помощи, не бегал за советами, заглядывая в глаза. Он был терпелив – не выказывал себя до срока, не вылезал с недоспелым, но упорно, не жалея, себя, приближал ту минуту, когда можно будет вдруг выйти на белый свет и поразить всех. Наивная, едва ли не детская мечта – но она осуществилась, он вышел и поразил, и весь Петербург заговорил о нем, а скоро заговорит и вся Россия.
Он даже немного занесся: начал строить планы насчет того, чтобы поехать за границу, прежде всего, разумеется, в Англию, где всерьез не по гравюрам, а в подлинниках изучить все еще почитаемого Хогарта, а заодно и Уилки. Неясно было, правда, на какие средства осуществлен будет этот соблазнительный вояж. И совсем неясно было, кто выпустит его за границу сейчас, осенью 1849 года, когда количество выезжающих частных лиц, и до той поры скудное, было резко сокращено, командировки вообще были прекращены, и даже из Италии были отозваны уже находившиеся там пенсионеры Академии художеств. Да и весь федотовский триумф выглядел таким неуместным на фоне шабаша мракобесия, все более закручивавшегося в России. Федотов, точно, занесся. Впрочем, как его не понять.
Для полноты успеха не хватало лишь печатных отзывов.
Стали появляться и они. Первой, еще 15 октября, откликнулась на выставку булгаринская «Северная пчела», статьей «Журнальная всякая всячина»; статья была подписана литерами Ф. Б., не столько скрывавшими, сколько приоткрывавшими ее автора – самого издателя. О Федотове там было сказано вскользь, но все-таки он был замечен. Потом появились отзывы и в серьезных изданиях – в «Отечественных записках», «Современнике», – и все чрезвычайно лестные для Федотова. Друзья не замедлили известить о том художника и даже доставили ему свежие книжки журналов. Он прочитал, но остался спокоен. Последующие же отзывы он, кажется, даже не просматривал.
Равнодушие Федотова к печатным похвалам слишком не вязалось с тем явным удовольствием, которое он обнаруживал, выслушивая похвалы устные, от кого бы они ни исходили и как бы невзыскательны ни были. Особенность слишком редкая, чтобы не обратить на нее внимание. Обычно как раз устные комплименты, произносимые на ходу, чаще всего вызываемые обстоятельствами и говорящего ни к чему не обязывающие, ценятся ниже печатных, выносимых по зрелому размышлению и налагающих ответственность на писавшего. Дружинин терялся перед странной чертой своего приятеля, но сам же и сделал шаг к удовлетворительному ее разъяснению.
Причин, собственно, было две, и первая заключалась в самом Федотове. Ему, человеку искреннему и прямодушному, упрямо верившему в изначальную чистоту природы и побуждений человека, устное слово, вырвавшееся в минуту беседы, в непосредственном общении, казалось «живей и правдивей» слова написанного, то есть вынашиваемого вдали от читателя и слишком обдуманного, чтобы быть вполне искренним.
С другой стороны, он имел серьезные основания не вполне доверяться печатным отзывам, потому что те были, по словам Дружинина, «нехорошо составлены», – иными словами, их авторам не хватало профессионализма в восприятии и оценке живописи. У Федотова, выстрадавшего свой высокий профессионализм, их суждения доверия вызвать не могли. Куда интереснее ему было мнение приятелей-художников; иные из них, быть может, и двух слов путем связать не могли, но видеть умели и цену живописи знали. Никому из них и в голову не пришло бы заявить, будто картину Риццони, представленную на той же выставке и изображавшую «Комнату для курения в трактире Брюсселя», «можно сравнить с лучшими произведениями фламандской школы», как это делали иные из записных рецензентов.
Русская художественная критика того времени была весьма слаба. В ней еще не видно было не то чтобы своего Белинского, но хотя бы Николая Полевого. Она только-только начиналась.
Безымянным рецензентом «Современника» был, как это установили уже в наши дни, Виктор Гаевский, человек талантливый и умный, но образованный более в литературе, чем в живописи. Он страстно и убедительно обосновал поворот живописи к правдивому изображению повседневной жизни, сославшись на успехи «натуральной школы»; именно ему принадлежат слова о том, что «гнев чиновника на свою кухарку в одинаковой степени достоин внимания искусства, как и гнев Ахиллеса», – слова великолепные, по праву вошедшие в историю русской критики.
Однако рядом с именем Федотова у него то и дело мелькало имя того же Риццони (который, будучи на несколько лет моложе Федотова, умудрился лишь год не дожить до Первой мировой войны, ничем больше не отличившись); да все три картины самого Федотова в отзыве Гаевского шли ровно, как тройка у хорошего ямщика. Вряд ли критик понимал, насколько несоизмеримы они по своему художественному качеству, и, скорее всего, вряд ли придавал этому серьезное значение. Обращение к реальности само по себе было ему дороже всего; принцип был важнее картины.
Второй (снова безымянный) рецензент из «Отечественных записок» также поставил в один ряд Федотова и Риццони, а к ним добавил еще Алексея Чернышева и Николая Сверчкова. Правда, он отмечал, что «по богатству мысли, драматизму положения, обдуманности подробностей, верности и живости типов, по необыкновенной ясности изложения и истинному юмору первое место в картинах этого рода должно принадлежать г. Федотову», и сравнивал эти картины с повестями Гоголя, но тут же оговаривался, что они «уступают произведениям г. Риццони, Чернышева и Сверчкова в тщательности отделки, которая у последних напоминает Миериса», вновь возвращая нашего героя в ту обойму имен, которая сейчас выглядит странно.
Пожалуй, публика воздала Федотову гораздо вернее, слишком наглядно отделив его своей симпатией от Риццони и от Чернышева со Сверчковым. Оно и понятно: те предлагали зрителям «Комнату для курения в трактире Брюсселя», «Внутренность чухонской избы» да «Гауптвахту в Мюнхене» – картины статичные, лишенные выпуклых характеров и драматического действия, в то время как Федотов в каждой своей картине разворачивал целый спектакль из жизни, насыщенной действием и богатыми характерами, позволяющий понимать предшествующее и догадываться о последующем.
Впрочем, и публика, радуясь узнаванию знакомой ей реальной жизни, восхищаясь тем, что эта реальная жизнь может быть запечатлена в живописном произведении, ухватила в его картинах гораздо менее того, что он ей давал, особенно в «Сватовстве майора». Картины его сделали сенсацию, однако сенсация эта лишь отчасти была вызвана их художественными достоинствами, а в большей мере – самой их новизной.
Собственно, так было даже в несравненно более зрелой литературе. И там вкус к злобе дня не раз оказывался способен возобладать над высокими критериями художественности. Что же говорить тогда о живописи, которая едва начинала по-настоящему входить в духовную жизнь общества; что же говорить и об обществе, которое, в свою очередь, едва начинало приспосабливаться к живописи, видеть в ней самостоятельную духовную силу и учиться понимать ее именно как живопись, а не как удобозримое отражение литературы.
Догадывался ли Федотов о том, как неполно прочитываются его картины? Как бы то ни было, триумф есть триумф, и грех им не поупиваться. Настроение было отличное, планы громоздились один на другой.
Для одной из задуманных картин потребовалась ему комната о трех окнах и непременно на теневую сторону. Верный правилу во всем придерживаться натуры, вздумал он переменить квартиру. Несколько месяцев искал, наконец нашел – с комнатой на теневую сторону и тремя окнами – и переехал на 21-ю линию в дом Навроцкой, в том квартале, что между Невой и Большим проспектом.
Прежняя квартира была, бесспорно, нехороша, однако новая оказалась не лучше: шило сменял на мыло. Такой же маленький деревянный домик, ход через двор с ветхими сараями, клетушками и флигелем; тесные сени, чуланчик, который Коршунов тотчас же оклеил картинками, комната побольше, в которую Федотов вывалил все свое имущество – и бюст Венеры Медицейской, и проволочную голову, и гипсы, и мольберт, и гору папок, картонов, подрамников; опять заставил окна снизу, и уже новая квартира как две капли воды стала похожа на прежнюю, даром что в той было два окна, а в этой три, да и стоила она подороже – пять рублей в месяц.
Помимо столь необходимых для картины трех окон, новая квартира обладала еще одним достоинством. Высунув голову в окно, можно было видеть напротив, по 20-й линии, длинный деревянный забор и ворота, а повернув голову направо и слегка вытянув шею, – знакомое здание казарм лейб-гвардии Финляндского полка, занимавшего конец квартала, у Невы.
Дружинин, проходя как-то по 21-й линии, услышал вдруг стук в стекло и, обернувшись, увидел за окном Федотова вместе с Коршуновым. «Мы с вами опять финляндцы, – крикнул ему Федотов. – Входите же поскорее, теперь мы будем видеться всякий раз, как вы того захотите». Дело в том, что Дружинин к тому времени занимал сразу две квартиры, обе неподалеку, и новая квартира Федотова находилась как раз на середине пути между ними.
Этим все преимущества нового дома и исчерпывались. Снова было нестерпимо холодно и сыро, да еще за стеной у соседей оказалась куча детей, которые чуть ли не круглые сутки шумели. Правда, Федотов скоро привык к шуму и приучил других и самого себя к мысли, будто шум ему даже приятен. «Без них я бы умер с тоски… Разве это возмутители тишины? Это жизнь! да не моя и ваша, а веселая, беззаботная, счастливая, святая жизнь!» – говорил он зашедшему к нему Можайскому. Может быть, и в самом деле так?
Смешнее (или грустнее) всего было то, что за время поисков квартиры и переезда лелеемый замысел картины сам собою угас (мы даже не знаем, в чем он заключался), и получилось, что трогаться с места было ни к чему, равно как и переплачивать лишнее.
Здесь, в новых стенах, он работал над совсем иной картиной, для которой не нужны были ни пресловутые три окна, да вообще ни одного окна. После долгих проб и терзаний он остановился на сюжете, который, право же, был нисколько не лучше уже отвергнутых и тоже не предлагал Федотову то новое, что смутно мерещилось ему. Может быть, просто потому и остановился, что сюжет был свеж, только что отыскан в полугодовой давности книжке «Современника», подвернувшейся под руку.