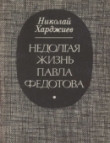Текст книги "Павел Федотов"
Автор книги: Эраст Кузнецов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 24 страниц)
Эраст Кузнецов
Павел Федотов
НЕ В ПОРУ ГОСТЬ
Какой странный жанр – предисловие: то, что стоит перед словом. А что ему может предстоять? Вздох, нетерпение сердца, настройка души на встречу с чужой судьбой, чтобы легче перемочь ее вызовы, если судьба героя задевает и твое сердце. А судьба Павла Андреевича Федотова со времени детски защищенного домом и бытом счастья до безумия и смирительной рубахи последних дней задевает. И хочется, уже немного зная по прежним работам эту судьбу, обняться еще до того, как войдешь в бережную умную любящую книгу Эраста Кузнецова, чтобы лучше понять и художника, и самого себя, потому что великий художник потому и велик, что таинственно содержит нас в себе, перешагивая разделяющие нас границы века и быта. Кажется, он с каждым временем живет его жизнью со всеми добродетелями и заблуждениями этого времени. Каждое поколение переписывает художника по себе, и его живое лицо медленно исчезает «под записями», становясь темноватым образом в красном углу века, – будто и он, но и вместе с тем – «типичный представитель».
О Павле Федотове писали едва ли не больше, чем о других русских художниках, – он был как-то роднее других. И писали не рядовые биографы, а сами замечательные мастера русской художественной истории – великий Александр Бенуа, блестящий искусствовед, славная звезда «Аполлона» Всеволод Дмитриев, к сожалению, потерянный нашим искусствознанием в хаосе пореволюционных лет. Писали взвешенный обстоятельный надежный Николай Романов и какой-то всегда прыгающе молодой, яркий Виктор Шкловский. И потом, потом сколько было прекрасных работ Дмитрия Сарабьянова, Глеба Поспелова! Павел Андреевич успел побывать и петрашевцем, и противником самодержавия, и вольнолюбцем. Свет падал на него со слишком разных сторон, так что социальные роли уже порой заслоняли в нем настоящую славу опережающего век живописца.
Эраст Кузнецов держал в уме и благодарно цитировал предшественников, но писал свою книгу в пору, когда идеология пошатнулась и перестала загораживать жизнь, и стало можно «расчистить старые записи» и увидеть за обобщенным образом благословенное чудо единственной человеческой судьбы. Бедная повседневная жизнь сама запросилась под перо, словно истосковалась по человеческому вниманию. И какой же прямо с первых страниц явился ликующий быт, какая матушка-Москва в святой простоте своего неторопливого уютного уклада. Это надобно было оглядеть не для художественности, не для «атмосферы», а для понимания существа дара, который явится потом в пока не ведающем о своем будущем мальчике. Эта домашняя обстоятельная Москва потом никуда не денется и из самых петербургских работ. И художник-то еще об этом не знает, а уж исследователь готовит и его, и наше зрение этим улыбчивым парадом встречающего нас народа «и у тетушки, и у кумы, и у приходского священника».
И только сердце человека, живущего в соседстве с Михайловским и в воздухе пушкинского текста, оказывается ребячески-ревниво задето тем, что Кузнецов, скитаясь с Павлушей Федотовым по переулкам у церкви Харитония, не улыбнулся тому, что именно «у Харитонья в переулке» остановился возок семейства Лариных, когда Таню привезли «на ярманку невест», так что, говея постом как раз в пору Таниного приезда, мальчик мог увидеть пушкинскую героиню и впервые уколоться мыслью, которую сам потом лучше всех и подтвердит, что в России литература и жизнь неотрывны. Да и как ему было потом, уже при взрослом чтении «Онегина», не узнать своих тетушек в ларинской родне, в которой «Всё… на старый образец: / У тетушки княжны Елены / Всё тот же тюлевый чепец, / Всё белится Лукерья Львовна, / Всё так же лжет Любовь Петровна, / Иван Петрович так же глуп, / Семен Петрович так же скуп» – всё как у всех в округе.
Тут еще то чудо, что быт-то у Пушкина впервые «прописывается» в литературе, получает «права гражданства», как потом получит его в живописи Федотова, отчего меня отсутствие Пушкина и заденет, а в конце третьей и начале четвертой главы и просто ранит. Третья глава заканчивается надеждой на возможность уже после московского кадетского детства и юности в разгаре петербургской службы Федотова в Финляндском полку, когда уж он заметный меж товарищами художник и поэт, сделать выигрышную работу для государя, и оборвется глава словами «Это случилось в 1837 году». Ну, думаю, сейчас! Но следующая глава начинается как ни в чем не бывало: «Начался этот год для Федотова вполне обычно… настоящее волнение началось весной – влюбился…» Как? А Пушкин? Ведь Федотов не только рисует. Он и стихи пишет ловко – и «на случай», и «так». И вот Катенька Головачева и стихи к ней есть, а Пушкина и поднявшей весь Петербург его смерти нет.
Меня утешит В. Б. Шкловский в своей книге о художнике, когда заставит Федотова и померзнуть у дома на Мойке, и протиснуться в дом, чтобы проститься с Александром Сергеевичем. Но все-таки это утешение давнее – из тридцатых годов прошлого века, когда Виктор Борисович писал своего «Федотова»,1 а уж хотелось нынешнего, когда Пушкин-то уж подлинно само наше кровообращение, и о чем ни заговори, его не минуешь. Ну, что сделаешь – Федотов у Кузнецова и Гоголя почти пропустил (хоть тот же Шкловский приведет художника на премьеру «Ревизора» в Александринку и заставит отметить ироническую правду). Слава богу, хоть Лермонтов тронул сердце – не оттого ли, что свой брат – поручик. И вон даже до какой степени тронул: «Пушкин ничто перед этим человеком». Тут уж сам Лермонтов бы обиделся. Товарищ Федотова по полку и его первый биограф Александр Дружинин извинит потом в воспоминаниях своего друга недостатком систематического образования, а я отчего-то подумаю, что это те же матушка московская среда и батюшка быт, далековатые от тонкостей искусства, сложили эту в общем простую и тем и дорогую нам душу. Он вон в детстве-то больше раёк любил на базаре глядеть и слушать: «А вот вид: / Петр первый стоит, / Государь славный, / Притом православный!» И сам потом будет в пору наибольшего успеха представлять свое «Сватовство майора», пленяя зрителей бедной импровизацией: «Милости просим, / Денег не спросим… / О том, как люди на свете живут… / Сами работать ленятся, / Так на богатых женятся». И в своих стихах будет больше любимого Ивана Андреича Крылова держаться и складом стиха, и тяготением к прямой морали:
Раз у одних моих знакомых
В опасности был целый дом их…
В глубокой древности один законодатель
И, как велось, богам приятель…
Талант, молись, чтоб счастья солнце
Взглянуло иногда в твое оконце.
Иначе, как цветы,
В тени замрешь и ты.
Пушкин тут годился мало. Ну, с этим я и оставлю обиды, радуясь чуду и полноте жизни, явленной Кузнецовым в неторопливой его книге, где он выкажет совершенное знание и московской простоты, и военного артикула, любезного солдатскому сердцу Скалозуба, которого пленяли «в мундирах выпушки, погончики, петлички», и куда как отличного от Москвы петербургского быта, где и «улицы разделяются по рангам, и сам город кажется взятым напрокат», как аттестовал его тогда Владимир Сологуб в своем незабвенном «Тарантасе». Кажется, Кузнецов почти до усталости подробен. Иногда и подогнать хочется, чтобы скорее с улицы к герою повернул. А только он знает, что делает. Всё, всё в свой час отзовется: и прогулки московские, и «выпушки… петлички», и город, «взятый напрокат». И мы постепенно откроем для себя, что это не ломбард бедных сокровищ прошедшего, а отзвук живой тревоги за сохранность этой полноты быта как основы бытия.
И я вдруг ясно понимаю, почему в конце 1970-х писал свою первую книжку об Агине – дорогом сверстнике и друге Федотова – и почему почти последнюю книжку о нем же писал тогда Александр Борщаговский (вот уж надо напоминать скорому на забвение времени, что это автор многих прекрасных книг, вздыхавший, что, кажется, как Георгия Свиридова будут вспоминать по пушкинской «Метели», так его – по «Трем тополям на Плющихе»). Я – первую, он – последнюю, потому что с разных сторон и из разных возрастов почувствовали подступающую смерть живого наследованного быта. Человек опять медленно терял границы, оказываясь на сквозняках безвременья.
А тогда этот быт «открыли» как эстетику и явилась «Физиология Петербурга», явилась «натуральная школа», явились Миргород и Диканька, вышли «Вот наши» Игнатия Щедровского. То, в чем раньше жили, теперь стало можно писать, как чужое. Появилась трещина, которая прошла потом, ширясь, прежде всего по сердцу самих художников.
Не буду развивать, а только подумаю в чаянии, что кто-то примет эту мимолетную мысль всерьез, что и наше деление на славянофилов и западников началось с обрыва живого наследованного быта, так что одни вовсе отказались от него, переодевшись в чужое платье, другие только подчеркнули свою русскость даже самим платьем, что тоже было знаком искусственности и отдельности быта. А там уж «Земля и воля», «Черный передел» и все революции, как следствие той же оборванной пуповины. Как чуткий Пушкин в «Борисе Годунове» уже знал это, нашептывая малолетнему царевичу и сегодня не усвоенную нами мудрость: «Не изменяй теченья дел. Привычка – / Душа держав…» Привычка – второе имя быта как человеческой традиции, как устойчивой земной основы. А при растворении в давнем налаженном быте – даже счастье, которым, в сущности, дышат федотовские «Свежий кавалер» и «Не в пору гость», которого мы из пролетарского времени зовем чуть с брезгливой иронией «Завтрак аристократа».
Кузнецов наглядеться не может на тесноту деталей «Аристократа», на так согласно живущие с героем вещи. Словно перебирает каждую из них на столе несчастного молодого щеголя, может быть, как раз и спустившего родительское состояние на эти безделушки и оставшегося с куском хлеба, который надо прикрывать, чтобы не быть застигнутым за стыдной для его трудно доставшегося положения трапезой. Видно, что и сам исследователь любит быт вещи более ее бытия, братается с вещами, переглядывая их, как в антикварной лавке, и нечаянно провозит через «таможню времени» и самого Аристократа, так что ты на минуту чувствуешь себя этим гостем не в пору. Любовь автора к художнику сказалась тут с какой-то особенной сердечностью, словно он и не перед холстом стоит, а нечаянно попал в мастерскую своего героя: «Странное чувство охватывает нас при виде их, запечатленных с заинтересованной и любовной пристальностью портретиста, при мысли о том, что все они, буквально все, до последней мелочи, не придуманы, что все они реально существовали, действительно были, что Федотов дотрагивался до них, что каждой из них уготована была собственная судьба, и судьба некоторых, быть может, еще не завершилась. Что с ними сталось?.. Этот бокал темного стекла? Эта лампочка с кокетливым синим колпачком? А этот столик – сумел ли он пройти через долгие и трудные годы, через бури войн и революций? Может быть, он спас чью-то жизнь блокадной ленинградской зимой – расколотый на щепки и сгоревший в буржуйке вместе с разрозненными томами Брокгауза и Ефрона. А может быть, счастливо избежав кончины, подновленный чьей-то искусной рукой и перепроданный за большие деньги, украшает собою апартаменты какого-нибудь нувориша». И посмеем продолжить: этот нувориш (новорус) сейчас, в свою очередь, среди накупленных для имиджа безделушек, торопясь прикрывает книжкой кусок хлеба при нечаянном звонке в дверь.
И я вполне понимаю, почему Кузнецов в целой главе пересказывает «Сватовство майора», почему ему хочется подольше побыть в бесхитростной простоте домашних уловок – решить с Федотовым, как до этого в «Разборчивой невесте», бедные и жалкие для начитанного интеллектуала, но такие понятно беспокойные для повседневной жизни проблемы – чтобы в семействе всё было «как у всех», чтобы невеста не засиделась, чтобы домашний бюджет поправить хоть расчетливым браком. А только посмотрите, о расчете ли автор книги говорит, о скучной ли и очевидной социальности? Нет, он на люстру глядит, на то, как торопится запахнуть свой необмявшийся выходной кафтан хозяин, как служанка решает поприличнее выставить угощение, чтобы не получить нагоняя от хозяйки, как невеста кидается вон и одновременно хочет, чтобы ее удержали, как сваха, приживалка, майор, кошка, намывающая гостей, как жирандоли и картины на стенах… Он тут вместе с Федотовым живет, потому что и Федотов разве тут иронией побеждает, разве сатирой и голым нравоучением? Нет, и он тут дома – в родной Москве, которая уже беременна Островским, и ему еще далеко до вступления в силу противостояния между «безобразными условиями судьбы и прекрасными требованиями мозга», как характеризовал драму его внутреннего расхождения Всеволод Дмитриев. Тут они еще вполне согласны – судьба и мозг, потому что всё покрывается любовью и живопись обнимает сюжет, а сюжет счастливо растворяется в живописи и всё скорее полно молодого театра, а не суда и укора («Милости просим, / Денег не спросим»…), что тотчас узнаётся по ликующей гармонии холста.
Он, может, и думал перегнать Хогарта или Гаварни, да был русский человек, и родная почва сама диктовала поэтику и атмосферу. Никакой насмешки у него не было – только улыбка человеческим слабостям. Английские хогарты и французские гаварни могли смеяться над своим бытом и пленять сердца современников веселой или злой иронией, но они делали это из устойчивой традиции, в которой быт от их насмешки только умнел и укреплялся. Чем оно злее, тем и веселее. А у нас какая злость – Федотов сам из этого круга. Это потом передвижники пустятся в прямой суд, ожесточат сердце и повлекут к Герцену и Салтыкову и к жесткой художественной мысли. И туда же начнут припрягать и его, где прямо уводя его в родоначальники, а где – и от противного.
Всеволод Дмитриев, например, сводил свою большую работу о художнике к тому, что Федотова «съел» Брюллов, что быт был для него только более близкой формой стремления к совершенной живописной красоте в русской одежде, к академизму, к «Помпее» и Микеланджело, а не к критическому передвижничеству, куда отсылали его люди, звавшие Федотова предтечей Перова, Маковского, Пукирева и Крамского. Николай Романов и Виктор Шкловский, в свою очередь, умело доказывали, что Федотова гнало к безумию само ожесточенное время, когда ничем передовому уму и нельзя было кончить, как задохнуться в темном воспаленном колорите холстов «Анкор, еще анкор!» и «Игроки».
А я вот при огляде этой жизни думаю иное. Всегда при чтении разных книг об одном художнике ты как будто явственно видишь, что в конце остается место и для твоего толкования, потому что всякий раз, когда мы говорим о других, мы неизменно проговариваемся о своем. И если у нас одно сердце, хорошо слышим друг друга. Мне из моей любви к быту открывается, что гибель художника таилась в выходе из своей среды на простор отвлеченной «гуманистической мысли», из дома – на чужую улицу, из тесноты закона – на сквозняки свободы, из упорядочивающего мундира – к так не любимому К. Н. Леонтьевым уравнивающему «твидовому пиджаку». (В скобках замечу по долгому житейскому опыту, что государство – всегда «мундир», и оттого его все ругают, чтобы по своей воле пожить, а кончают безумием, потому что в результате бунтов находят только другой «мундир» – еще теснее.)
Эраст Кузнецов видит причину несчастья Федотова в том, что «мир не желал исправляться (а Федотов как будто, как русский человек, звал его к исправлению своими стихами, своими «Сватовством», «Кавалером», «Разборчивой невестой». – В. К.), напротив, становился всё непригляднее; если и сохранялась на что-то надежда, то только на пробуждение… сострадания… к униженным и оскорбленным, мог бы сказать он, если бы роман Достоевского не был написан много позже его смерти». Из этого «сострадания» выводил свою тихую и так бочком и прошедшую в русской живописи неотступную (сколько переписал!) «Вдовушку», а мир не принимал ее, потому что всё ждал полюбившейся в нем бестревожной улыбки или не беспокоящей сатиры. А ему уж сатира скучна. У него человек тонет в равнодушии мира, как в безнадежном хаосе страшного «Анкор, еще анкор!» с его зримой бесконечностью тоски и не узнающей себя смерти: «Где еще, кроме России, – восклицает Кузнецов, – человек может так безнадежно затеряться!»
Хотя, вот странность – сам-то герой картины, бедный офицер, затерянный в отдаленном гарнизоне, может быть, этой тоски и не ведает, коротая вечер после маневров, чтобы завтра опять «школить солдатиков». Мундир спасает его, как отсутствие мундира заставляет Федотова увидеть своего героя из другой системы координат. И вот тут я подбираюсь к неудобной мысли, рискуя прописаться в потакателях власти, а то и в мракобесах, противящихся святому чувству свободы. Ну да что сделаешь, когда старость далека от молодых добродетелей и начинает глядеть на мир с охранительной стороны. Да и мудрого Пушкина не забывает, который молод-то молод, а как скажет, так молодые искатели свободы и отшатнутся: «Мысль! Великое слово!.. Да будет же она свободна, как должен быть свободен человек (всё по русскому вольному сердцу, а дальше-то, дальше. – В. К.) в пределах закона при полном соблюдении условий, налагаемых обществом». Они, тогдашние-то свободные люди, понимали свободу получше нашего. Вон и друг пушкинский Вяземский туда же поворачивает: «Всякая свобода какою-нибудь стороною ограничивается тою или другою обязанностию, нравственною, политическою или взаимною. Иначе не быть обществу, а будет дикое своеволие и дикая сволочь». Понимают, потому что свобода – есть послушание Истине, а не своеволие.
Взгляните на эпиграф к этой книге: «…Что же это, наконец, за чудовище, называемое Россией, которому нужно столько жертв и которое предоставляет детям своим лишь печальный выбор погибнуть нравственно в среде, враждебной всему человеческому, или умереть на заре своей жизни? Это бездонная пучина, где тонут лучшие пловцы, где величайшие усилия, величайшие таланты, величайшие способности исчезают прежде, чем успевают чего-либо достигнуть…» (Александр Герцен). Тут уж о виноватом-то и спрашивать не надо и можно еще до чтения книги знать, чем всё кончится. И следить разве за технологией истребления таланта, которую в данном частном случае выбирает это чудовище Россия, зачем-то дающая сначала этому таланту явиться и расцвесть, и, как в случае с Федотовым, получить признание не праздной публики, а в одной Москве Чаадаева и Грановского, Хомякова и Гоголя, а в Петербурге Брюллова, Крылова и Академии художеств, сделавшей его своим членом. Ну, наверное, для того и сделать известным, чтобы потом с тем большим удовлетворением и погубить: одно слово – чудовище. А Павлуша Федотов отчего-то был счастлив в детстве, а Павел Федотов успешен в службе и вышел в отставку капитаном с государевым пособием. А ушел бы Павел Андреевич в баталисты, так, пожалуй, и дожил до седин, не зная печали.
Нет, тут, кажется, именно сам любимый и спасительный быт и стал погибелью. Сама Богом данная своему избраннику художественная наблюдательность. Как умиляло нас, когда юношей, стоя в карауле, у Триумфальных ворот в Петербурге молодой офицер развлекается тем, что не без щегольства отмечает: «Тянутся обозы, чухны в глупых ушастых шапках… румяные молочницы… Едет купец, уязвленный золотой стрелой корыстолюбия… едут юные дети определяться кто в корпус, в будущие Ахиллесы или повесы… едут оскорбленные надежды без порядочной одежды… Дорожные, которые укутанные, мало отличаются от кулей в обозах; вот пища для живописи… Великий Гогарт, воскресни с твоей кистью!»
Это мундир ему иронию диктует, своя защищенность, своя незыблемость в порядке мира перед их ненадежностью. Но когда уже частным человеком, гонимый своим ненасытным даром, мечется он по Петербургу, высматривая сюжеты, и учится жить «в оба глаза», то скоро увидит и то, что за него обобщит Эраст Кузнецов: «Чем более вглядывался Федотов в жизнь, копошащуюся вокруг него наподобие гигантского муравейника… тем сильнее укреплялся в ощущении общего неблагополучия, удручающего противоречия между тем, как человек призван существовать по божескому закону, и тем, как он живет на самом деле. Порок попирал добродетель, невежество – просвещенность. Несправедливость, тщеславие, суетность, корыстолюбие… а более всего ложь, лицемерие и фальшь правили в этом мире»…
Сначала ему покажется, что это про других, а уж там увидит, что и про него, что и он незаметно оказался в этом муравейнике. Тут уж зоркость станет опасной, как у Гоголя, которого выбирает для эпиграфа к своему «Федотову» Виктор Шкловский: «Передовые люди не те, которые видят одно что-нибудь такое, чего другие не видят, и удивляются тому, что другие не видят; передовыми людьми можно назвать только тех, которые именно видят всё то, что видят другие… и, опершись на сумму всего, видят то, чего не видят другие, и уже не удивляются тому, что другие не видят того же». Вот Павел Андревич и перешел в книге на наших глазах из тех «передовых людей», кто видел то, чего другие не видят, и умел сказать об этом с восхищающей зоркостью и красотой, пленив зрителей (и каких – Брюллова и академию!) «Сватовством» и «Кавалером», в те передовые, которые уже не удивляются тому, что другие не видят того же (в своих тревожных «Анкор, еще анкор!» и уж подлинно страшных «Игроках», где безумие уже таится в двойных тенях и красном смехе колорита). И тут бы вот и подхватить Герцена: «что же за чудовище, называемое Россией», а вот не подхватывается, потому что вина не одностороння, что мы потому и исказили родную историю и лишили себя дома и исторического быта, который держит нации, что всё норовили упростить правду до школьного теста по ЕГЭ.
Бог дает дар и Бог за него спрашивает. И спрашивает строго. А мы всё художника пытаемся освободить от своей части ответственности, свалив всё на «среду» («среда заела», «порочный двор цирцей»). Это уж у нас старинный недуг презрения к России, вроде хорошего тона, чтобы разом и недорого выйти в «передовые люди». Слыхал ли кто-нибудь, что Ван Гога погубила Франция, а Джона Китса – Англия? А у нас Пушкин ли, Лермонтов, Гоголь, Федотов, Агин – тотчас «проклятая» Россия, дураки-самодержцы, годные только для охоты на русских гениев. И уж так себя настроили узкими учебниками советской истории, что никак не выберемся и никак не защитим свою бедную монархию, несмотря на все нынешние реабилитирующие усилия более осведомленных и объективных ученых. Вот и Кузнецов вон какой эпиграф для своего «Федотова» выбирает – не дочитав, задохнешься, а живая правда диктует ему свое: «Он был обречен собственной творческой судьбой, невероятной стремительностью своего развития, обращавшей его даже не к завтрашнему, а к послезавтрашнему дню отечественного искусства и не оставлявшей ему места в дне сегодняшнем. Судьба, пославшая раннюю смерть, оказалась милосердна к нему: он не успел вкусить от горчайшего плода непонимания, забвения и одиночества, поджидавших его, если бы его жизнь продлилась хотя бы на несколько лет». Это вот главное-то и есть, а не обобщительный довесок на «общую потребу», где Кузнецов поперек своему предшествующему абзацу пишет: «Он был обречен, наконец, своим страшным временем, с фанатической последовательностью душившим все, что ни зарождалось мало-мальски живого и свежего в русском обществе». Боюсь, что это уж только требование эффектно выбранного эпиграфа.
А надорвала-то (прав, прав исследователь!) горячий требующий прекрасного мозг художника беспокойная истощающая гонка мысли, «стремительность развития», не защищенная систематическим образованием. Жизнь консервативна. Она не переделывается в день хотя бы и по очень благому желанию «передового человека». Быт – «существо» неповоротливое. Его не обгонишь и не ускоришь. Он растет вперед, светает и умнеет, собирая печальную жатву лучших умов, которые платят страданием, безумием, а то и смертью не косному чудовищу России, а самому охранительному механизму той жизни, которая во всякий час истории кажется себе достаточной и норовит устоять на своих трех китах. Но это она же в творческом союзе с Богом снимает с человека кольчугу быта и выводит под просторное русское небо, как в разведку посылает. И художник возвращается в душноватый ковчег быта с вестью о другой земле и падает обессиленный. (Совсем уж если мудрено сказать – потому что я не могу пока увидеть мысль отчетливее, – это лучшие дети, не исключаемые из быта, а его же посланники, скидывающие тесноватый мундир не для наготы, а для другого более просторного мундира. Свобода – есть только переодевание в более удобные одежды, только в идеале ищущие наготы, как вечного рождения. Так Достоевский после военного училища нетерпеливо переодевается в широкие английские костюмы и тщательно одевает своих героев, но вселяет в них такую идейную горячность и страстное искание истины, что тем и раздевает их от земных одежд до метафизической наготы.)
Страшно читать редкие по силе и пугающему знанию страницы Шкловского о последнем приюте Федотова, когда разум уже оставил художника:
«Бейдеман начал чистить яблоко.
– Саша, – сказал Павел Андреевич, – скорбный лист о моей болезни заполняли они карандашом – эскиз на всю жизнь… Саша… нужно уничтожить бумаги о нашем сумасшествии, Саша… – Как хорошо отражаются в стеклах две разные свечи и за стеклом небо… Какая спокойная и печальная даль… Всё можно передать в живописи. Какие вести из Москвы? Что говорит Герцен? Не пришли ли вы развязать мне руки?»
Ему больше нечего было рисовать. Он нарисовал всё. «Вдовушка» оплакивала его уход из быта (не зря за нею стоял его портрет), но сама уже была свидетельницей его выхода в новое пространство красоты и мысли, которые манят нас загадкой в этой такой простой и такой понятной и непостижимой картине. Все, что прежде в его холстах жило, смеялось, шумело, как в «Кавалере» и «Сватовстве», остановилось в какой-то долгой сосредоточенной мысли. Не зря Кузнецов отмечает в третьем варианте картины, что на месте оплывшего огарка зажжена художником новая чистая свеча. И лицо бежит от подсмотренной на Васильевском острове невесты к лику, в котором легко угадать леонардов эскиз к «Мадонне Литте». Тут не только молодая женщина слушает в себе в минуту печали новую едва затеплившуюся жизнь. Тут сам художник остановился на страшно высоком пороге и тоже слушал в себе проступающую тишину новой русской мысли, которую Достоевский скоро будет звать «идеей» и «тайной», в которой услышит рождение «красоты, спасающей мир». Тут будут стоять рядом вопрос и ответ, а быт будет уходить в преображающее бытие…
…Уничтожим скорбный карандашный лист о его безумии. Развяжем ему руки. Он пришел в себя. И в нас…
Валентин Курбатов