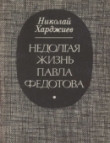Текст книги "Павел Федотов"
Автор книги: Эраст Кузнецов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 24 страниц)
Портретирование нужно было ему всего лишь как практика в живописи, не более того. Но практика чрезвычайно целенаправленная. Мастерство живописца можно оттачивать на чем угодно: поставить один натюрморт, другой, третий, повесить одну драпировку, потом другую… Всем этим он трудолюбиво занимался уже целый год, однако этого ему было мало для его цели – той картины, которая все более отчетливо рисовалась его воображению. Там человек должен был существовать не в некоем отвлеченном, большей частью просто придуманном пространстве академической живописи, но в совершенно реальной гостиной, передней, кабинете, зале, должен был естественно жить среди стен и многочисленных предметов, в связи с ними и с другими людьми – именно этого он так тщетно добивался, расставляя и передвигая с места на место фигурки людей и предметы в своих сепиях.
Портретирование в этом смысле оказывалось для него незаменимой школой. Это для всех окружающих (и для нас) его работы имели вид портретов, для него же были скорее этюды, пусть и не совсем обычные. В обычном этюде всегда решается какая-то конкретная задача: тут проработать фигуру, там разобраться в складках, здесь проверить анатомию. Федотов же работал безотносительно к будущим картинам. Пригодится что-нибудь в задуманной композиции – хорошо. Не пригодится – не беда, не для того написано.
Портреты Федотова стали школой практического изучения столь драгоценной для него пластической темы, как «человек в интерьере». Никакого иного смысла он в них не видел и заботился не о том, чтобы полно и характеристично представить человека, его психологию, привычки, место в обществе, а о том, чтобы как можно точнее и тоньше передать являющееся глазу.
Где находится человек – посредине комнаты, или вплотную к стене, или зажат в угол; стоит ли, сидит ли – всякий раз новая пластика, новая связь со средой, а значит, и новый живописный подход. Каким светом освещен – прямым ли в лицо, боковым ли, или двойным, в котором два разных света спорят друг с другом; рассеянным ли, обрисовывающим все видимое мягко и ровно, или резким, создающим сильные тени, делающим все более рельефным; дневным ли, серебристым, или искусственным, теплым, – всякий раз меняется наше восприятие. Все являющиеся глазу соотношения надо точно уловить, разобрать и передать, а в жизни ничто не повторяется, и только накопив изрядный запас подобных впечатлений и способов их передачи, можно рассчитывать на такую же естественность в сочиненной картине.
Поэтому он просто сажал каждого так, как тому удобнее было сидеть, а ему самому – работать. Не слишком мудрил, придумывая позу и обстановку, потому что люди все разные и ни один не сядет или не станет так, как другой, и в любой позе или жесте всегда обнаружится свой неуловимый штришок, своя повадка и стать – только лови.
Время продолжало его подгонять, писать надо было много – чем обширнее практика, тем крепче мастерство. Он и здесь выработал свою методу. Собственно, ничего нового, просто приспособил к своим нуждам давно известное: многие живописцы, затевая портрет, сначала делали эскиз, малое подобие будущего портрета, и исполняли его крайне тщательно, потому что предназначали не для себя, а для заказчика – показать, получить одобрение или, может быть, замечания, а потом спокойно трудиться дальше. Федотов же на таких эскизах, писанных прямо с натуры, и останавливался. Малый размер – в писчий лист, а то и в половину листа – позволял проделать всю нужную работу и во всем разобраться, но гораздо быстрее.
Получались-то все равно портреты, только не совсем обычные, отделяющиеся от принятого и узаконенного в этом жанре.
Герой всякого портрета существует для будущего зрителя: в интимном портрете – для одного-двух, в парадном – для многих. Даже тогда, когда он в так называемом жанровом портрете будто бы занят самим собою, не смотрит с холста, углубленный в свои занятия, – говорит с кем-то, пишет, гуляет, работает, – тут все равно есть немного от театра: это он «представляется», а не живет реальной жизнью.
Герои Федотова тоже позировали, но не какому-то будущему зрителю, а живому человеку, сидящему перед ними, самому художнику, их доброму знакомцу Павлу Андреевичу, пришедшему к ним в дом и расположившемуся со своими кистями, красками и маленьким холстиком. Они были застигнуты за этим делом, и делом настоящим, не инсценированным для зрителя. Позировать – тоже занятие, и занятие нешуточное, и каждый ведет себя так, как ему присуще, в зависимости от того, каков он и каковы его отношения с художником: кто-то напряжен и не может этого скрыть, кто-то доброжелательно снисходит к заботам живописца, кто-то, скучая, отбывает неизбежную повинность дружбе – словом, каждый приоткрывается в естественности своего существования.
В обычном портрете, тем более федотовского времени, человек большей частью обособлен от своей жизненной среды и взамен нее помещен в другую, специально для него и его характеристики сочиненную, подчас отвлеченную, даже фантастическую. Федотова подобные заботы не занимали. Ему не было нужды сочинять своим персонажам специальное окружение, живописуя за их спинами романтическую руину с купами деревьев, или колоннады и драпировки роскошного дворцового зала, или окно со стоящим на нем в стакане нежным цветком, или статую музы, вырисовывающуюся в пустоте фона, – все это было ему ни к чему.
Каждого своего персонажа он запечатлевал в его домашней обстановке, не брезгуя «случайным», не откидывая «ненужного», не добавляя «характерного», запечатлевал вместе и едва ли не наравне с вещами, среди которых тот жил, – с креслами, стульями, книжными полками, обоями за спиной, диванами, портретами, зеркалами, канделябрами, часами в стеклянном футляре, домашними деревцами в кадках, колокольчиком для прислуги, подсвечником, чернильным прибором, очиненными перьями в вазочке, статуэткой Наполеона на письменном столе, карандашом, затерявшимся среди бумаг, футляром для очков, стаканом с недопитым чаем и ложечкой в нем, книжкой, раскрытой на недочитанной странице, шкатулкой с рукоделием, смятым небрежно и забытым на столе платком – со всем, что хранило беспорядочность будничного существования.20
Конечно, совсем нетрудно подметить в каждом из этих портретов некоторый эмпиризм, слабую выявленность характера, не выступающего вперед, не очерченного так выпукло, как это было в работах блестящих предшественников и современников Федотова, а словно слитого со средой и воспринимаемого как часть этой среды. Но дело тут не просто.
Сорок лет спустя совсем еще молодой Валентин Серов точно так же будет писать загорелую девочку Верушу Мамонтову, слегка скучающую за не идущим ее возрасту и живому характеру занятием, и появится картина «Девочка с персиками», которую портретом не называют: портрет не портрет, жанр не жанр, а что-то совсем иное, осколок живой и цельной жизни, остановленной навсегда в ее течении.
Неужели Федотов замахнулся на такое? Нет, не замахнулся и не мог еще замахнуться, но действительно предвосхитил будущее. Дар, все более сознающий свою силу, и влечение к правде, все более укрепляющееся в нем, неудержимо толкали его вперед и подводили подчас к тому, что сам он не в силах был ни понять, ни осуществить в полную меру, к тому, что не только для него, но и для всего искусства было еще преждевременно.
Непретенциозность, даже явная скромность поставленных перед собою задач бывает иной раз способна освободить художника от многих предрассудков способа выражения, которым он будет безропотно повиноваться в работе «серьезной», имеющей подлинно «высокую цель». Как спокойно и легко пройдет человек по полу своей комнаты и как связан и неловок станет он, появившись на сцене перед зрителями! А постарайся он ступать легко и непринужденно – окажется вовсе невыносим: полезут фальшь и наигрыш. Свежестью, чистотой и раскованностью живописи некоторых «портретиков» Федотов обогнал себя, свои первые картины, исполненные год, два и три спустя, а всех своих современников – и подавно. И обогнал совершенно непроизвольно, о том вовсе не думая. Для него это снова была учеба, и снова вопреки академическому канону: не от чужого опыта, заученного, затверженного, освоенного, – к жизни, а от жизни – к собственному опыту, к подлинной живописной свободе.
Воспринимая все видимое в его ощутимой цельности, он добивался той же цельности, но уже живописной, на своем холсте. Он понял: эта-то цельность и составляет высшую цель и тщету живописного мастерства, в ней-то и заключается главная трудность.
Как добиться того, чтобы изображенный человек существовал в плоскости холста так же естественно, как в реальном пространстве, не выскакивая из него и не теряясь в нем, чтобы, писанный на фоне стены, он отделялся от этой стены и расстояние между ними было ощутимо; чтобы при этом он ни в коем случае не казался написанным отдельно, вырезанным и приложенным к стене, а вместе со стеной, с креслом, окном и мало ли еще чем образовывал живописное целое.
Как добиться того, чтобы многоцветный мир, старательно, точь-в-точь перенесенный на холст, не распадался на яркие куски, мешающие друг другу и не желающие соединяться вместе, – соединяются же они в реальности, и видимый мир не разваливается на части!
Можно было, конечно, прибегнуть к уловкам. Скажем, все цвета слегка ослаблять и пригашать, подгоняя их к общему тону – золотистому, серебристому, рыжеватому, холодному в зеленцу или холодному в голубизну, – так поступали многие и до Федотова, и при нем, и после, и в том не было ничего зазорного: само собою разумелось, что природа нуждается в исправлении. Можно было поступить деликатнее – не ослаблять силу каждого цвета, а искусно подбирать самые эти цвета, согласовывая их друг с другом в натуре или переменяя их прямо на холсте: к лицу такого тона с такими волосами – такое платье, а к нему такой платок, а к ним такую драпировку сбоку, да еще стену соответствующего цвета.
Однако ему хотелось иного. Он слишком дорожил пленительной многоцветностью мира, чтобы гасить ее или подчинять своему произволу. С первых своих живописных работ, по крайней мере с тех, которые дошли до нас, он тянулся к цвету – к его красоте, гармонии, звучности. Заставить засиять самые скудные цвета натуры, увидеть в них то богатство, которое не видит простой глаз, суметь объединить несоединимое, восстающее друг против друга, – вот чего он хотел, в чем обнаруживал хватку природного колориста. Но тут и начинались те сложности, избежать которых не поможет ни один профессор Академии художеств, ни один учебник: надо было искать легкие колебания тона, которые сохраняют ощущение точно переданного цвета и вместе с тем дают ему возможность быть созвучным соседнему; открывать те скрытые переклички цветов, которые позволяют их соединять; видеть всякий цвет не отдельно от других, а только вместе с ними, в единстве, и этому единству, всему сразу, подбирать соответствие на холсте.
До всего он доходил своим умом, вернее сказать, инстинктом, в каждом новом портрете стараясь поставить себе новую цветовую задачу и найти ей верное решение. И впору поразиться тому, как искусно этот, в сущности, начинающий живописец сплавлял в утонченную розовато-зеленую гамму многообразие томов в «Портрете Амалии Легран», как изощренно оказывалось его ощущение цвета и то наслаждение цветом, которое он нам передавал в этой работе, писанной в 1846-м, самое позднее, в 1847 году.
Так он и шел, переступая от «портретика» к «портретику» – на ощупь, пробуя, ошибаясь, достигая, и все более послушной делалась его кисть и все более уверенно ложились краски. И то, что не удавалось вчера, сегодня непременно должно было получиться, а если не сегодня, то завтра уж наверняка.
Куда как тяжелее двигалось дело с картиной. «Это мой первый птенчик, которого я “нянчил” разными поправками около девяти месяцев». Так долго он больше никогда не возился ни с одной из своих картин, и более сложных, и более совершенных.
Эта работа была первой попыткой осуществить наконец заветный замысел – обратить сепии в картины. Она так и осталась единственной попыткой: Федотов быстро вырастал из своих замыслов. Для начала он обратился к самой «несложной» сепии, с участием всего двух героев – «Утро чиновника, получившего накануне первый крестик», позднее переменив ее название на «Свежий кавалер»; новое название было короче, а Федотов мало-помалу терял вкус к многоречивости (правда, на обороте холста все же надписал пером: «I утро чиновника, получившего первый крестик. Сочин. и писал Павел Федотов»),
Программу картины он сохранил ту же, что в сепии.
«Утро после пирования по случаю полученного ордена. Новый кавалер не вытерпел: чем свет нацепил на халат свою обнову и горделиво напоминает свою значительность кухарке, но она насмешливо показывает ему единственные, но и то стоптанные и продырявленные сапоги, которые она несла чистить.
На полу валяются объедки и осколки вчерашнего пира, а под столом заднего плана виден пробуждающийся, вероятно, оставшийся на поле битвы, тоже кавалер, но из таких, которые пристают с паспортами к приезжим. Талия кухарки не дает право хозяину иметь гостей лучшего тона.
Где завелась дурная связь, там и в великий праздник грязь».
Однако картина начала строиться иначе, чем сепия. Не более двух лет миновало, а тот эскиз уже казался ему неловким, домодельным, в нем многое надо было менять, перестраивать. И самая коробка комнаты – стена прямо, стена слева, стена справа, – переходящая из листа в лист, выглядела скучно. И формат, сильно вытянутый в длину, показался вовсе не подходящим для двух стоящих фигур, в нем всё слишком расползалось по сторонам, мешая цельности. И много случайного резало глаз – та же шинель, некстати повешенная на стену и торчавшая темным пятном как раз между обоими героями, словно кто третий затесался между ними, та же полка, норовившая прийти в неудачное соприкосновение с головой свежего кавалера, те же многочисленные вещи, приткнутые какая куда попадет, никак не соединяющиеся вместе.
Он изменил формат, взял вертикальный, но не слишком высокий, чуть повыше квадрата – как раз такой, что обе фигуры уместились в картине удобно, оставляя вокруг себя поменьше свободного места. Комнату поставил под углом, а чтобы это стало ощутимее, очертил под потолком косо идущие балки, а на полу – половицы. Правда, персонажей все равно развернул перед зрителем барельефно, как принято было в академической картине, и не без ловкости вписал их фигуры в треугольник, наметив его вершину подвешенной под потолком клеткой с птичкой.
Но на холсте работа шла тяжело. Неопытность мешала, да и не только она одна. Он отставал от самого себя. Пока задумывал, компоновал, пока подмалевывал, потом прописывал – шло время, и сам он продвигался вперед, портретируя одного за другим своих приятелей и знакомых. Готовые «портретики» приносил домой – глянуть наутро свежим глазом, проверить, поправить; рядом с ними, легко писанными, сияющими цветом, картина гляделась тяжелой, темной, неловкой. Впору было вообще забросить несчастный холст и начать новый, однако он себе этого не позволял. Это Константин Коровин через полвека скажет: «Если блюдо испортилось, его надо выбросить». Федотов так сказать не мог бы. Он был иной складки, той же, что Валентин Серов, – сжав зубы, довести дело до конца. Он счищал, переписывал, снова счищал, снова переписывал, безбожно наслаивая краску на краску, поневоле загрязняя, еще более затемняя и замучивая изображение.
Впрочем, дело заключалось не только в этом.
Самое превращение сепии в картину, казавшееся раньше таким простым, таким естественным делом, таило трудности едва ли преодолимые, противоречия едва ли примиримые. Сюжет сепии был мелок, ничтожен – так, легкая шутка, анекдот. Положим, и гоголевская «Шинель» выросла из анекдота, но сюжет «Свежего кавалера» был не только мелок. В нем не хватало живого, зримого действия, нужного для картины, вся соль его была в словах – в перепалке между кухаркой и «кавалером», и более всего годился он для карикатуры, для бойкого литографского листка, снабженного забавной подписью или диалогом, в стихах или прозе. Немного позднее, каких-нибудь два-три года спустя, Федотов исполнит целую серию таких сценок – быстро, но точно набросанных карандашом, шутливо-непритязательных и в этой непритязательности прелестных. Сейчас же он по неопытности попытался безделку возвести в картину жизни, настойчиво поверяя ее самой жизнью и придавая ей черты жизненной убедительности, пытаясь поведать зрителю гораздо более того, что на самом деле в нее вмещалось.
Рассказчиками сделались вещи. Как будто их убавилось по сравнению с сепией, а кажется, что стало даже больше, так красноречиво они, расталкивая друг друга, сообщают что-то о себе, о своем хозяине и его нраве, о попойке, происходившей накануне, многократно подтверждая немудреную мысль о том, что моральная нечистоплотность идет об руку с нечистоплотностью житейской.
Беспорядок, царящий в комнате, фантастичен – самый разнузданный разгул не смог бы произвести его: все разбросано, переломано, перевернуто. Мало того что курительная трубка разбита – так и у гитары оборваны струны, и стул изувечен, и хвосты селедочные валяются на полу рядом с бутылками, с черепками от раздавленной тарелки, с раскрытой книжкой (имя автора, Фаддея Булгарина, старательно выписанное на первой странице, – еще один упрек хозяину). И всё, по чему глаз сравнительно бестрепетно скользил в сепии, всё, что там было очерчено бегло, эскизно, здесь обрело материальность, насыщенность и напористость и потому сделалось ненатурально чрезмерным.
Уходя от карикатуры, Федотов решительно переменил и самих своих героев. Вместо прежних явились люди самые обычные, каких нетрудно повстречать на улице. Более того, если в сепии оба вызывали сходное насмешливое отношение, то здесь их характеры решительно разошлись, а значит, и отношение к ним тоже стало разным.
Кухарке Федотов отдал известную долю своей симпатии, а отчасти даже и своего авторского резонерства. Неуклюжую особу с дурацкой ухмылкой на невзрачной физиономии сменила недурная собою, с приятно округлым простонародным лицом (кстати сказать, слегка сродни деревенским героиням Венецианова) опрятная женщина, всем своим видом являющая откровенную этическую антитезу расхристанному хозяину и его поведению. Та кухарка, погруженная в нечистую и безалаберную жизнь чиновника, была ему ровня; эта смотрит на него с позиции стороннего и незапятнанного наблюдателя. (Сказать по правде, Федотов несколько запутался в собственных намерениях, не свел концы с концами, и о его желании изобличить героя в нравственной распущенности, а проще – в сожительстве с кухаркой, можно судить только из авторского комментария: «Где завелась дурная связь…»)
Столь же решительно обошелся Федотов и с главным героем. В сепии тот, наделенный некоторой, пусть и дурного тона, обаятельностью, веселый и добродушный, дурачился как мог. В картине же он решительно утратил то, что позволяет отнестись к нему сколько-нибудь приязненно. «Разврат в России вообще не глубок, он больше дик и сален, шумен и груб, растрепан и бесстыден, чем глубок…» – кажется, что эти слова Герцена писаны прямо про него. Он налился чванством и гневом, ощетинился. Амбициозность хама, желающего поставить кухарку на место, так и прет из него, обезображивая, право же, совсем недурные черты его лица.
В своей первой картине – многоречивой и не вполне внятной, по-прежнему проникнутой совершенно чуждым Федотову духом обличительства – он, не то чтобы нечаянно, но скорее всего неосознанно коснулся сокровенного – больного места, и коснулся так неожиданно, что даже не был правильно понят.
Кто в самом деле изображенный им разнузданный хам? Это вовсе не тот бездушный чиновник-карьерист, которого захотели увидеть зрители, в том числе и такой искушенный зритель, как Владимир Стасов, написавший по прошествии значительного времени, то есть вполне утвердившись в первоначальном восприятии: «…перед вами понаторелая, одеревенелая натура, продажный взяточник, бездушный раб своего начальника, ни о чем уже не мыслящий, кроме того, что даст ему денег и крестик в петлицу. Он свиреп и безжалостен, он утопит кого и что захочет, и ни одна складочка на его лице из риноцерсовой (то есть носорожьей. – Э. К.) шкуры не дрогнет. Злость, чванство, бездушие, боготворение ордена, как наивысшего и безапелляционного аргумента, вконец опошлившаяся жизнь».
Написано, как всегда у Стасова, сильно, но о совсем другом человеке. Герой Федотова – мелкая сошка. На это настойчиво упирал сам художник, называвший его «бедным чиновником» и даже «тружеником» «при малом содержании», испытывающим «постоянно скудность и лишения». Это слишком откровенно явствует из самой картины – из разномастной мебелишки, преимущественно «белого дерева», из дощатого пола, драного халата и беспощадно протертых сапог. Понятно, что комната у него всего одна – и спальня, и кабинет, и столовая; понятно, что кухарка не его собственная, а хозяйская. Ну он не из последних, не Башмачкин или Поприщин, не ветошка какая-нибудь – вот и орденок отхватил, и разорился на пирушку, но все-таки он беден и жалок. Это маленький человек, всей амбиции которого хватает лишь на то, чтобы покуражиться перед кухаркой.
Ошибка Стасова в оценке федотовского горе-героя была не его личная и в своем роде поучительная. Бедность, ничтожность чиновника, конечно, видели, но не воспринимали, пропускали: она не укладывалась в привычный стереотип.
С легкой руки Гоголя чиновник стал центральной фигурой русской литературы 1830-1850-х годов, а более всего – 1840-х. Степан Шевырев недаром заметил, что чиновники «доставляют литературе почти единственный материал для водевилей, комедий, повестей, сатирических сцен и проч. Вся она почти исключительно на них выезжает». Чиновнику сострадали. Да, подчас над ним и потешались, но нота сочувствия маленькому человеку, терзаемому сильными мира сего, оставалась неизменной, как и привычная антитеза гонимого чиновника и гонителя-начальника, и понадобился Достоевский, чтобы впервые разглядеть в маленьком человеке нечто не вполне симпатичное – даже в кротчайшем Макаре Девушкине, явившемся к русскому читателю как раз в том же 1846 году, когда Федотов сидел над своей картиной.
Тогда еще только начинали со все возрастающей тревожностью вглядываться в маленького человека, слой за слоем открывая в нем затаенную и поистине всепоглощающую жажду самоутверждения. Мы, люди начавшегося XXI века, хорошо знаем, что маленький человек, как бы ни проникаться сочувствием к нему и его горестям, способен порою на такой звериный оскал, рядом с которым заносчивость счастливого обладателя Станислава 3-й степени покажется капризом дитяти. Федотов почувствовал эту жажду инстинктом большого художника и выразил, скорее всего не задумываясь над тем, что вышло из-под его руки, не выводя закономерности. Героя своего он подсмотрел в постыдную минуту и сделал все, чтобы постыдность оказалась на виду: маленький человек нашел себе кого-то еще меньшего, над кем можно и вознестись, раб отыскал себе раба, попираемый возжаждал попрать.
Что ж, Федотов сам был маленький человек, сам терпеливо поднимался и медленно возвышался, и каждая веха пройденного пути запечатлевалась прочно в его сердце: вот принят в кадетский корпус, вот «первая роль» на выпускном акте (отрада детская, но он ее так крепко запомнил, что поведал о ней в автобиографии, пусть и слегка иронически), вот первый чин, вот следующий, вот бриллиантовый перстень от великого князя Михаила Павловича… Даже в сумасшедшем доме, находясь фактически по ту сторону жизни, он механическим движением карандаша лихорадочно чертил на попавшемся под руку лоскутке бумаги ордена – кресты, звезды, еще кресты: стыдное, потаенное вырывалось наружу, В картине «Свежий кавалер» он открещивался не только от своего героя, но и немного от себя самого – насмешкой, брезгливым отчуждением.
Никогда еще он не был и никогда больше не будет так беспощадно язвителен, как здесь. Жалкий чиновник стоит в позе античного героя, жестом оратора поднося правую руку к груди (к тому месту, где висит злополучный орден), а левой, упертой в бок, ловко подхватывая складки просторного халата, так, словно это не халат, а тога. Нечто классическое, грекоримское есть в самой его позе – с опорою тела на одну ногу, в положении головы, медленно повернутой к нам в профиль и гордо откинутой назад, в его голых ступнях, высовывающихся из-под халата, и даже клочья папильоток торчат из его волос наподобие лаврового венка.
Надо думать, что именно таким победительным, величественным и гордым до надменности ощущал себя чиновник. Но античный герой, вознесшийся среди ломаных стульев, пустых бутылок и черепков, мог быть только смешон, и смешон унизительно – все убожество его амбиций вылезало наружу.
Конечно, кисть живописца сплошь и рядом оказывается мудрее его мысли или по крайней мере обгоняет ее, но так ли уж непроизвольно возникла у Федотова пародия на академическую картину? Ведь склонность вышучивать почтенный арсенал классического искусства обнаруживал он и раньше. И в давней записи, сделанной в карауле у подножия Нарвских ворот: «…едут юные дети определяться, кто в корпус, в будущие Ахиллесы или повесы». И в иронических, даже несколько охальных, карикатурах на мифологические темы, вроде «Сатиры и нимфы». И в рисунке «Бельведерский торс», где он, прилежный посетитель рисовальных классов, посягнул на святое – изобразил учеников Академии художеств, срисовывающих и ваяющих штоф водки, поставленный перед ними вместо античного слепка.
Тот комический эффект, который сам собою возникал в некоторых его сепиях, Федотов употребил на сей раз достаточно обдуманно, в целях иронического осмеяния. Ведь в сепии чиновник стоял в дурашливой ухарской позе, ничем не напоминая античного оратора. Развенчивая своего героя, Федотов одновременно развенчивал и академическое искусство с его закостенелыми ужимками и ухватками. В его первой картине русская живопись, смеясь, расставалась с академизмом.21
«Свежий кавалер» тяжело достался Федотову, но столько нового успел он узнать за девять месяцев, столькому научиться, что не терпелось скорее взяться за следующую картину.
Все-таки он позволил себе сначала исполнить еще одну сепию, благо идея продолжения и расширения начатой серии еще теплилась в нем. Сепия была задумана давно, но все откладывалась за недостатком времени. «Бедной девушке краса – смертная коса» (или «Мышеловка»): разодетая сводня, разложив на столе деньги, серьги, перстни и разбросав на скамейке роскошный наряд, убеждает бедную, но честную девицу, зарабатывающую шитьем, пойти на содержание к офицеру.
Сепия не совсем удалась. Как и в прежних, в ней было много демонстративного, разъяснительного, нарочитого. И престарелая мать, скорчившаяся от кашля на своей убогой постели. И сводня, показывающая на богатое платье актерским жестом (указательный палец вытянут вперед, большой откинут в сторону, а все прочие плотно сжаты). И фигуры дворника и бесчестного соблазнителя (офицер спрашивает адрес, дворник показывает рукой и получает за это вознаграждение), которые видны в проеме двери, словно специально для того отворенной. И, наконец, сама мышеловка, от которой пошло второе название сепии – она стоит на полу, к ней крадется простодушная мышь (через несколько лет Михаил Погодин, пленившись более чем нехитрой аллегорией, воскликнет патетически: «Крепись, крепись, бедная девушка. Взгляни на эту западню, куда лакомый запах привлекает резвую мышку. Это твоя судьба»).
Словом, наивно задуманная, сепия наивно была и осуществлена. Все же было здесь и нечто новое. Как будто мелочь: поведение героини. Она не закатывает глаза в отчаянии, не хватается за голову, не отталкивает сводню жестом гордой неприступности – она вообще ничего не делает, не изображает, а молча сидит, тупо глядя перед собою и ковыряя стол ножницами, случайно оказавшимися под рукой, словно ей и слушать не хочется, и оттолкнуть нет сил. Это внутренняя жизнь, сама собою вышедшая наружу и оказавшаяся красноречивой в своей непроизвольности.
Такая мелочь была подлинным прозрением художника, она дорого стоила, но и ее не хватало, чтобы перевесить нарочитость остальных деталей и обстоятельств. Федотов попробовал потом, позже, возвратиться к трогательному сюжету и успел сделать два этюда маслом на маленьком холстике – девушка и, отдельно, голова сводни, сильно измененные в сравнении с сепией. Но дальше этюдов дело не пошло, а там и самые сепии канули в прошлое.
Они уже и сейчас не были ему нужны, потому что замысел своей новой картины он позаимствовал у Крылова. Намерение было благородное – почтить память баснописца, скончавшегося три года тому назад. Крылова он ставил чрезвычайно высоко, гораздо выше и Пушкина, и Гоголя (натяжка, впрочем, понятная и простительная); в собственных баснях подражал Крылову как мог; наконец, помнил, что не кто иной, как Крылов, подвигнул его на верный путь в искусстве, стал, так сказать, его крестным отцом.
Он взял известную басню «Разборчивая невеста» о привередливой красавице, которая год за годом отказывала всем претендентам, пока вдруг не спохватилась:
Красавица, пока совсем не отцвела,
За первого, кто к ней присватался, пошла,
И рада, рада уж была,
Что вышла за калеку.
Будем честны: в картине «Разборчивая невеста», картине безусловно мастерской, значительно превосходящей «Свежего кавалера», Федотов не высказался так сильно, отчетливо и захватывающе, как нам бы того хотелось. Смысл ее не выходит за пределы уже поведанного Крыловым. Зато он уверенно восполнял в ней то, чего так не хватало в картине предыдущей.
Там, в сущности, так и не образовалось целостного драматического действия, вместо него было показано противостояние друг другу двух людей, каждый из которых что-то говорит другому, и нужно разгадывать смысл происходящего между ними по многочисленным предметам, разбросанным там и тут, или даже заглянуть для этого в авторскую «программу». Здесь такое действие было выстроено; избран был тот решающий момент, который позволял всё понять – и судьбы людей, объясняющихся друг с другом, и суть самого объяснения, и то, что вслед за этим воспоследует.
Там изображенная художником жизнь не была еще жизнью в точном значении этого слова – скорее условным существованием напоказ, когда люди (да и вещи) живут, не по-взаправдашнему, то есть для себя и друг с другом, а «актерствуют». Здесь от этого не осталось и следа. Персонажи на самом деле проживают столь важную для них ситуацию, всецело отдаваясь своим чувствам. Вещи строго отобраны, и ни одна из них не кажется лишней: и цилиндр с положенными в него перчатками, опрокинутый Женихом, когда он резво бросился к ногам Невесты, и предметы обстановки, вплоть до картин Федора Моллера «Невеста» и Алексея Тыранова «Девушка с тамбурином» – свидетельств вкуса распространенного, но не тонкого.