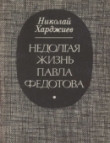Текст книги "Павел Федотов"
Автор книги: Эраст Кузнецов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 24 страниц)
Приземленность и невзрачность в самом деле ушли, однако взамен явились качества, совсем неожиданные и даже неуместные. Молодая женщина стала поизящнее, но в этой изящности обнаружилось сродство с модной картинкой – так кокетливо она изогнула свой стан, так жеманно отогнула мизинчик, так манерно ниспадали складки платья, так холодно и по-светски томно стало выражение лица, так ярки губы, а в слегка приоткрытой груди чудилось нечто едва ли не игривое.
Да и все целое оставляло желать лучшего. Прибавление лишнего пространства не пошло на пользу: картина несколько расползлась в стороны, возникли новые предметы, ничего не добавлявшие к прежним, и сама Вдовушка несколько подзатерялась в просторе комнаты, среди расплодившихся вещей. Утратила картина и в цвете. С правой стороны, со стены, пошла неприятная синева – она переползала и на портьеру и не лучшим образом сталкивалась с идущей снизу и слева назойливой яркостью рыжеватого свечного освещения и желтого паркета. Из-за этого все сдвинулось в колорите, позолота багета и оклада стала ярче, звонче, чем прежде, а разноцветные мотки ниток, раньше скрывавшиеся в полутени, сейчас загорелись, присоединяясь к общей пестроватости. Общее впечатление создавалось немного более легкомысленное, чем хотелось бы.
Федотов не отчаивался. Он и этот вариант довел до законченности, после чего отставил в сторону и принялся за третий. На академическую выставку 1851 года (предыдущую пропустил) он, подумав, выбрал первый вариант – в нем все-таки было больше жизни и неподдельного чувства.
На выставке «Вдовушка» шума не произвела. Сама новизна обращения к житейской коллизии уже пропала, да и слишком тихая, «несложная», требующая спокойного и углубленного созерцания, в отличие от «Сватовства майора», картина не была предназначена собирать вокруг себя толпу. Собственно, и провисела-то она всего несколько дней. Богач и меценат К. Т. Солдатёнков сразу прельстился и захотел купить. Федотову было не до колебаний, как раз подходил срок выплаты одного из долгов, к тому же это был все-таки только первый вариант. Он согласился, Солдатёнков тотчас забрал картину, не дожидаясь закрытия выставки, и увез к себе в Москву.
Впрочем, заметить ее успели. Безымянный автор одиннадцатой книжки «Современника» (кажется, это был все тот же Виктор Гаевский) встретил «Вдовушку» очень сочувственно, оценив новизну сюжета и воздав автору: «Неопределенность положения и какая-то недосказанность в судьбе изображенного лица доказывает глубокий такт художника… Если бы художник высказал больше, чем он это сделал теперь, воображение зрителя не было бы возбуждено этой неопределенностью положения…»
Федотов рецензию, должно быть, не читал, тем более что она касалась давно пройденного и ему понятного. Он уже работал над третьим вариантом.
Многое определилось сразу. Снова обрезать все изображение, но теперь только с левой стороны – пространство сократится, отчего фигура станет преобладать, а формат холста слегка вытянется вверх, приобретет пропорции более утонченные. Подрезать слегка и снизу, чтобы фигура придвинулась ближе к зрителю. Стену развернуть, чтобы круче уходила в глубину, уводя от глаз житейские подробности. Всю картину притемнить – некоторая сумеречность скроет излишек деталей, которые должны более угадываться, чем читаться, да и пойдет на пользу общему настроению. Самые детали тоже сократить до строго необходимого. Перебрать вещицы на комоде: корзинку с нитками снять вовсе (пестро, отвлекает, а для сюжета хватит и пялец), папку тоже (лист высовывается нарочито), книжку не положить, а поставить, чтобы ее корешок добавлял в картину свою маленькую вертикаль. Портрет и образ оставить как было. Не совсем, правда. С поворотом стены они осветились немного иначе и свет на них заиграл бликами по-новому; махнуть бы на это рукой и повторить прежнюю игру, но Федотов педантично написал заново, в третий раз, и портрет, и образ, а с ними и комод, потому что и тот повернулся чуть-чуть круче, и свет лег иначе, и текстура красного дерева заиграла по-другому.
Снова дело стало за главным – за самой Вдовушкой. Уже и фигуру уточнил, чтобы не так простовата была, как первая, но и не так манерна, как вторая, и руки расположил иначе, и складки на платье, сохранил только верно найденный наклон головы к правому плечу, собираясь этому наклону ответить плечом, слегка приподнятым навстречу подбородку, а лицо, быть может, чуть сильнее двинуть в профиль. Однако лица-то и не было.
Он продолжал совершать вылазки на Смоленское кладбище и присматриваться ко всем встречаемым на улице женщинам. Снова стал рисовать знакомых. Написал вдруг картину «Мадонна с младенцем» и, смеясь, объяснил пораженному Дружинину: «Штука вот такого рода. Эта мысль не давала мне покоя, и я захотел испробовать свои силы. Сверх того, мне нужно добыть себе мягкости, грации, неземной красоты в лицах». Он решил занять столь желанной гармонии и у древних, больших мастеров по этой части. Поставил голову Венеры Медицейской и стал ее рисовать в нужном повороте. Потом снова рисовал свою героиню, приближая ее к Венере, а Венеру – к ней (сходным образом работал и Александр Иванов, который в лице Иисуса Христа старался соединить черты не только живых людей, а среди них и женские, но и Аполлона). Искал в пределах давно, еще в первом варианте намеченного типа лица, не совсем заурядного, а близкого идеальному античному канону – с прямым ровным носом, продолжающим линию лба, плавным изгибом крупных бровей и отчетливостью хорошо прорисованных век.
То ли христианские, то ли языческие боги помогли, или, наконец, время подошло, чтобы неутомимый труд дал плод, но случилось то чудо, что случается порою у больших художников. Федотов сел перед едва начатым холстом, на котором была только едва набросанная фигура и несколько отделанных предметов, и, проработав подряд вечер, ночь и утро, закончил картину. Ликование его было так велико, что им невозможно было не поделиться. Проезжавший мимо Дружинин был остановлен, как обычно, стуком в оконное стекло, вслед за чем и сам Федотов выскочил на улицу: «Заходите, заходите живее… Хорошо, что вы были у меня вчера… вы увидите вещь, за которую меня иной может ославить лгуном!» Совершенно готовая картина поразила Дружинина: «Вы шутите надо мною, Павел Андреич, неужели это дело одного вечера и одного утра?» – «И одной ночи. Нынче, слава богу, рано рассветает. Со мной произошла штука, феномен, чтобы сказать благообразнее, о котором я до сих пор понятие имел только приблизительно. У меня будто искра зажглась в голове; я не мог спать, я чувствовал в себе силу чрезвычайную; мне было весело; я сознавал каждой жилкой то, что мог в эти минуты сделать. Никогда не доводилось мне работать с такой легкостью и так успешно: каждый штрих ложился куда следовало, каждое пятнышко краски подвигало все дело. Я вижу, что иду вперед. Как ловко и весело трудиться таким образом!»
В тот же день28 Федотов показал картину Льву Жемчужникову. Тот восхитился: «Как это хорошо и как просто!» «Да, будет просто, как переделаешь раз со сто», – пояснил художник всю суть происшедшего «феномена». И так ему понравился нечаянно сложившийся афоризм, что он даже записал его для себя: «Повтори раз со сто, / Будет дело просто». И этого показалось мало, записал еще: «Про “Вдовушку”, выставленную в 1852 году,29 я знаю, скажут: “Немудрено сделать хорошо, изучал предмет два года”. Да, если бы каждый мог иметь столько характера, чтобы в продолжение двух лет изучать одно и то же, чтобы дать себе раз чистое направление, то хорошие произведения не были бы редкостью».
Волею обстоятельств «Вдовушка» почти на полстолетия оказалась последней из известных, не только публике, но и критикам, картин Федотова и долгое время представлялась последним словом художника. Ей долго не везло. Сначала Стасов не увидел в ней ничего, кроме «расслабленной сентиментальности», а вслед за ним примерно то же самое повторял на свой лад едва ли не каждый из писавших. Кто называл ее «необычайно фальшивой и слащавой по настроению» (П. Конради), кто, не удосужившись мало-мальски разобраться в сюжете, видел в ней «сентиментальное изображение молодой вдовы, переезжающей с квартиры на квартиру», которое «никакого впечатления не производит» (П. Ге). Да и в сравнительно недавние и, надо думать, безвозвратно канувшие в прошлое времена Федотову было принято пенять за уход от критического обличения действительности в сферу узкоинтимных и упадочных переживаний, будто бы наметившийся именно во «Вдовушке».
Вряд ли стоит говорить о том, насколько это было несправедливо, но о том, насколько это закономерно, – стоит задуматься.
На федотовских часах стрелки двигались вдвое, если не втрое быстрее, чем на обычных. Вынужденный сначала энергично догонять свое время, сейчас он уже начал его обгонять, незаметно для себя миновав пункт, в котором достиг счастливого согласия с окружающими. Пунктом этим было «Сватовство майора», решительно всех удовлетворившее и всех поразившее, кроме разве что каких-то совсем замшелых ретроградов, да и те предпочли отмалчиваться. В «Сватовстве майора» Федотов опередил художественное сознание своего времени, но лишь отчасти – настолько, что его, если не поняли до конца, так хоть приняли радостно. Это было именно то новое, которое готово было разродиться и которого с нетерпением дожидались: свежее слово, но произнесенное на общепринятом языке академической живописи, в совершенстве усвоенном и заметно обогащенном художником; реальная жизнь, но искусно облеченная в театрализованное зрелище, представленное отстоящему от него зрителю-созерцателю.
Любому другому художнику обретенного в «Сватовстве майора» за глаза хватило бы на десятилетия достойного существования в искусстве: его и Перов почтительно приветствовал бы десять лет спустя, а 20 лет спустя и передвижники раздвинули бы для него свои ряды как для патриарха. Но Федотов развивался дальше и остановиться уже не мог, если бы даже очень захотел. То новое, к чему он шел, во «Вдовушке» обнаружило себя еще слабо, но и этого оказалось достаточно, чтобы современники стали его хуже понимать.
Новой была сама позиция художника по отношению к изображаемому. Серебристый и рассеянный дневной свет прежних федотовских картин, неизменно как бы льющийся из подразумеваемых окон в «четвертой стене», был воспринят Федотовым из академической живописи, он выражал волю художника, бесстрастно-ровно высвечивая лица и предметы, давая зрителю возможность непредвзято судить о видимом.
В этом ставшем привычным и, казалось бы, таком бесспорном порядке впервые что-то сдвинулось и нарушилось именно во «Вдовушке». Задумывая ее, Федотов записал: «Надобно попробовать сделать картину… вдовушку: главную фигуру в снопе лучей от окна, все матовое, тени теплые, резкие». Не важно, выполнил ли он эту, достаточно неопределенную программу, или нет; не важно, насколько она расходилась с академической привычкой. Важно, что проблема освещения вдруг стала предметом его специальной заботы, связанной с самим замыслом.
Пусть во «Вдовушке» сохранялся еще все тот же ровный свет, отчетливо и выпукло рисующий то, что находится впереди, и постепенно погружающий в тень все, что подальше. Но вдобавок к нему, и как бы робко оспаривая его, возник в картине огонек свечи. Свеча, вместе с казенной печатью и палочкой сургуча, оставленная на сиденье стула судебным исполнителем, как будто нужна была по сюжету. Однако если призадуматься, то сюжет и без нее был бы достаточно понятен, и понадобилась она Федотову – сознавал он это или нет – для иного, более важного.
Здесь впервые явился у него предмет, обладающий своим собственным смыслом, живущий собственной жизнью, воздействующий собственной выразительностью, а не только характеризующий привычки и нравы своих хозяев. В свече есть нечто от грустной молитвы, от умиления, охватывающего человека; свечу ставят за упокой, поминая умершего, или во здравие, беспокоясь о близком; свеча способна плакать медленно скатывающимися восковыми слезами; пламя ее беззащитно и несмело; горящая свеча уменьшается в росте, отсчитывая остающееся время; наконец, само зрелище свечи, зажженной среди белого дня, невольно порождает чувство тревоги.
Федотов перешагнул через им самим заведенную и неукоснительно поддерживаемую привычку к житейской точности: вместо неуклюжего оплывшего огарка в простецком подсвечнике, фигурировавшего в первых двух вариантах картины, в третьем возникла вдруг тонкая и стройная свечка в подсвечнике таком же стройном и изящном. Эта свечка, слабо горящая в глубине комнаты, стала зримым выражением внутреннего состояния вдовушки – то сама душа Вдовушки, тихо несущей груз своего страдания.
Героиня «Вдовушки» (третьей, самой совершенной и наиболее полно выразившей притязания художника) предстала неземным существом, оказавшимся выше земных страданий, тягот, болей. Вовсе не звучат натяжкой слова давнего исследователя, зорко увидевшего в ней «одного из тех архангелов, которых создавала неистовая вера древнего иконописца»,30 равно как и слова исследователя современного, позволившего себе истолковать картину «как “реквием” Федотова, где безвременно покинутая муза скорбит у автопортрета художника, предсказавшего таким образом свою трагическую судьбу».31
Удивительная, непрекращающаяся черта русского художника – его тяготение к возвышенному, отрадному, очищающему, стоящему выше реальной жизни – к идеальному. Верно, оно в свое время и породило у нас, в самом как будто неподходящем месте, среди елок и болот, под хмурым северным небом, расцвет классицизма. Не один художник пытался отречься от этой страсти, подавить ее, скрыть от всех (и от себя в первую очередь), бросаясь в злобу дня, ее заботы и потребности – как в схиму, как в омут, со всей одержимостью, также составляющей черту русского художника. Но тайная, неутоленная страсть все равно продолжала тревожить его, он то отгонял ее как соблазн, то слабел перед нею, и она – нельзя подавлять себя безнаказанно – выливалась в опыты наивные, а когда и в салонные.
Во «Вдовушке» Федотов подошел к опасной границе, отделяющей красоту от красивости, возвышенность от выспренности, а духовность от отвлеченности, но не преступил ее.
Третьим вариантом он мог быть и как будто был доволен, но что-то продолжало томить его душу. Иначе почему бы, в самом деле, исполнив три варианта (была еще и сделанная кем-то копия, в которой он специально для своего приятеля Лебедева написал руки и голову), Федотов начал четвертый, в котором пошел к тому, чтобы сделать духовное, светлое, возвышающее начало не предметом прямого изображения, а высшим мерилом и высшей целью своего труда, каким бы земным и грубым материям этот труд ни был посвящен.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Если и верно, что человек, предчувствуя скорую кончину, умножает усилия, торопясь сделать как можно больше, то это, быть может, более всего относится к Федотову – к последнему году его жизни (или полутора – кто сейчас разберется в календаре его лихорадочных будней). Смерть была уже недалека, и он жил так, словно знал это. Энергия его удесятерилась, он все успевал, болезнь, сидевшая в нем глубоко и постепенно обострявшаяся, подгоняла его, и сама фантастическая продуктивность Федотова, увы, была одним из признаков этой страшной болезни. Житейские заботы, сердечные дела, зарождающиеся и ищущие выхода замыслы, начатые и требующие завершения картины – все набегало друг на друга, всё смешивалось, спутывалось, и он – нет, не распутывал этот клубок, а раздергивал, обрывая и отбрасывая ненужное, освобождая себя для главного – для работы.
Денежные дела по-прежнему были из рук вон скверны. Пособие, даже заметно возросшее, не возмещало расходов. Затея с литографированием картин провалилась. Идея издавать «нравственно-критические сцены» погибла, едва успев народиться. Копия «Сватовства майора» стояла полунаписанная, и до конца работы было еще далеко.
Оставалось то, на что он до сих пор не решался, – продать самую картину. Предлагаемые Прянишниковым две тысячи (а за вычетом задатка – тысяча семьсот) были деньгами верными, словно отложенными про черный день в надежное место, – только протяни руку. Однако произошло неожиданное. Генерал вдруг повел себя, по словам Федотова, «невеликодушно» – пошел на попятный и объявил, что может заплатить не более половины обещанной суммы, иными словами, за «Сватовство майора» тысячу, а за «Свежего кавалера» пятьсот, да и то не сразу, а по частям. Ссылался на перемену обстоятельств, но то была лишь отговорка: скорее всего, зная федотовскую стесненность, решил сэкономить. Еще хорошо, что не требовал назад задаток и вообще не спешил, выжидая, как опытный охотник.
Удар пришелся не только по кошельку. Как-никак Прянишников был в некотором роде почти «свой». Федотов на протяжении восьми лет ходил в его дом, считался как бы другом обширного семейства и в качестве такового не раз был вынужден занимать беседой многочисленных домочадцев и переносить некоторую (сугубо домашнюю) снисходительность генеральского обращения. Все-таки знакомый генерал – фигура полезная, его, по выражению Федотова, «было бы не худо придержаться как пука соломы, на случай падежа»; он и в самом деле как-то помог троим федотовским знакомцам выпутаться из обременительных сенатских хлопот. По всем статьям он был как будто прямой благодетель, и, в конце концов, не кто иной, как генерал Прянишников, в свое время вручил Федотову рекомендательное письмо Чаадаеву – и именно он так подвел.
Очередная оплеуха федотовскому прекраснодушию.
Был в запасе другой покровитель искусств, также успевший изъявить притязания на модную картину, – Григорий Степанович Тарновский, дядя Юлии. Полетело письмо в Каченовку – ответ не замедлился, притом самый обнадеживающий. Южный магнат, вдоволь наиронизировавшись по поводу скаредности столичного генерала, подтвердил готовность уплатить требуемую сумму по приезде в Петербург. В Петербург он приехал очередной осенью, но картину не купил. Передумал, заблажил – бог весть что случилось, сейчас уже не понять.
Этот удар оказался почувствительнее первого. Выходка Прянишникова, выглядевшая поначалу просто генеральской блажью, представала в более мрачном свете. Что-то явно разладилось. Федотов, рассчитывавший на свои картины как на твердый капитал, собиравшийся (как знать!) еще поторговаться с возможными покупателями, теперь должен был сам домогаться этих покупателей. Попробовал через актера Самойлова связаться с Кокоревым, меценатом московским, владельцем известного собрания, и ему предложить злосчастное «Сватовство майора», но и тут ничего не вышло. Скорее всего, Кокорев просто не приехал в Петербург, как собирался, а время не ждало.
Отыскался как будто покупатель на «Свежего кавалера». Какая-то графиня (или княгиня) прислала к Федотову своего светского приятеля, некоего Николая Федоровича, переговорить о покупке. Тот, не застав художника дома, оставил ему записку с разъяснением сути дела. В ответ Федотов направил ему письмо, в котором объявлял свою цену и старался возможно доступнее оправдать ее трудностями отыскания нужной натуры. Письмо возымело неожиданное действие: его сочли неучтивым до дерзости и покупка сорвалась сама собою.
Ничего уже не оставалось, как соглашаться на условия Прянишникова. Унизительный торг. Да и кто способен понять, во что обходится картина автору?
«Целый год изучал я одно лицо; а чего мне стоили другие! Но никто из не знающих меня и не подумает об этом. Веселая, забавная картинка – и ничего больше. А запроси за нее столько, сколько она тебе самому стоит по труду, по чистой совести, скажут: дорого, и никто не купит, а деньги нужны!.. Нет, всего выгоднее рисовать солдатиков…» – пожаловался он как-то Можайскому.
Одного ли его одолевали подобные размышления? «Теперь мне всякую минуту становится понятней, отчего может умереть с голода художник, тогда как кажется, что он может большие набрать деньги. Я уверен, что не один из близких даже мне людей, думая обо мне, говорит: “Ну, что бы мог сделать этот человек, если бы захотел! Ну, издавай он всякий год по такому тому, как ‘Мертвые души’ – он мог бы доставить себе 20 тысяч годового дохода”. А того никто не рассмотрит, что этот том, со всеми его недостатками и грехами непростительными, стоит почти пятилетней работы, стало быть, может называться вполне выработанным кровью и потом…»
И как мимолетен успех! Два года прошло с триумфа на академической выставке, а за «Сватовство майора» уже дают вдвое меньше.
Федотов побарахтался немного – пытался объясниться, набрасывал письмо Прянишникову: «Понимаете, как мне дорого самолюбие… Меня нужда гнетет. А вы богач. Если скажете: я вас знать не хочу, а зачем заискивали? Сколько я обдумал, я оскорбляю в себе чувство стремления к изящному, а это мое единственное благо. Эта цена унижает и меня и вас. Я, который сделался известным, отличаюсь самостоятельностью мысли. – Лучший… Неужели только 1000 р…?» Неизвестно, послал ли письмо, или удовлетворился тем, что бессвязно излил в черновике свою горечь и недоумение. Да только отдал-таки Прянишникову обе картины за полторы тысячи, а вскоре порвал с ним.
Фактически на руки пришлось, за вычетом задатка, всего тысяча двести. Будто и неплохо, но если прикинуть, во что станут натурщики, вещи, забираемые в кредит для будущих картин, краски, холсты и тьма всего другого, получалось, что хватит едва на год, от силы – на полтора, а что дальше – неизвестно. Однако он не загадывал без толку (и был прав: дальше – не понадобилось).
Тогда же развязались, наконец, и его отношения с Юлией Тарновской. Сама Юлия пошла напролом: прямо объявила Федотову, что любит его и готова терпеливо ждать того момента, когда он сможет предложить ей руку. Бедность ее не смущала – не только потому, что бедность она наблюдала со стороны и невнимательно, но и потому, что, очевидно, дядюшка обещал ей приличное приданое.
Поступок решительный. Федотов дрогнул – но отказался. Насколько можно судить, прямого объяснения так и не произошло – он уклонился, перестал бывать у нее, видеть, встречаться; вскоре же, весной 1851 года, Юлия вновь покинула столицу, а по ее возвращении осенью все уж осталось позади – хоть и не сказано ничего, а без слов ясно и ворошить бессмысленно.
Что до Юлии, то она утешилась, притом довольно скоро. Уже зимой 1853 года, когда и полугода не прошло со смерти Федотова, она увлеклась другим – гусаром Евграфом Смирновым, тоже, кстати говоря, бедным, а в конце лета вышла за него, получила обещанное приданое, стала состоятельной. Потом она овдовела, уехала за границу и вела там тот образ жизни, который принято называть рассеянным. Тарас Шевченко грустно-иронически записал в своем дневнике в 1858 году: «Я знал ее наивной милой институткой в 1845 году, а теперь черт знает что, претензия на барышню, а в самом деле на порядочную горничную не похожа…»
Разумеется, из супружеского союза с Юлией Тарновской ничего путного выйти не могло, но вряд ли Федотов задумывался о созвучности натур. Свое поведение он прямодушно объяснил в редком для него откровенном разговоре с Дружининым (хотя и не называя имени и не вдаваясь в подробности отношений): «Эта женщина теперь получает полную власть надо мною. Меня слишком мало любили и ценили в мою жизнь; я обязан всем особе, полюбившей и оценившей меня в настоящее время. Я чувствую, что с прекращением одинокой жизни кончится моя художественная карьера. Мне принесена жертва, и, может быть, я отвечу на нее жертвою… Подумали ли вы о том, сколько посторонних радостей, сколько вредных искусству забот повлечет за собою моя тесная связь с семейством, наконец, моя жизнь семейная. Меня не станет на две жизни, на две задачи, на две любви – к женщине и искусству. Разве затем я должен принять ея руку, чтобы оставить ей заботы и хлопоты, а самому, вдали от нее, вести ту жизнь, без которой я не могу вперед двигаться?.. Нет, чтобы идти, идти прямо, я должен оставаться одиноким зевакой, до конца дней моих…»
Рассуждениям этим нельзя отказать ни в здравости, ни в благородстве, и недостает в них сущей безделицы – подлинного чувства. Они скорее напоминают размышления о том, как следует вести себя порядочному человеку в отношениях должника и взаимодавца, и Дружинин совсем недаром как-то обмолвился о Федотове, что «даже в делах любви он оказывался рассудительным».
«Поздно начинать учиться рисунку, когда живая женщина нравится больше Венеры Медицейской», – говаривал Карл Павлович Брюллов. Но как быть, когда Венера Медицейская тебе дороже, чем живая женщина? За искусство человек платит дорого – подчас полнотой собственной жизни. Может быть, и не ко всем это относится, но к Федотову – в первую очередь.
Он давно уже перестал быть тем общительным человеком, каким его знавали в юности. Его строго отмеряемая доверительность и ровно распределяемая благожелательность были обманчивы. Обманчивы не в том смысле, что под ними скрывались черствость, себялюбие, мизантропия. Нет, он по-прежнему был ко всем расположен, но не способен был отдавать себя живым людям в той же мере, что и написанным или нарисованным, – на всё его уже не хватало.
Отыскав в бумагах Федотова после его смерти карандашный автопортрет (ставший потом широко известным), самые, казалось бы, близкие друзья пришли в недоумение; сходство было безупречное, но Федотова они не узнавали. Таким – отрешенным, ушедшим в невеселые мысли – его не только в обществе, но и в задушевной, с глазу на глаз, беседе никто нигде и никогда не видел. Он весело и беззаботно держал себя на прощальном вечере при выходе из полка, между тем переполнен был сомнениями. Он был, как вспоминает Дружинин, «ровным по характеру, уверенным в себе и спокойно неутомимым» в последние месяцы перед болезнью – а о том, что творилось у него в душе, мы можем догадываться, заглянув в его записки.
Общение давно стало всего лишь дополнением к творчеству, и оказалось, что его «жадность до людей» – в сущности, продолжение его жадности к искусству.
Юлия Тарновская тоже была ему нужна – она разнообразила и украшала собою его жизнь, она несла новые для него впечатления, она льстила ему, дарила то восхищение блестящей светской барышни, которого не хватало его самолюбию, потому что таких барышень в его кругу не водилось. Он, добрый, чувствительный, наконец, необласканный женщинами, хотел и готов был любить, но на любовь его уже не оставалось, и то, что со стороны казалось любовью, что он сам, может быть, принимал за любовь, любовью не было.
Сожалел о разрыве; много позднее, за несколько месяцев до конца, порывался объясниться, стал набрасывать длинное беспорядочное письмо, где, перескакивая с одного на другое, путаясь в словах и мыслях, уходя далеко в сторону от главного, пытался высказаться. Но письмо, скорее всего, не послал, бросил, не дописав, потому что все и так было понятно. Напевал сочиненную как-то песню: «Брожу ли я, / Пишу ли я – / Всё Юлия да Юлия. / Веселья чашу братскую / С друзьями разопью ли я, / И громко песню хватскую / С гитарой пропою ли я, – / Всё Юлия да Юлия…» – но и тут любовь была искренне сочинена вместе с братской чашей и хватской песней.
Была у него одна только работа, и работе он отдавался с такой истовостью, с какой не отдавался никакому чувству.
Еще летом 1850 года, сразу после возвращения из Москвы, затеял он копирование «Сватовства майора», твердо положив ни на что не отвлекаться, ничего не поправлять и не улучшать, а просто повторить написанное мазок в мазок и поскорее отвязаться от неувлекательного занятия. Но так не получилось. Едва снова оказался перед белым грунтованным холстом, как почувствовал, что повторять точь-в-точь не может. Два года минуло, как была сделана картина, столько перевернулось вокруг и в нем самом.
Начал работу – и всё словно само собою стало изменяться.
Безупречно завязанное равновесие, которым он раньше по праву гордился, сейчас стало ему мешать, и он начал одну за другой вытаскивать скрепы и тяги, которыми кропотливо соединял композицию. Убрал люстру, которая так держала центр, перетасовал портреты и картинки на задней стене, которые своим расположением этот центр укрепляли; осветил все происходящее более неровно, что-то выделяя светом, а что-то уводя в густую тень. Композиция сделалась немного беспокойнее, даже тревожнее, Дочь рванулась к дверям стремительнее, и картина стала крениться в иную, чем прежде, сторону, представляя действующих лиц и все между ними совершающееся в новом свете. Потребность показать терпящую удары жизни чистую душу, подобную Вдовушке, вторглась и сюда, неузнаваемо преобразив рассказанную со вкусным юмором два-три года тому назад трагикомическую историю, в которой не было ни правых, ни виноватых, ни униженных, ни унижающих.
Майор утратил молодцеватость и некоторую симпатичность, которые исходили от его ладной фигуры и гладкого улыбающегося лица. Взамен него возник другой, тоже Майор, но обрисованный, пожалуй, даже с излишней карикатурностью – толстобрюхий, со злобно-расчетливой ухмылкой на физиономии. Добродушная улыбка Свахи приобрела оттенок торопливой угодливости. Отец, спешащий ей навстречу, стал суетлив и осклабился совсем по-сатанински. Покойная уверенность Матери обрела тупую животную напористость. Словно все они, объединившись в некоем явно нечистом и постыдном заговоре, торопились бросить Дочь в объятия непривлекательного субъекта.
Преобразилась и сама Дочь. Как будто все так же бежала она через комнату, но во взгляде ее не было прежнего милого жеманства, а явилось смятение, и на приоткрытых губах – гримаса отчаяния. Окруженная, загнанная, затравленная, она неслась к спасительным дверям, провожаемая уже не насмешливым, как прежде, но все понимающим взглядом Кухарки.
Одновременно со всем этим иной стала и сама комната, постепенно утратившая черты уютной и зажиточной домовитости. Вслед за знаменитой люстрой, сиявшей всеми своими подвесками, пропала богатая роспись потолка; большая часть портретов и картинок заменена была какими-то скучными казенными грамотами в рамках, а изящные жирандоли – свечами в самых заурядных медных подсвечниках; паркет опростился; на дешевой, без узоров, скатерти вместо судка, радостно переливавшегося хрусталем и серебром, оказался один сиротливый графинчик с уксусом; пропала лампа, а вместе с нею и лампадка перед образом Спаса. Исчезло или изменилось всё, за что прежде был готов с удовольствием зацепиться взгляд. Комната сделалась унылой и мрачной – истинным местом для свершения дурного дела, а во всей картине зарождалось понемногу нечто новое для Федотова – атмосфера, то есть то общее состояние, которое действует на зрителя само по себе, независимо от поведения персонажей, от обстоятельств, сюжета.