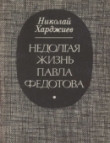Текст книги "Павел Федотов"
Автор книги: Эраст Кузнецов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 24 страниц)
Дурны большей частью были и учебники – трудные, многословные. Да и их – «Физики» Двигубского, «Оснований механики» Франкёра, «Истории» Кайданова, «Русской грамматики» Греча, «Краткой всеобщей географии» Арсеньева, «Руководства к тактике» Медема, «Записок об артиллерийском искусстве» Бесселя и еще пары хрестоматий по французскому и немецкому языкам – не хватало, выдавали по одному экземпляру на нескольких воспитанников сразу. А два тяжеленных тома «Руководства к артиллерийскому искусству» Маркевича были единственными на весь корпус, притом что знать их надо было назубок.
Впрочем, по иным предметам, и даже по такому важному, как фортификация, учебников не было и в помине, тут оставалось полагаться лишь на «записки», то есть переходящие из рук в руки и переписываемые кадетами тексты лекционных курсов, а чертежи копировать с доски, на которой их рисовал мелом Иван Васильевич Кобыляков, учитель неважный и характером вздорный.
Как ни трудно было учиться, многие кадеты – любопытный парадокс – учились неплохо: все-таки на уроках узнавалось нечто новое, подчас и любопытное, особенно по части военной техники, до которой юный ум всегда охоч, и даже в прикладном эмпиризме преподносимых знаний содержалось нечто привлекательное – конкретное, то, что можно потрогать руками и применить к делу. И они старались, исключая разве что «отпетых» или дубиноголовых.
Старался и Федотов. Он и в точных науках был первым, и в словесности, и в отвлеченных материях, и в практических, и в тех, что требовали соображения, и в тех, что не требовали. Выходили ли кадеты на полевые занятия – он ловчее всех обращался с астролябией и землемерной цепью. Брали ли в руки рапиры или эспадроны – он, невысокий, но подвижный и складный, и тут не отставал. Даже в риторике, которая сводилась к заученным ответам на нелепейшие вопросы, он был на приличном счету. И чертежи у него были образцовые. А его «записки» копировали другие – так толково и кратко они были составлены, так чисто и разборчиво были перебелены тщательным почерком.
Разумеется, дело заключалось не только в одном старании, которым всего, как ни бейся, не достигнешь, но и в природных способностях, да и в живой заинтересованности ума. Ведь Федотов так увлекся немецким языком, что многими часами сидел над хрестоматией, переводя Кристофа Виланда или Фридриха Клопштока (стихами, конечно). Не для того же, чтобы дважды произнести по-немецки речь на публичных актах? Хотя, может быть, и для того тоже – тянуться надо было во что бы то ни стало.
У него были явно незаурядные способности. Прежде всего – редкая память. «Всякая страница, прочитанная им в то время, по нескольку дней будто носилась перед глазами», – вспоминал о нем сослуживец Александр Дружинин, да и сам Федотов (в передаче того же Дружинина) рассказывал так: «Если на экзамене или при повторении уроков мне случалось запамятовать ту или иную подробность, одну или две учительские фразы (в то время еще учеников не убеждали отвечать своими словами. – Э. К.), мне стоило только закрыть глаза на минуту, и всё забытое, будто откуда-то выпрыгнув, являлось передо мной как написанное на бумаге. Эта способность длилась еще несколько лет после моего выпуска; впоследствии память стала слабеть…»
Да еще – сильное воображение, способное овеществлять всякую отвлеченность: «Для него история была рядом драматических сцен “в костюмах и с приличною обстановкою”; география переносила его под чужое небо, к чудесам чуждой нашему краю растительности. “Когда я, маленький, – говорил он, – глядел на ландкарту, около меня будто бродили львы, крокодилы и удавы”; слушая военные науки, он присутствовал при движении войск, тяжких боях, осаждал крепости и выдерживал приступы…»
Его явно творческая натура искала и находила себе пищу в самых прозаических и сухих материях, возможно, еще и потому, что духовной пищи в корпусе было недостаточно.
Читал он далеко не в том количестве, в котором нуждается любознательный подросток и юноша. В корпусе казенных книг водилось чрезвычайно мало, да и те, что имелись, были тщательно отобраны начальством. Со стороны книги проникали с трудом и случайные, а обнаруженные, они тотчас изымались, потому что своих книг, равно как карманных денег, держать было не положено. Всё, чем жила набиравшая силы, становившаяся в эти годы великой русская литература, оставалось где-то в стороне от кадетской жизни – «там», за стенами кадетского мира. Да и времени на чтение не хватало.
Конечно, ухитрялись они что-то почитывать, и даже не рекомендуемое, а иногда и вовсе запретное, грозившее неприятностями, – крамольное или соблазнительное (особенно последнее). И досуг их проходил не совсем бессмысленно и пусто: музицировали кто во что горазд, соревновались в стихотворстве, отдавали посильную дань и изящным искусствам.
Федотов и тут был среди первых, умудряясь водиться со всеми музами разом. Правда, всего более его занимала музыка: он неплохо пел тенором, сам научился играть на гитаре (а потом еще и на флейте), подбирал и придумывал мелодии, покушался на сочинение и исполнение романсов, а в корпусном хоре был солистом. Разнообразие и заметность талантов помогали ему упрочивать свое положение в кадетском обществе: с ним каждый рад был водиться. Всякое общество почитает таланты, особенно когда они приложимы к потребностям повседневной жизни.
Но он еще писал стихи в разнообразнейшем роде и рисовал. Делая портреты учителей и товарищей («весьма схожие», как вспоминали о том), еще охотнее – карикатуры на них же. Часто развлекал товарищей разнообразными способами: «Мелом рисовал он на доске уморительнейшие сцены и, дабы смягчить едкость насмешки, ставил себя в самом незавидном положении… мы еще не слыхали о Гранвиле, а Федотов уже чертил мелом лестницу постепенного физиогномического сближения людей с зверями, и были лица, для которых отыскал он правила, как чертить их посредством крумциркуля и рейсфедера…»
Две его карикатуры известны по воспроизведениям «Петух с деревянной ногою» и «Отступление Семитов и верность собаки». Обе явно посвящены каким-то корпусным событиям, но понять, каким именно, решительно не представляется возможным. На одной из них изображено подобие птичьего двора, где все действующие лица (надо думать, офицеры) являются в виде индюка, наседки, птенца, подобострастно окружающих петуха «с деревянной ногою» в самом центре и крупнее всех – явно какое-то начальство, может быть, даже, если судить по важности отведенного ему места в композиции и еще по деревянной ноге, Иван Онуфриевич Сухозанет, тот самый, что сменил Николая Ивановича Демидова. Некоторых из изображенных лиц можно узнать и на другой карикатуре, где набросано шествие фигур, закутанных кто во что горазд, – намек на отступление Наполеона. Нарисовано бойко и, надо думать, со сходством, хотя и не очень умело.
Еще один его рисунок, исполненный в совсем ином, в серьезном роде, сохранился до наших дней. Это акварель «Манфред, бросающийся со скалы в воду при лунном свете» – свидетельство того, что новейшая литература все-таки пробиралась в корпус и овладевала юными душами. Впрочем, сама акварель чрезвычайно наивна и неумела.
Федотов нашел и практическое приложение своим рисовальным способностям. Вспоминал он впоследствии, что «в корпусе был кадетом и в числе нескольких считался способным к живописи, но охотнее всего занимался математикой и химией и в 1833 году при выпуске первым в гвардию был отмечен в рисовании и черчении ситуационных планов “ленивым”». Такие казусы нередко случались с будущими великими художниками, и над ними принято посмеиваться, но сам он дал своему казусу простое объяснение: «Испытав силу его (карандаша. – Э. К.) еще в корпусе и на рисунках других, гордо поправляя и за это получая булки, чего с своего рисунка взять было нельзя, и потому свой всегда был неокончен, за что и отмечен ленивым».
Петр Лебедев, младший соученик, а потом и однополчанин Федотова, даже описал, как выглядели некоторые из этих чужих чертежей: «Изображал ли чертеж береговой лафет, – сейчас же, благодаря карандашу и кисти Федотова, лафет этот превращался в картину: на ней бушевало море, разбивалось о берег (на котором стоял лафет с пушкой), а вдали, на горизонте, виднелся неясный очерк корабля. Приходилось ли обставить походную кузницу, – и вот являлся сельский вид: широкое поле, тощее дерево, покривившаяся изба…» Преподавателям надо было обладать отменным безразличием к делу, чтобы не угадывать в подобных работах, подаваемых от разных кадетов, одну и ту же руку.
Учителем рисования был Каракалпаков, человек с трагической судьбой, соученик Карла Брюллова по Академии художеств, изгнанный из нее до окончания курса, и это обстоятельство порою дает основания для многочисленных домыслов по поводу федотовского пути. Кто знает, что это был за человек, художник, учитель, и не стоит романтизировать ситуацию: скорее всего, перед Федотовым явился не вдохновенный проповедник искусства, подсказавший мальчику его призвание и связавший его с Брюлловым, как это порою толкуется, но сломленный человек, на все махнувший рукой, и тем более на ораву мальчишек, которых он был вынужден обучать рисованию и которых, быть может, едва был в состоянии отличить друг от друга. Во всяком случае, Федотова, отмеченного при выпуске в рисовании «ленивым», он явно не отличил. Да и сам Федотов не поминал его ни словом, будто не было Каракалпакова и его уроков, а кто же способен забыть про первого учителя, наставившего на стезю? Бесспорно, не такой человек, как Федотов.
Не в нем, в горемыке Каракалпакове, который кончил совсем худо (после корпуса он служил ламповщиком в театре), было дело, не в его уроках, о которых мы тоже ничего не знаем – были ли они хороши или из рук вон плохи. Самый неловкий учитель окажется полезен, когда в нем есть надобность. Самые скучные уроки рисования, построенные по тогдашней достаточно бездушной методе срисовывания, покажутся увлекательны, когда они открывают путь к желаемому. И в каждом сухом слове и совете откроются светлые истины, если их жаждет душа. Но желаемого еще не было.
Да, блистал Федотов и как карикатурист, и как портретист, и как дорисовщик чужих чертежей. Но во всем этом пока лишь безотчетно обнаруживала себя природная одаренность, которая еще не осознала себя ни как одаренность, ни тем более как призвание, не обнаружилась в тяге к творчеству, не стала потребностью, страстью. Может быть – и к лучшему?
«Никто, к счастью, не обратил внимания на духовную жизнь маленького Федотова, никто не постарался направить его наблюдения на “путь истинный”, сейчас же подчинить их патентованной школе, – обмолвился Александр Бенуа об этом. – Казалось бы, какая обстановка менее подходила для развития художественной способности, нежели казенщина и дисциплина военного училища. Но на деле вышло наоборот, и, вероятно, не случайно… Очевидно, в этих заведениях слишком много обращали внимания на шагистику и ружистику, на внешний лоск, мундир и выправку, чтобы уследить еще за духовным и умственным развитием, которое было предоставлено воле Божьей».
Бенуа оказался не прав только в одном. Забота о духовном развитии-то была, да еще какая настырная – «вся система казенного воспитания состояла в внушении религии слепого повиновения, ведущей к власти как к своей награде. Молодые чувства, лучистые по натуре, были грубо оттеснены внутрь, заменяемы честолюбием и ревнивым, завистливым соревнованием. Что не погибло, вышло больное, сумасшедшее».6 Кадетский корпус («полуказарма, полумонастырь, где соединены пороки обоих», – вспоминал А. Вульф о другом корпусе и немного более раннего времени, но вряд ли разница была велика) замедлил становление Федотова и прежде всего как человека, как личности, и многое ему еще приходилось добирать в поздние годы – дочитывать, доузнавать, допонимать, сожалея об упущенном времени…
Семь лет прошли как день. Выпуск состоялся. Четверо отличнейших назначены были в гвардию: Бруннер 1-й, Померанцев, Своев, Федотов. Первые двое – в Павловский полк, вторые – в Финляндский. Имена всех четверых по обыкновению, заведенному недавно, в 1831 году, были выбиты на специальной доске белого мрамора.
Что ж, Федотов мог быть собою доволен: офицер гвардейского полка, он сделал серьезный шаг вперед, и теперь дальнейшее зависело только от него одного.
ГЛАВА ВТОРАЯ
Федотов вместе со своим однокашником Своевым прибыл в Петербург 3 января 1834 года. На месте выполнили все положенное: представились командиру полка генерал-майору Офросимову, нанесли неофициальные (то есть без кивера и без обычного «здравия желаю») визиты полковому адъютанту, казначею, квартирмейстеру, ротному и батальонному командирам.
Полк занимал тогда, как и много позднее, большое здание на набережной Невы – чуть подальше Морского кадетского корпуса, но чуть поближе Горного института. Собственно, даже не здание, а несколько домов впритык друг к другу в квартале между 19-й и 20-й линией Васильевского острова. Сюда, в казенную квартиру при казармах полка и въехал юный прапорщик со своим незамысловатым имуществом.
Осматриваться по сторонам да приглядываться не было на первых порах времени, но все видимое должно было поразить человека, выращенного и воспитанного Москвой. То был совершенно другой город – созданный на иных началах и, скорее всего, для какой-то иной жизни.
Москва вольно раскинулась на своих семи холмах и бесчисленных пригорках, то карабкаясь в гору, то сползая к речкам и ручьям. Не только зрение, но и все тело ощущало это и при играх в корпусном парке, полого кренящемся к Яузе, и при ставшем привычным пешем путешествии в отпуск домой – когда ноги сначала сами несли по крутому спуску Казарменного переулка, а за Дворцовым мостом вынуждены были преодолевать заметный подъем к Немецкой слободе.
Петербург был весь плоским, как гигантский плац. Его можно было обойти из конца в конец, нигде не натолкнувшись ни на бугор, ни на низинку. Нева, подступавшая к неестественно низким берегам, казалось, хотела сравняться с ними. Одни лишь дома возвышались над этой плоскостью, не преодолевая ее.
Москва была выстроена без плана, без видимого порядка, подчиняясь лишь капризам строителей и предписаниям рельефа. Улицы и переулки извивались, встречались и расходились как живые; иной широкий проезд мог вдруг обратиться в тупик. Дома, редко раскиданные среди садов и дворов, соединялись непредвиденным образом – их сталкивала сама жизнь: дом мог вылезти углом на тротуар, а рядом с парадными воротами могла прилепиться лачужка. Названия улиц были пестры и нерегулярны, как породившая их жизнь; в поисках нужного дома можно было проплутать весь вечер, а найдя – еще полчаса в поисках входа.
В Петербурге все было распланировано, отрегулировано и занумеровано. И более всего – тут, на Васильевском острове. Здесь, собственно, и улиц-то не было. Было три проспекта – Малый, Средний и Большой – в самих их названиях была предопределена гармония безысходной законченности: никакого иного проспекта к ним прибавить уже не представлялось возможным. Вместо улиц же было по две линии, обозначенных номерами; в именах им было как бы отказано. Они образовывали безукоризненную прямоугольную сетку кварталов, отмеренных и нарезанных продолговатыми долями: короткими с юго-запада на северо-восток и длинными с юго-востока на северо-запад. Рационалистическая воля ставила себя выше прихотей природы, и поэтому дома, в которых размещался Финляндский полк, не следовали образовавшемуся здесь плавному изгибу реки, как это случилось бы в Москве, но упрямо продолжали повиноваться сетке, отчего им приходилось выстраиваться уже уступами друг к другу, образуя на плане подобие лестницы.
Москва была велика, но трудно обозрима, и эта трудность обозрения мешала ощутить ее масштабы: взгляд завязал в беспорядочном скоплении домов, рассеивался в садах и дворах, упирался в тупики и заборы, застревал в крутых поворотах переулков. Этот город годен был преимущественно для ближнего, интимного рассматривания.
Петербург поражал размерами, которые воспринимались сразу и категорически. Став посредине мостовой, человек оказывался в безукоризненно ровном коридоре домов, и сходились эти дома где-то у горизонта. Выйдя зимним вечером из казармы на набережную, Федотов видел простор Невы, затянутой льдом, погребенной снегом, – безбрежную белую пустыню, передний край которой был слегка помечен убогим светом фонаря, а все остальное терялось в бесконечности темноты: кричи – не докричишься, бреди – не добредешь.
Москва была соразмерна человеку – Петербург подавлял его.
Это уже потом, немного позднее, Федотов получил возможность присмотреться и освоиться – поразиться четырех-, а когда и пятиэтажным громадам домов, непривычному шуршанию колес по деревянным торцам мостовой, нервическому свечению белых ночей, диковинному для каждого москвича петербургскому укладу жизни, а еще позднее вполне войти в эту жизнь, проникнуться ею (и все-таки сохранить в себе тайную приверженность Москве и московскому), но все это еще предстояло, пока же надо было беспокоиться о собственном устройстве.
Казалось бы, невелика разница – из одной казармы в другую. Но все-таки то была совсем новая жизнь – взрослая. Как ни сладка самостоятельность, но и в ней есть свои огорчительные стороны. В корпусе все жили охраняемые от житейских забот отеческой дланью начальства. Так жестоко, так строго уравнены были кашей, поркой и казенным обмундированием, что о достатке не возникало случая задуматься. Было бы старание – с грехом пополам подштопаешь протертое, зашьешь прорвавшееся – и хорошо, все другие не лучше тебя. В полку так не обойдешься.
Здесь Федотов ощутил свою унизительную бедность с самых первых шагов – при экипировке. Конечно, он еще при выпуске получил казенное обмундирование: жиденькую шинель дешевого, едва ли не солдатского сукна, мундир и панталоны, нитяные вытишкеты, медные эполеты, офицерский поясной шарф, темляк, две рубахи и две пары самых дурных сапог. Но все это никак не соответствовало необходимости и годилось только на то, чтобы добраться до места службы, а там использовать исключительно в домашнем обиходе; всё надо было в самое короткое время заводить заново.
Надо было срочно шить новую парадную пару – мундир с красными выпушками и золотым шитьем на воротнике и панталоны темно-зеленого сукна (если не первосортного, то по крайней мере приличного). И если на первый случай можно было слегка повременить с заведением такого же сюртука, равно как – до лета – белых холщовых панталон, то без теплой шинели на вате обойтись было решительно невозможно. А порядочный кивер, а серебряный шарф, а серебряные же эполеты, а опять же серебряный нагрудный офицерский знак и прочее и прочее?
Как, в самом деле, прикажете жить: обер-офицерские серебряные эполеты – около семидесяти рублей ассигнациями, а штаб-офицерские – и вовсе около ста шестидесяти. Серебряный шарф – 150, и даже мишурный – 40. Мудрено не разделить радость прапорщика Федотова, которому повезло купить шарф старый (конечно, мишурный) всего за шесть рублей серебром, то есть если перечесть на ассигнации, то почти вдвое дешевле нового; поистерт, верно, но при бережливом обращении еще послужит.
А непредвиденности жизни? «Потерял по дороге ножны полусабли – 250 из кармана вон…» – горестно записал в дневнике. В другой раз потерял перчатку, значит – новую пару покупать. А бесконечные усовершенствования, вносимые в офицерскую форму? В 1837 году вздумали вдруг ввести шарф нового вида – не с широкой, а с узкой серебряной тесьмой – это значит снова лезть в кошелек.
А обзаведение каким ни есть хозяйством – посудой, постелью, полотенцами, бельем и прочим, без чего не проживешь? Еще слава богу, что тогда, в середине 1830-х годов, можно было экипироваться в Санкт-Петербургской казенной фабрике офицерских вещей, где все отпускалось заметно дешевле, чем в лавках, и в кредит. Иные из сослуживцев Федотова, может быть, и воротили нос от этого заведения, но ему оно пришлось чрезвычайно кстати.
При выпуске в гвардию офицеру выдавалось тройное жалованье – специально на экипировку, а также пособие в размере годового жалованья. Но все это быстро ушло сквозь пальцы: и расходов тьма, и житейская неопытность подвела, и столичные соблазны делались слишком непреодолимы для недавнего затворника.
Горестные размышления Акакия Акакиевича, переговоры с Петровичем и выбор на подкладку коленкора такого добротного и плотного, что еще лучше шелку и даже на вид казистее и глянцевитее, показались бы Федотову понятны, даже понятны вдвойне, потому что Акакий Акакиевич был простой чиновник, Федотов же – гвардейский офицер, а это к очень многому обязывало.
Правда, в гвардии тоже существовала своя иерархия – неписаная, но для всех очевидная. Кавалерийские полки безусловно стояли выше пехотных, однако и среди них не было равенства: в Конном и Кавалергардском служили одни аристократы и приравниваемые к ним (Дантес был кавалергард), а лейб-гвардии Гусарский (в котором служил Лермонтов) считался попроще. Неравны были и пехотные полки. Само гвардейство Финляндского полка было недавнее, так сказать, свежепросольное, с 1811 года, и потому, да еще по массе иных тонких соображений, он числился не среди первых. Не случайно стоял он на отшибе, в провинциальной удаленности Васильевского острова, а не у Зимнего дворца, как Преображенский, не у Константиновского (то есть Мраморного) дворца, как Павловский, не у Исаакиевского собора, как Конный.
Правда, николаевские офицеры заметно пообмельчали против офицеров александровских, и гвардия была уже не та, и тон ее не тот, и все больше становилось офицеров, живущих, подобно Федотову, одним казенным жалованьем, и недаром так широко пошли в ход мишурные детали экипировки вместо серебряных.
И все-таки гвардия оставалась гвардией, а с нее был спрос особый. В гвардию и попадали-то исключительно из юнкерской школы или из Пажеского корпуса, из армии же или из кадетского корпуса, как Федотов, – только в редчайших случаях. Такие были как бы низший сорт, их презрительно звали «бурбоны» – за дурной французский язык, за неумение свободно вести себя в светском обществе. В гвардии следовало во что бы то ни стало «держать тон», иначе офицерская корпорация (то же «товарищество», что и в корпусе, даром что повзрослее и почище) тотчас выживала строптивого. Достаточно вспомнить, как чутко уловил это Лермонтов: гордый до надменности – и он приспособился, стал вроде бы как все.
Сама внешность и поведение гвардейца находились под особым и неусыпным надзором. Гвардейский офицер не мог поздороваться на улице с плохо или небрежно одетым знакомым (в немодной шинели, в фуражке вместо шляпы), не мог выйти на Невский, как и в любое иное людное место, со скромно одетой дамой, не мог занять в театре ложу второго яруса. Недаром для перевода из армии в гвардию кроме отличной характеристики, трех лет безупречной службы, строгого экзамена и «высокой нравственности» требовалось еще иметь состояние, достаточное для «пристойного содержания себя». Федотову надо было пристойно содержать себя самого, поддерживать пристойный офицерский обиход и даже денщика своего иметь в пристойном виде.
Ни деревенек, ни крепостных душ, ни фамильных бриллиантов у Федотова не было. На родных тоже не приходилось рассчитывать. Весной 1835 года, правда, пришли деньги из дому – целых 50 рублей, и сейчас уж не разобраться, каким чудом они у отца появились. (Еще слава богу, что пока родные обходились сами; к концу службы им уже надо было помогать.)
Рассчитывать приходилось только на самого себя. На свое прапорщицкое жалованье, составлявшее 600 рублей ассигнациями, что равнялось приблизительно ста шестидесяти рублям серебром. На «столовые» и «квартирные» вдобавок к жалованью. И, очень изредка, на то, что перепадало из пособий, выделяемых императором из личных средств на поддержание гвардии («в пристойном виде») и распределяемых шефом гвардейского корпуса великим князем Михаилом Павловичем, – 300 тысяч в год, обширная река, которая растекалась речками по всем полкам и тоненькими ручейками по отдельным офицерам. Федотову досталось трижды: 230 в 1836 году, 350 – в 1837-м и 300 – в 1838-м.
Приход с расходом должен быть верен – это Федотов усвоил с детства крепко, а собственная рассудительность соглашалась с нехитрой житейской мудростью. Никаких долгов, никаких визитов к ростовщикам он не мог себе позволить. Поневоле освоишь нелегкий счет, научишься по одежке протягивать ножки – там сэкономить, там перебиться, там выгадать.
Что же до самой службы, то к ней привыкать было нетрудно. Чему-чему, а службе в корпусе учили на совесть, и Федотов был из старательных, недаром побывал и в унтер-офицерах, и в фельдфебелях – дело знал. Он усвоил главное – умение служить добросовестно, но и «без особою горячности», по выражению его приятеля и младшего сослуживца Александра Дружинина. Репутация дельного офицера скоро пристала к нему, и в его кондуитном списке всякий год появлялась одна и та же запись: «Усерден ли по службе? – Усерден. Каковых способностей ума? – Хороших… Каков в нравственности? – Хорош. Каков в хозяйстве? – Хорош». Высочайшие же благоволения заносились ему ворохами: когда шесть в год, когда – десять, а потом еще пуще – в 1840-м и 1841-м – пятнадцать, в 1842-м – двадцать три, а в 1843-м, то есть перед отставкой, – двадцать.
Ужасы николаевской армии слишком общеизвестны – детально описаны мемуаристами, заклеймлены писателями и публицистами, зафиксированы и объяснены историками. Поэтому разумнее, не растрачивая свой пафос на в общем ни к чему не обязывающее обличение давно канувшего в прошлое, попытаться глянуть на военную службу изнутри, а не из своего прекрасного исторического далека, увидеть в ней то, чем она являлась, – реальную жизнь, бывшую привычной и понятной для сотен и тысяч людей, в том числе и прежде всего для нашего героя.
«Живя в нужнике, поневоле привыкнешь к… и вонь его тебе не будет противна…» Даже Пушкин понимал неизбежность этого свыкания. А те, кто не обладал его, Пушкина, чувствительностью, его пронзительным умом, его жаждой независимости и высоким чувством собственного достоинства? Кто не успел дохнуть, как люди его поколения, даже обманчивого ощущения свободы, кто в нужнике родился и провел детство, отрочество, юность? Им свыкнуться было неизмеримо проще. Да и к чему не приспособится, с чем не сживется русский человек, следуя давнему правилу: «стерпится – слюбится».
Нелепости и тяготы военной службы Федотов описал, уже выйдя в отставку, в поэме «Поправка обстоятельств». Поэма шутливая, и в описаниях преобладает юмор. Скажут: легко пошучивать отставному, но юмор этот шел еще от полка, от шуток, эпиграмм, каламбуров, в которых офицеры инстинктивно защищали свой душевный покой. Позубоскалил, отвел душу – и легче. Будто и не было.
В многочисленных и беспорядочных записях, оставшихся после Федотова и посвященных самым различным материям, не сыскать, казалось бы, таких естественных жалоб на изнурительную бессмысленность военной муштры. Даже напротив – страшно молвить – попадается по меньшей мере неожиданная ироническая тирада в адрес кого-то, неизвестного нам: «Любить фронт с энтузиазмом, с упрямством – это он считает шагистикой, недостойной высоких будто бы стремлений. А на высокое недостает – глядишь, вместо души имеет только душонку…»
Не странно ли? Может быть, и не странно. Военная служба, точно, была в большей своей части совершенно бессмысленна, однако иной службы он и не знал, к ней его усердно готовили, вдалбливая премудрости муштры в течение нескольких лет; «фронт» был по тем временам едва ли не единственным делом военного профессионала, которым он хотел стать и стал. Если угодно, в том был его святой долг перед государством и отечеством, и он, будучи честным человеком, считал себя обязанным этот долг выполнять.
Чтобы задуматься над чем-то, усомниться в чем-то, у него пока не хватало ни широты кругозора, ни хотя бы простого житейского опыта. В конце концов, порядки в армии заводил не он, а другие – постарше, поумнее и повыше его, им было виднее. Да в службе можно было сыскать и нечто привлекательное, отрадное, а в ее монотонности – свои оттенки разнообразия и свою эстетику. Ведь и Акакию Акакиевичу в нуднейшем переписывании непонятных ему бумаг «виделся какой-то свой разнообразный и приятный смысл», ведь и он «служил ревностно, нет, он служил с любовью», у него даже были свои любимые буквы, свои «фавориты»! Вот и Федотов, по словам Дружинина, мог «не только держать свою роту в великом порядке, но даже находить артистическую приятность в занятиях довольно утомительных для будущего художника». Идеальная слаженность, составляющая самую цель военной службы, была поистине и общепризнанно завораживающей, и вовсе не трудно понять то удовольствие, которое вознаграждало длительное старание достигнуть этой слаженности.
И наконец, самое главное. Служба – рассуждай или не рассуждай о ее тягостности – была для Федотова всем: делом, профессией, жизнью, домом, устойчивым настоящим и не менее устойчивым будущим. Он избрал эту судьбу – надолго, на всю жизнь, к ней надо было приспособиться, за нее надо было держаться, без нее он был бы ничто.
Николаевская Россия была государством мундирным. Николай обладал поистине маниакальной страстью решительно всех – не то что каких-нибудь студентишек, но и придворных дам – обрядить в мундиры, каждому дать форму, которая бы совершенно точно указывала на место, занимаемое данным человеком в раз навсегда заведенном государственном механизме. Всякое, даже самое пустячное нарушение формы почиталось серьезным проступком.
Даже такая невинная вольность природы, как растительность на лице, была обращена в деталь формы, вроде аксельбантов или выпушек. Правом носить усы обладали исключительно военные, а штатским в нем было отказано. Рядовым же ношение усов и бакенбардов было прямо предписано, и самая длина их была строго регламентирована: «Усы не должны быть длинны, так как таковые, напротив того, безобразят лицо и дают ему вид зверский и часто даже отвратительный».
Естественно, что в этом мундирном мире главным сословием оказывались военные. Само армейское устройство, при котором всяк знает свое точно указанное место и жестко установленные обязанности, стало образцом для всего государства; бо́льшая часть высших государственных должностей была занята военными, потому что армейская служба считалась идеальной школой для управления страной. Военный мундир впервые в истории России был вознесен не только над умом и талантом, но и над богатством и даже над родовитостью.