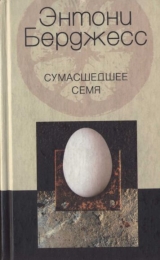
Текст книги "Сумасшедшее семя"
Автор книги: Энтони Берджесс
Жанр:
Прочая фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 18 страниц)
– Дражайшая.
– Милый. Милый. Милый. – Они жадна обнялись еще в открытой двери. – Ох-ох-ох-ох-ох.
Дерек высвободился и плотно захлопнул дверь.
– Надо поосторожнее, – сказал он. – Не исключаю, что Лузли последовал за мной сюда.
– Ну и что тут плохого? – сказала Беатрис-Джоанна. – Можешь ведь ты навестить брата, если захочешь, правда?
– Не глупи. Лузли слишком, я бы сказал, дотошный для такого маленького поросенка. Выяснит расписание работы Тристрама. – Дерек шагнул к окну и сразу вернулся, улыбаясь собственной глупости. С высоты стольких этажей по улице в глубине ползет столько неразличимых муравьев. – Может, я начинаю чересчур нервничать, – сказал он. – Да только… ну, происходят всякие вещи. Сегодня вечером я встречаюсь с министром. Видимо, меня ждет большая работа.
– Работа какого сорта?
– Боюсь, работа, которая означает, что мы не сможем особенно часто встречаться. В любом случае какое-то время. Для этой работы требуется мундир. Сегодня утром приходили портные снимать мерку. Грядут большие дела. – Дерек сбросил публичную кожу бесполого денди. Выглядел крепким, мужественным.
– Вот как, – сказала Беатрис-Джоанна. – Ты получишь работу, которая станет важней наших встреч. Да?
Когда он вошел в квартирку и стремглав, в безумном порыве схватил ее в объятия, она думала, что они убегут вместе, чтобы вечно жить на одних кокосах, любить друг друга под баньянами. Но потом победило женское желание взять лучшее от обоих миров.
– Я иногда гадаю, – сказала она, – действительно ли ты говоришь серьезно. О любви и так далее.
– Ох, милая, милая, – нетерпеливо сказал он. – Но послушай. – Он не был настроен на праздное времяпрепровождение. – Происходят определенные вещи, которые гораздо важнее любви. Вопросы жизни и смерти.
Настоящий мужчина.
– Чепуха, – не задумываясь, сказала она.
– Чистки, если тебе известно, что это такое. Перемены в Правительстве. Безработных вербуют в полицию. О, большие дела, большие дела.
Беатрис-Джоанна принялась всхлипывать, чтоб казаться совсем слабой, маленькой, беззащитной.
– Был такой жуткий день, – сказала она. – Я была так несчастна. Мне было так одиноко.
– Дражайшая. Я просто чудовище. – Он вновь обнял ее. – Я очень виноват. Думаю лишь о себе.
Довольная, она продолжала хныкать. Он поцеловал ее в щеку, в шею, в лоб, зарылся губами в волосы цвета сидра. От нее пахло мылом, от него – всеми ароматами Аравии. Обнявшись, они неуклюже протопали на четырех ногах в спальню, словно исполняли вслепую танец, не организованный музыкой. Пришлось долго давить на рубильник, чтоб откинулась на пол кровать – широкой дугой, подобно меловой Пелфазе Тристрама. Дерек быстро разделся, обнажив худощавое тело в буграх и прожилках мышц, а потом мертвый глаз телеэкрана на потолке получил возможность наблюдать за корчами мужского тела – коричневого, как корка хлеба, слегка красноватого, желтоватого – и женского – перламутрового, чуть-чуть тронутого голубизной и кармином, – в прелюдии к акту, который формально был одновременно адюльтером и кровосмешением.
– Ты не забыла… – тяжело выдохнул Дерек. И тут не было, да и быть не могло идеального наблюдателя, который припомнил бы миссис Шенди, а вспомнив, усмехнулся [12]12
Миссис Шенди, будущая мать героя романа Лоренса Стерна (1713–1768) «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена», в критический момент в постели спросила мужа, не забыл ли он завести часы.
[Закрыть].
– Да-да. – Таблетки она приняла; все вполне безопасно. И только дойдя до точки, откуда нет возврата, вспомнила, что приняла обезболивающие таблетки, а не противозачаточные. Рутинная привычка иногда подводит. А потом стало слишком поздно, и ей было плевать.
Глава 10– Кончили с этим, – сказал Тристрам, непривычно хмурясь. – Прочитаете самостоятельно.
Седьмой поток Четвертого класса широко открыл на него глаза и рты.
– Я домой ухожу, – сказал он. – Хватит с меня на один день. Завтра будет тест по материалу, изложенному на страницах с 267 до 274 включительно ваших учебников. Хронический Страх Перед Ядерной Угрозой и Наступление Вечного Мира. Данлоп, – резко сказал он. – Данлоп. – Физиономия у мальчишки была резиновая, но в век полной национализации фамилия не казалась ни подходящей, ни неподходящей [13]13
Компания «Данлоп» выпускает автомобильные шины.
[Закрыть]. – Ковырять в носу – неприличная привычка, Данлоп, – сказал он. Класс захихикал. – На этом закончим, – повторил Тристрам в дверях, – всем желаю очень хорошо провести сегодняшний день. Или ранний вечер, – поправился он, взглянув на розовое морское небо.
Странно, что английский язык так никогда и не выработал форму прощания соответственно этому времени дня. Интерфаза какая-то. День пелагианский, ночь августинская. Тристрам храбро вышел из класса, прошел по коридору к лифту, понесся вниз, вышел собственно из гигантского здания. Никто не препятствовал его уходу. Учителя просто не выходили из классов до последнего звонка; следовательно, Тристрам по-прежнему неким мистическим образом был на работе.
Он с силой плыл в толпах на Эрп-роуд (потоки одновременно текли туда и сюда), потом свернул налево на Даллас-стрит. А там, как только повернул на Макгиббон-авеню, увидел то, чему по неизвестной на данный момент причине приписал прохвативший его озноб. На дороге, блокируя редкий транспорт, перед глазевшими толпами, державшимися на приличной дистанции, стояла рота мужчин в серой форме полиции – три взвода с взводными командирами, – стояла наготове. Почти все смущенно ухмылялись, шаркали ногами; рекруты, догадался Тристрам, новобранцы, но каждый уже вооружен коротким и толстым, тускло поблескивавшим карабином. Брюки сужены к черным эластичным подвязкам, натянутым на голенища сапог с толстой подошвой; забавно архаичные кители до пояса, с воротничками, со сверкающими медными собачьими ошейниками, при воротничках черные галстуки. На головах у мужчин серые фуражки, круглые, как круги сыра, над лобными долями слабо сверкают полицейские кокарды.
– Нашли им работу, – сказал мужчина рядом с Тристрамом, небритый мужчина в порыжевшем черном; с валиком жира под подбородком, хоть тело худое. – Безработные они. Были, – поправился он. – Самое время Правительству чего-нибудь для них сделать. Вон мой шурин, глядите, второй с краю в первом ряду, – с гордостью за шурина указал он. – Дали работу, – повторил он. Явно одинокий мужчина радовался возможности с кем-нибудь поговорить.
– Зачем? – спросил Тристрам. – К чему это все? – Но знал: это конец Пелфазы, людей собираются заставлять быть хорошими. И почувствовал определенную панику на свой собственный счет. Может, надо бы вернуться в школу. Может, никто ничего не узнает, если вернуться прямо сейчас. Это было глупо с его стороны, он никогда раньше не делал ничего подобного. Может, надо бы позвонить Джослину и сказать, что ушел раньше времени, потому что плохо себя чувствует…
– Чтоб призвать кое-кого к порядку, – с готовностью отвечал худой мужчина с валиком жира под подбородком. – Слишком много молодых хулиганов на улицах по ночам шляются. Никакой строгости к ним, никакой. Учителя уже не имеют над ними никакой власти.
– Некоторые из этих юных рекрутов, – осторожно заметил Тристрам, – подозрительно смахивают на молодых хулиганов.
– Вы моего шурина называете хулиганом? Лучший парень из всех, кто когда-нибудь на этом свете дышал, вот он кто, и почти четырнадцать месяцев был без работы. Никакой он не хулиган, мистер.
Теперь офицер занял позицию перед ротой. Щеголеватый, брюки сшиты по талии, серебряные планки на эполетах сияют на солнце, на бедре пистолетная кобура из роскошного кожзаменителя. И он крикнул неожиданно мужским голосом:
– Ррот-та-а-а, – рота застыла как пораженная громом, – …ш-ш-шай. —Шипение прогромыхало, как камешки; мужчины внимали неистово. – Ппо ссвоимм посстаммм рра-а-а… —гласная задрожала между двумя аллофонами, – ззо-йдисссъ. – Одни повернули налево, другие направо, третьи ждали, смотрели, что сделают остальные. Из толпы послышался смех, насмешливые хлопки. Потом улица заполнилась шатающимися кучками неуклюжих полисменов.
Чувствуя какую-то тошноту, Тристрам направился к Эрншо-Мэншнс. В подвале под мощной холодной башней располагался магазин спиртного Монтегю. Единственной доступной в то время отравой был зловонный дистиллированный спирт из овощей и фруктовой кожуры. Назывался он алк; лишь желудок простого народа мог его принимать в чистом виде. Тристрам выложил таннер на стойку, его обслужили, подав стакан грязного липкого спирта, хорошо разбавленного оранжадом. Больше пить было нечего: засеянные хмелем поля и древние центры виноградарства исчезли вместе с пастбищами и табачными плантациями Вирджинии и Турции; ныне все было отдано более съедобным зерновым. Мир почти вегетарианский, не курит, пьет исключительно чай, кроме алка. Тристрам серьезно попробовал и после другой порции огненного оранжада за таннер почувствовал, что вполне с ним примирился. Повышение похоронено, Роджер похоронен. К черту Джослина. Он почти полностью выкрутил голову, оглядывая тесную маленькую забегаловку. Гомики, некоторые с бородами, ворковали между собой в темном углу; у стойки бара пили главным образом гетерики и угрюмые. Сальный толстопузый бармен поплелся к музыкатору в стене, бросил в щель таннер, и на волю зверем вырвалась громыхавшая конкретная музыка, – ложки колотят в жестяные миски, речь Министра Рыбоводства, вода спущена в унитазе, рев мотора: все записано в замедленном темпе, усилено или приглушено, старательно микшировано. Мужчина рядом с Тристрамом сказал:
– Жуть чертовская.
Он сказал это алкашам, не поворачивая головы и едва шевеля губами, словно сделав замечание, все-таки не хотел, чтоб оно было подхвачено в качестве повода втянуть его в беседу. Один бородатый гомик начал декламировать нараспев:
Мое мертвое дерево. О, верните мне мертвое,
мертвое дерево.
Дождик, дождь, перестань. Пусть земля остается
Сухой. Вбей богов в затвердевшую землю,
Просверлив в ней дыру, как придется.
– Бред чертовский, – сказал мужчина чуть громче. Потом покрутил головой, медленно и осторожно, из стороны в сторону, внимательно оглядел Тристрама справа от себя и выпивавшего слева, будто один был скульптурный изображением другого и требовалось сверить сходство. – Знаете, кем был? – сказал он. Тристрам призадумался. Угрюмый мужчина с глазами в угольно-черных ямах, красноватый нос, пухлый рот Стюартов. – Дай мне еще того же, – сказал он бармену, шлепнув монету. – Думаю,вам сказать не удастся, – триумфально объявил он, поворачиваясь к Тристраму. – Ну, – сказал он, со смаком и вздохом опрокидывая неразбавленный алк, – я был священником. Знаете, что это такое?
– Нечто вроде монаха, – сказал Тристрам. – Что-то связанное с религией. – Он благоговейно разинул на мужчину рот, точно это был сам Пелагий. – Однако, – возразил он, – больше ведь нет никаких священников. Ведь священников нет уже сотни лет.
Мужчина вытянул руки, растопырив пальцы, как бы сам себя проверял, не дрожат ли.
– Вот, – сказал он, – эти самые руки ежедневно творили чудо. – И более рассудительно продолжал: – Было немного. В паре очагов сопротивления в Провинциях. Народ, не согласный со всем этим либеральным дерьмом. Пелагий, – сказал он, – был еретик. Человеку необходима божественная благодать. – Он вернулся к собственным рукам, производя клинический осмотр, словно в каком-нибудь месте возникли признаки начинавшегося заболевания. – Еще той же дряни, – сказал он бармену, воспользовавшись теперь руками для поисков денег в карманах. – Да, – сказал он Тристраму. – Священники еще есть, хотя я больше не вхожу в их число. Изгнан, – прошептал он. – Расстрижен. Ох, Боже, Боже, Боже. – Он начинал лицедействовать. Один-другой гомик захихикали, слыша имя Господне. – Но им никогда не отнять эту власть, никогда-никогда.
– Сесил, ты старая корова!
– Ох, милые, только взгляните, что на нейнадето!
Гетерики тоже взглянули, только с меньшим энтузиазмом. Зашла троица полицейских рекрутов, широко улыбаясь. Один исполнил короткую чечетку, в завершение отдал честь, дернувшись, как паралитик. Другой изобразил, будто поливает помещение из своего карабина. По-прежнему играла далекая, холодная, абстрактная конкретная музыка. Обнявшиеся гомики рассмеялись, заскулили.
– Не за подобные вещи я был расстрижен, – сказал мужчина. – За реальную любовь, за реальную вещь, не за это богохульное издевательство. – Он угрюмо кивнул в сторону веселой кучки полицейских и штатских. – Она была очень юная, всего семнадцать. Ох, Боже, Боже. Однако, – с ударением сказал он, – они не смогут отнять божественную силу. – И опять взглянул на руки, на сей раз, как Макбет. – Хлеб и вино, – сказал он, – претворяются в тело и кровь… Но вина больше нет. И папа, – сказал он, – старый, старый, старый, на Святой Елене. И я, – сказал он с притворной скромностью, – распроклятый чиновник Министерства Топлива и Энергетики.
Один полисмен-гомик сунул в музыкатор таннер. Неожиданно грянула танцевальная мелодия, будто лопнул мешок спелых слив, – оркестр из абстрактных записанных звуков, на глубоком фоне медленная дробь, от которой тряслись все поджилки. Один полисмен начал танцевать с бородатым штатским. Грациозно, вынужден был признать Тристрам, танец сложный и грациозный. А расстрига-священник испытывал отвращение.
– Чертовский выпендреж, – сказал он, а когда один гомик, который не танцевал, сделал музыку громче, громко, без предупреждения гаркнул: – Заткни этот чертов гвалт!
Гомики глазели с умеренным интересом, танцоры уставились на него, открыв рты, по-прежнему мягко покачиваясь в объятиях друг друга.
– Самзаткни, – сказал бармен. – Нам тут ни к чему неприятности.
– Куча извращенцев, ублюдков, – сказал священник. Тристрам восхищался священническим языком. – Грех содомский. Господь обязательно поразит всех вас насмерть.
– Вот старый зануда, – фыркнул на него один. – Ну что у тебя за манеры?
А потом за него взялась полиция. Быстро, как в балете, со смехом; совсем не то насилие, что было в прошлые времена, про которое читал Тристрам; скорее щекотка, чем избиение. Только и до пяти не досчитать, как расстрига-священник привалился к стойке бара, пытаясь вздохнуть после падения с большой высоты, с целиком окровавленным ртом.
– Ты его друг? – спросил один полицейский Тристрама. Тристрам ошеломленно заметил, что губы у него выкрашены черной помадой в тон галстуку.
– Нет, – сказал Тристрам. – Никогда его раньше не видел. Никогда в жизни его раньше не видел. В любом случае я как раз ухожу.
Он допил свой алк с оранжадом и пошел к выходу.
– И вдруг запел петух [14]14
Евангелие от Матфея, 26:74.
[Закрыть], – пробурчал расстриженный священник. – Сие есть кровь моя, – сказал он, утирая рот. Он слишком наклюкался, чтобы чувствовать боль.
Пока они лежали, дыша все медленнее, достигнув магическим образом синхронности колебаний грудной клетки, его рука под ее расслабленным телом, она говорила себе, что, в конце концов, может, и не задумывала, чтобы так вышло. Дереку ничего не сказала; это ее личное дело. Она себя чувствовала довольно далекой, отдельной от Дерека, как, возможно, поэт, написавший сонет, чувствует себя отдельным от начертавшего его пера. Из подсознания выплыло иностранное слово Urmutter [15]15
Праматерь (нем.).
[Закрыть], и она гадала, что оно означает.
Он первым вынырнул из парахронизма [16]16
Хронологическая ошибка, отнесение того или иного события к более позднему времени.
[Закрыть], лениво спросив, – мужчина, хронологическое животное:
– Который сейчас может быть час?
Она не ответила. Вместо этого сказала:
– Я не могу понять. Все это лицемерие и обман. Почему люди должны притворяться не тем, что они есть на самом деле? Все это гадкий фарс. – Она говорила резко, но еще как бы из некоего безвременья. – Ты любишь любовь, – сказала она. – Ты любишь любовь больше любого когда-либо известного мне мужчины. И все же относишься к ней как к чему-то постыдному.
Он глубоко вздохнул и сказал:
– Дихотомия, – плавно бросив ей это слово, как мяч, набитый утиным пухом. – Вспомни о человеческой дихотомии.
– И что, – зевнула она, – насчет человеческой как ее там?
– Расхождение. Противоречие. Инстинкты говорят нам одну вещь, рассудок – другую. Если мы допустим, это может превратиться в трагедию. Но лучше видеть тут комедию. Мы были правы, – эллиптически продолжал он, – отбросив Бога и поставив на его место мистера Живдога. Бог – трагическая концепция.
– Не понимаю, о чем ты толкуешь.
– Не имеет значения. – Он зевнул вслед за ней, с опозданием, продемонстрировав белоснежные пластиковые коронки. – Противоречивые требования линии и круга. Ты – сплошная линия, в этом твоя проблема.
– Я круглая. Я шаровидная. Посмотри.
– Физически – да. Психически – нет. Ты по-прежнему творение инстинкта, после стольких лет учения, лозунгов, подсознательной кинопропаганды. Ты ни во что не ставишь положение в мире, положение в государстве. А я – да.
– Зачем это мне? У меня своя жизнь, которую надо прожить.
– У тебя вообще не было б никакой жизни, которую надо прожить, не будь таких людей, как я. Государство – это каждый его гражданин. Допустим, – серьезно сказал он, – никто не беспокоится насчет рождаемости. Допустим, мы не заботимся, чтоб прямолинейное движение продолжалось, продолжалось и продолжалось. Мы буквально голодали бы. Клянусь Нюхом Дожиим, у нас почти не было бы еды. Нам удалось достичь определенного стаза благодаря моему министерству и подобным правительственным департаментам всего мира, но это не может слишком долго продолжаться, нет, при таком ходе вещей.
– Что ты имеешь в виду?
– Старая история. Преобладает либерализм, а либерализм означает распущенность. Мы все предоставили образованию и пропаганде, свободной продаже противозачаточных средств, клиникам-абортариям и утешительным. Мы любим ребячески тешиться мыслью, будто люди вполне хороши, вполне разумны, чтоб сознавать свою ответственность. Но что происходит? Вот был случай, всего несколько недель назад, с одной парой в Западной Провинции, у которой шестеро детей. Шестеро.Что ты на это скажешь! Причем все живы. Очень старомодная пара – сторонники Бога. Толкуют об исполнении Божьей воли, о всякой такой чепухе. Один наш чиновник перемолвился с ними словечком, пытался вразумить. Вообрази – восемь тел в квартирке меньше этой. Но они не образумились. У них явно есть экземпляр Библии, Нюх Дожий знает, где они ее откопали. Ты когда-нибудь ее видела?
– Нет.
– Ну, это такая старая религиозная книжка, полная всяких гадостей. Попусту тратить семя – большой грех; если Бог тебя любит, Он наполнит твой дом ребятишками. Язык тоже очень старомодный. Тем не менее они все время на нее ссылаются, твердят про плодородие, про бесплодную смоковницу, которая была проклята, и так далее. – Дерек с искренним ужасом передернулся. – Пара к тому же вполне молодая.
– Что с ними стало?
– Что моглос ними стать? Им сообщили, что существует закон, ограничивающий потомство одним новорожденным, мертвым или живым, а они говорят, этот закон порочный. Если б Бог не задумал людей плодовитыми, говорят, для чего Он вложил в них инстинкт размножения? Им сообщили, что концепция Бога вышла из моды, они с этим не согласились. Им сообщили, что у них есть обязанность перед соседями, они это признали, но так и не поняли, как ограничение семьи может быть обязанностью. Очень сложный случай.
– И с ними ничего не случилось?
– Ничего особенного. Оштрафовали. Предупредили, чтоб больше не заводили детей. Дали противозачаточные таблетки, приказали пойти в местную клинику по контролю над рождаемостью и получить инструкции. Только, похоже, они ничуть не раскаялись. И таких людей множество, по всему миру, – в Китае, в Индии, в Восточной Индии. Вот что страшно. Поэтому должны произойти перемены. От данных о численности мирового населения волосы дыбом встают. У нас лишних несколько миллионов. И все из-за доверия к людям. Обожди, увидишь, через день-другой наш паек сократится. Который час? – снова спросил он.
Вопрос был не срочный; если б он захотел, мог бы вытащить руку из-под ее расслабленного теплого тела, откинуться в дальний угол крошечной комнатки, взять наручное микрорадио с часовым циферблатом с другой стороны. Он слишком разленился, не желал шевелиться.
– Думаю, около половины шестого, – сказала Беатрис-Джоанна. – Можешь проверить по телеку, если хочешь. – Свободной рукой ему с легкостью удалось щелкнуть переключателем у изголовья кровати. На окне опустилась легкая занавеска, отсекая достаточно дневного света; приблизительно через секунду на потолке заклокотала, мягко взвыла синтетическая музыка. Не духовая, не струнная, не ударная музыка, точно так же, как та, которую в тот же самый момент слушал напивавшийся алком Тристрам. Волновые колебания, водопроводный кран, судовые сирены, гром, марширующие ноги, вокализация в горловой микрофон, – короткая неразборчивая перевернутая симфония, больше предназначенная для удовольствия, чем для волнения. Экран над их головами молочно засветился, потом на него вулканической лавой вылилось цветное стереоскопическое изображение статуи, венчавшей Правительственное Здание. Каменные глаза над барочной бородой; крепкий, режущий ветер нос; сердитый высокомерный взгляд. Облака за ней двигались как бы в спешке; небо было цвета школьных чернил.
– Вот он, – сказал Дерек, – кто бы он ни был, – наш святой покровитель. Святой Пелагий, святой Августин или святой Аноним, – кто? Сегодня вечером узнаем.
Святой образ потускнел. Потом расцвел впечатляющий храмовый интерьер – почтенный серый неф, стрельчатые арки. С алтаря маршем спускались две плотные мужские фигуры в белоснежных одеждах больничных санитаров.
– Священная Игра, – объявил голос. – Челтнемские Леди против Мужской Команды Вест-Бромвича. Челтнемские Леди выиграли жребий и будут бить первыми. – Плотные белые фигуры спускались осматривать ворота в нефе. Дерек щелкнул выключателем. Стереоскопическое изображение утратило глубину, потом погасло.
– Значит, чуть больше шести, – сказал Дерек. – Мне лучше идти. – Он вытащил онемевшую руку из-под лопаток любовницы и скатился с кровати.
– Еще полно времени, – зевнула Беатрис-Джоанна.
– Уже нет. – Дерек натягивал узкие брюки. Застегнул микрорадио на запястье, глянул на циферблат. – Двадцать минут седьмого, – сказал он. И добавил: – Священная Игра, в самом деле. Последний ритуал цивилизованного Западного Человека. – И хрюкнул. – Слушай, – сказал он, – нам лучше примерно с недельку не видеться. Что бы ты ни делала, не приходи меня разыскивать в Министерстве. Я как-нибудь с тобой свяжусь. Как-нибудь, – глухо сказал он, натягивая рубашку. – Будь, пожалуйста, ангелочком, – сказал он, надевая вместе с пиджаком гомосексуальную маску, – просто выгляни, посмотри, нет ли кого в коридоре. Не хочу, чтоб увидели, как я выйду.
– Ладно. – Беатрис-Джоанна вздохнула, вылезла из постели, накинула халат и пошла к двери. Посмотрела налево, направо, подобно ребенку, разучивающему правила перехода улицы, вернулась и сказала: – Никого.
– Слава Догу на сей раз. – Он произнес последний звук с преувеличенным свистом, чересчур нагло.
– Нечего разыгрывать передо мной гомика, Дерек.
– Каждый хороший артист, – поддразнил он ее, – начинает игру за кулисами. – Чмокнул в левую щеку, небрежно, как бабочка. – Прощай, дражайшая.
– До свидания.
Он завихлял по коридору к лифту; сатир внутри него заснул до следующего раза, когда бы он ни наступил.








