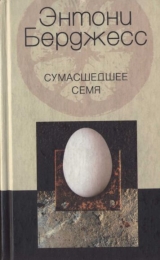
Текст книги "Сумасшедшее семя"
Автор книги: Энтони Берджесс
Жанр:
Прочая фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 18 страниц)
Энтони Берджесс
Сумасшедшее семя
Название этого романа – перефразированная строка из народной песни «Взошедшее семя», опубликованной Джеймсом Ривсом в «Вечном круге».
Часть первая
Глава 1Это был день перед ночью удара ножей официального разочарования.
Беатрис-Джоанна Фокс вышмыгивала горе осиротевшей матери, пока тельце в желтом пластиковом гробу передавали двум мужчинам из Министерства Сельского Хозяйства (Департамент Утилизации Фосфора). Это были веселые личности с угольно-черными лицами и сверкающими вставными зубами; один пел песню, недавно ставшую популярной. Многократно пробормотанная по телевизору обросшими юнцами невнятного пола, она звучала неподобающе, вырываясь из глубокой басистой глотки мужественного представителя Вест-Индии. И ужасающе мрачно.
Обожаемый мой Фред,
Тебя слаще в мире нет,
От макушки и до пят
Ты вкуснее всех подряд.
Детка, детка, детка,
Ты моя котлетка.
Крошечный трупик звали не Фред, а Роджер. Беатрис-Джоанна всхлипнула, а мужчина продолжал петь, без всяких переживаний делая свое дело, которому привычка придала свойство легкости.
– Значит, вот так, – сердечно сказал доктор Ачесон, жирный кастрат англосакс. – Еще шматок фосфорного ангидрида для славной старушки Земли-Матушки. Я бы сказал, меньше полкило. Все равно каждая кроха на пользу.
Певец стал теперь свистуном. Посвистывая, он кивнул, передавая квитанцию.
– А если вы просто сделаете один шаг до моего кабинета, миссис Фокс, – улыбался доктор Ачесон, – я дам копию свидетельства о смерти. Отнесете ее в Министерство Бесплодия, и вам выплатят утешительные. Наличными.
– Я хочу одного, – просопела она, – вернуть своего сына.
– Переживете, – весело сказал доктор Ачесон. – Как все остальные. – Он благосклонно смотрел на двух черных мужчин, несших гробик вниз по коридору к лифту. Двадцать одним этажом ниже их ждал фургон. – И подумайте, – добавил он. – Подумайте с государственной точки зрения, с глобальной точки зрения. Одним ртом меньше кормить. Еще полкило фосфорного ангидрида подкормят землю. Знаете, миссис Фокс, в определенном смысле вы получите сына обратно. – Он направился в свой крошечный кабинет. – А, мисс Хершхорн, – сказал он секретарше, – свидетельство о смерти, пожалуйста.
Мисс Хершхорн, тевтонка-китаянка, быстро проквакала в аудиограф детали; из щели выскользнула отпечатанная карточка; доктор Ачесон поставил подпись – текучую, женственную.
– Вот, миссис Фокс, – сказал он. – И постарайтесь взглянуть на все это рационально.
– Я только вижу, – сурово сказала она, – что вы могли бы спасти его, если бы захотели. Только не думали, будто дело того стоит. Еще один рот кормить, фосфор для государства полезней. Ох, какие вы все бессердечные. – Она снова заплакала. Мисс Хершхорн, некрасивая тощая девушка с собачьими глазами и очень длинными прямыми черными волосами, сделала доктору Ачесону moue [1]1
Недовольную гримасу (фр.).
[Закрыть]. Они явно привыкли к подобным вещам.
– Он был в очень плохом состоянии, – мягко сказал доктор Ачесон. – Мы сделали все возможное, клянусь Нюхом Дожиим. Но такой тип менингеальной инфекции просто галопирует, знаете, попросту галопирует. Вдобавок, – укоризненно сказал он, – вы его к нам принесли недостаточно рано.
– Знаю, знаю. И проклинаю себя. – Крошечная утиралка для носа промокла. – Но, по-моему, его можно было спасти. И мой муж так же думает. Только вы, кажется, не заботитесь больше о человеческой жизни. Никто из вас. Ох, бедный мой мальчик.
– Мы заботимся о человеческой жизни, – строго сказал доктор Ачесон. – Мы заботимся о стабильности. Мы заботимся, чтоб Земля не перенаселялась. Мы заботимся, чтоб всем хватало еды. Полагаю, – сказал он более любезно, – вам надо прямо пойти домой, отдохнуть. По пути к выходу предъявите свидетельство в Амбулатории, попросите, пусть выдадут пару таблеток успокоительного. Ну, ну. – Он потрепал ее по плечу. – Постарайтесь быть рассудительной. Постарайтесь быть современной. Такая интеллигентная женщина. Оставьте материнство простому народу, как природой и было задумано. Теперь, разумеется, – улыбнулся он, – по законам вы так и должны будете сделать. Установленную для вас норму вы выполнили. Материнство больше не для вас. Постарайтесь больше не чувствовать себя матерью. – Он снова ее потрепал, превратив это в прощальный шлепок со словами: – А теперь простите меня…
– Никогда, – сказала Беатрис-Джоанна. – Я вас никогда не прощу, никого.
– Всего хорошего, миссис Фокс. – Мисс Хершхорн включила крошечный диктофон, который начал повторять – маниакальным синтетическим тоном – распорядок приемов доктора Ачесона во второй половине дня. Жирный зад доктора Ачесона грубо повернулся к Беатрис-Джоанне. Все было кончено: сын на пути к превращению в фосфорный ангидрид, а сама она – попросту распроклятая зануда сопливая. Она высоко вскинула голову, промаршировала в коридор, промаршировала к лифту. Она была красивой женщиной двадцати девяти лет, старомодно красивой, на такой лад, какой больше не одобрялся в женщинах ее класса. Прямое неизящное черное платье без талии не могло скрыть подвижную пышность бедер, сковывающий лиф не мог совсем спрямить роскошную округлость груди. Волосы цвета сидра она носила по моде прямыми, с челкой; лицо припудривала простой белой пудрой; не употребляла духов – духи были исключительно для мужчин – и все-таки, несмотря на естественную при ее горе бледность, как бы сияла, пылала здоровьем, источая строго не одобряемую угрозу плодородия. Было в Беатрис-Джоанне что-то атавистическое: она инстинктивно содрогнулась, завидев двух женщин-рентгенологов в белых халатах, которые вышли из своего отдела в другом конце коридора и медленно двигались к лифту, любовно улыбаясь друг другу, глядя друг другу в глаза, держась за руки, переплетя пальцы. Подобные вещи теперь поощрялись, – все, что угодно, лишь бы отвлечь секс от естественной цели, – по всей стране кричащие плакаты, выпущенные Министерством Бесплодия, изображали в насмешливых детских красках ту или другую однополую обнявшуюся пару с девизом: «Гомик сапиенс».Институт Гомосексуализма даже открыл вечерние курсы.
Войдя в лифт, Беатрис-Джоанна с отвращением глянула на хихикавшую обнявшуюся парочку. Женщины – обе кавказского типа – классически дополняли друг друга, пушистый котенок отвечал плотной лягушке-быку. Беатрис-Джоанну чуть не стошнило, она повернулась к целующимся спиной. На пятнадцатом этаже лифт подхватил фатоватого толстозадого молодого человека, стильного, в хорошо скроенном пиджаке без лацканов, в облегающих штанах ниже колен, в цветастой рубашке с круглым вырезом на шее. Он бросил на любовниц резкий презрительный взгляд, раздраженно передернул плечами, с одинаковым неодобрением насупился на полноценную женственность Беатрис-Джоанны. И принялся быстрыми опытными мазками накладывать макияж, жеманно улыбаясь своему отражению в зеркале, целуя губами помаду. Любовницы фыркнули над ним или над Беатрис-Джоанной. «Ну и мир», – думала она, пока они падали вниз. Однако передумала, скрытно, но повнимательней присмотревшись, – может быть, это умный фасад. Может быть, молодой человек, как ее деверь Дерек, ее любовник Дерек, постоянно играет на публике роль, обязанный своим положением, своим шансом на повышение грубой лжи. Но опять не смогла удержаться от мысли, часто об этом думая, что в мужчине, способном пусть даже играть таким образом, должно быть что-то фундаментально нездоровое. Сама она точно никогда не сумеет прикидываться, никогда не пройдет через слюнявую возню извращенной любви, даже если от этого будет зависеть сама ее жизнь. Мир сошел с ума; чем же все это кончится? Когда лифт достиг первого этажа, она сунула под мышку сумочку, снова высоко вскинула голову, приготовилась храбро нырнуть в обезумевший внешний мир. Дверь лифта отказалась открыться по какой-то причине («Ну уж, в самом деле», – подосадовал толстозадый прелестник, сотрясая ее), и в тот миг больное воображение Беатрис-Джоанны, автоматически испугавшись ловушки, превратило кабину лифта в желтый гробик, полный потенциального фосфорного ангидрида.
– Ох, – тихо всхлипнула она, – бедный мальчик.
– Ну уж, в самом деле. – Юный денди, сияя помадой цвета цикламена, попрекнул ее слезами. Двери лифта расцепились, открылись. Плакат на стене вестибюля изображал обнявшуюся пару дружков мужского пола. «Люби своих братьев»– гласил девиз. Сестры захихикали над Беатрис-Джоанной.
– Ну вас к черту, – сказала она, вытирая глаза, – ну вас всех к черту. Вы нечистые, вот кто, нечистые.
Молодой человек, вихляясь и цыкая языком, заколыхал прочь. Лягушка-лесбиянка бережно обняла подружку, враждебно глядя на Беатрис-Джоанну.
– Я вот ей дам нечистых, – хрипло сказала она. – Вымажу ей морду грязью, вот что я сделаю.
– Ох, Фреда, – обожающе простонала другая, – какая ты храбрая.
Глава 2Пока Беатрис-Джоанна спускалась, ее муж, Тристрам Фокс, поднимался. С гулом возносился на тридцать второй этаж к Общеобразовательной Школе (Для Мальчиков), Южный Лондон (Канал [2]2
Принятое в Великобритании название Ла-Манша. (Здесь и далее примеч. перев.)
[Закрыть]), Четвертый Дивизион. Его поджидал Пятый класс (Десятый поток) мощностью в шестьдесят сил. Он должен был давать урок Современной Истории. На задней стейке лифта, полускрытая тушей Джордана, преподавателя искусств, висела карта Великобритании, новая, новый школьный выпуск. Интересно. Большой Лондон, ограниченный морем с юга и с востока, вгрызался все дальше в Северную Провинцию и в Западную Провинцию: его новым северным рубежом стала линия, бежавшая от Лоустофта к Бирмингему; западная граница падала от Бирмингема к Борнмуту. Говорят, собравшимся мигрировать из Провинций в Большой Лондон нечего трогаться с места, надо лишь обождать. В самих Провинциях еще было видно древнее деление на графства, но, благодаря диаспоре, иммиграции, смешанным бракам, старые национальные обозначения «Уэльс» и «Шотландия» больше не имели никакого точного смысла.
Бек, преподававший математику в младших классах, говорил Джордану:
– Надо бы отмести одно или другое. Компромисс, вот в чем всегда была наша беда, либеральный порок компромисса. Семь септ – гинея, десять таннеров – крона, восемь тошрунов – фунт. Бедные юные чертенята не знают, на каком они свете. Мы терпеть не можем от чего-то отказываться, вот наш большой национальный грех…
Тристрам вышел, предоставив лысому старику Беку продолжать свои инвективы. Прошагал к Пятому классу, вошел, заморгал на своих мальчиков. Майский свет из окна, выходившего на море, сиял на их пустых лицах, на пустых стенах. Тристрам начал урок.
– Постепенная категоризация двух основных оппозиционных политических идеологий по сущностным теологически-мифологическим концепциям. – Тристрам не был хорошим учителем. Говорил слишком быстро для учеников, употреблял слова, которые им было трудно правильно написать, склонен был мямлить. Класс покорно старался записывать его речи в тетради. – Пелагианство, – сказал он, – некогда было известно как ересь. Его даже называли британской ересью. Может кто-нибудь мне назвать другое имя Пелагия? [3]3
Пелагий (ок. 360 – после 418) – христианский монах из Британии, проповедовавший в Риме; создатель учения, которое отрицало наследственную силу греха, утверждало свободу воли, в противовес концепции благодати и предопределения Августина.
[Закрыть]
– Морган, – сказал мальчик по фамилии Морган, прыщавый парнишка.
– Правильно. Оба имени означают «морской человек».
Сидевший позади Моргана мальчик засвистел сквозь зубы на манер волынки, толкая Моргана в спину.
– Прекрати, – сказал Морган.
– Да, – продолжал Тристрам. – Пелагий принадлежал к расе, некогда населявшей Западную Провинцию. Он был тем, кого в старые религиозные времена называли монахом. Монахом. – Тристрам энергично выскочил из-за стола, начертал это желтое слово на синей доске, как бы опасаясь, что ученикам его правильно написать не удастся. Потом снова сел. – Он отверг доктрину первородного греха и сказал, что человек способен делом заслужить спасение. – Мальчики очень тупо таращили глаза. – Ничего, пока значения не имеет, – мягко сказал Тристрам. – Вам только надо запомнить, что все это предполагает способность человека к совершенствованию. Таким образом, пелагианство считалось лежавшим в сердцевине либерализма и вытекавших из него доктрин, особенно социализма и коммунизма. Я говорю слишком быстро?
– Да, сэр, – пролаяли и проскрипели шестьдесят ломавшихся голосов.
– Хорошо. – Лицо у Тристрама было мягкое, пустое, подобно мальчишеским, глаза за контактными линзами лихорадочно сверкали. Волосы с негроидной курчавостью; лунки ногтей – полускрытые синеватые полумесяцы. Было ему тридцать пять, почти четырнадцать он был учителем. Зарабатывал чуть больше двухсот гиней в месяц, но надеялся теперь, после смерти Ньюика, продвинуться до руководства Факультетом Общественных Наук. Что означало бы существенную прибавку жалованья, что означало бы квартиру побольше, лучший старт в мире для юного Роджера. Тут он вспомнил, что Роджер мертв. – Хорошо, – повторил он, точно сержант-инструктор во времена до установления Вечного Мира. – С другой стороны, Августин настаивал на наследственной греховности человека и на необходимости ее искупления с помощью божественной благодати. Это считалось лежавшим в основе консерватизма, всяких там laissez-faire [4]4
Политика невмешательства государства в экономику, свободная конкуренция ( фр.).
[Закрыть]и прочих непрогрессивных политических убеждений. – Он сияюще улыбнулся классу. – Противоположный тезис, ясно? – бодро сказал он. – На самом деле все очень просто.
– Я не понимаю, сэр, – пробасил большой лысый парень по фамилии Эбни-Гастингс.
– Ну, видите ли, – дружелюбно сказал Тристрам, – старые консерваторы ничего хорошего от человека не ждали. Человек считался по природе стяжателем, желавшим все больше и больше своей личной собственности; не хотевшим сотрудничать эгоистическим существом, не слишком озабоченным общественным прогрессом. Грех в действительности просто синоним эгоизма, джентльмены. Запомните это. – Он подался вперед, сложив руки, скользнув локтями по желтому мелу, покрывшему стол, как взметенный ветром песок. – Что бы вы сделали с эгоистом? – спросил он. – Скажите.
– Дал бы пинка немножечко, – сказал очень светлый мальчик по имени Ибрагим Ибн-Абдулла.
– Нет. – Тристрам покачал головой. – Ни один августинец не сделал бы такого. Когда от кого-нибудь ждешь наихудшего, никогда не разочаруешься. Только разочарование прибегает к насилию. Пессимист – а это все равно что сказать августинец – получает какое-то мрачное удовольствие, наблюдая, в какие глубины может пасть поведение человека. Чем больше он видит греха, тем больше подтверждается его вера в первородный грех. Каждому нравится подтверждение своего глубочайшего убеждения: это одна из самых долговечных человеческих радостей.
Тристраму вдруг как бы наскучили эти банальные выкладки. Он оглядел свои шесть десятков, ряд за рядом, словно выискивал признаки плохого поведения, но все сидели тихо, были полны внимания, – чистое золото, – точно задались целью подтвердить тезис Пелагия. Микрорадио на запястье Тристрама трижды прожужжало. Он поднес его к уху. Комариный голосок голосом совести пропищал: « Зайдите, пожалуйста, к ректору по окончании текущего урока», – слегка присвистывая на взрывных согласных. Хорошо. Должно быть, то самое; стало быть, сбудется. Скоро он встанет на место покойного бедняги Ньюика; может, выплатят жалованье задним числом. Теперь он встал буквально, схватившись руками, на манер адвоката, за пиджак в тех местах, где во времена лацканов были бы лацканы. И с новыми силами продолжал.
– В наши дни, – сказал он, – у нас нет политических партий. Мы признаем, что старая дихотомия живет внутри нас и не требует никакого наивного выражения в сектах и фракциях. Мы – и Боги, и Дьяволы, хоть и не одновременно. На последнее способен лишь мистер Живдог, а мистер Живдог, разумеется, просто вымышленный символ.
Все мальчики заулыбались. Все любили «Приключения мистера Живдога» в космикомиксах. Мистер Живдог был огромным забавным толстым демиургом, sufflaminandus [5]5
Неудержимым (лат.).
[Закрыть], подобно Шекспиру, населившим всю Землю никому не нужной жизнью. Перенаселение было его деянием. Однако ни в одной своей авантюре он побед никогда не одерживал: мистер Гомик, человек-босс, всегда давал ему команду «к ноге».
– Теология, живущая в наших оппозиционных доктринах пелагианства и августинства, никакой больше ценности не имеет. Мы пользуемся этими мифическими символами, так как они на редкость соответствуют нашей эпохе, эпохе, которая все больше и больше полагается на перцепцию, изображение, пиктографию. Петтмен! – с внезапной радостью вскричал Тристрам. – Вы что-то едите. Едите в классе. Так нельзя, правда?
– Нет, сэр, – сказал Петтмен, – прошу вас, сэр. – Это был мальчик красноватой дравидской окраски с ярко выраженными чертами краснокожего индейца. – Это зуб, сэр. Мне приходится его все время сосать, сэр, чтоб болеть перестал, сэр.
– У мальчика вашего возраста не должно быть зубов, – сказал Тристрам. – Зубы – атавизм. – И сделал паузу. Он часто говорил это Беатрис-Джоанне, имевшей особенно замечательный естественный набор сверху и снизу. В первые дни супружества ей доставляло удовольствие кусать его за мочки ушей. «Прекрати, детка. Ой, милая, больно». А потом крошка Роджер. Бедный маленький Роджер. Он вздохнул и погнал урок дальше.
Глава 3Беатрис-Джоанна решила, что, невзирая на нервный комок и молоток в затылке, не нуждается в успокоительном из Амбулатории. Ей ничего больше не нужно от Государственной Службы Здравоохранения, большое спасибо. Она наполнила легкие воздухом, будто перед нырком, и принялась прокладывать себе путь через толпы людей, набившихся в просторный вестибюль больницы. При такой мешанине пигментов, черепных индексов, носов, губ все это смахивало на гигантский зал международного аэропорта. Она пробилась к лестнице, постояла какое-то время, упиваясь чистым уличным воздухом. Эпоха личного транспорта практически кончилась; только государственные фургоны, лимузины и микроавтобусы ползли по забитым прохожими улицам. Она глянула вверх. Здания из бесчисленных этажей неслись в майское небо, голубоватое утиное яйцо с перламутровой пленкой. Пятнистое и облупленное. Высота с биением синевы и сиянием седины. Смена времен года была единственным неизменным фактом, вечным круговоротом, кругом. Но в современном мире круг превратился в эмблему статичности, ограниченный глобус, тюрьму. В вышине, на высоте, как минимум, двадцати этажей, на фасаде Демографического Института стоял барельефный круг с проведенной к нему по касательной прямой линией. Символ желанной победы над проблемой народонаселения: касательная шла не из вечности в вечность, а равнялась по длине окружности круга. Стаз. Баланс глобального населения и глобальных запасов продовольствия. Умом она одобряла, но тело, тело осиротевшей матери кричало: нет, нет. Все это означало отказ от столь многих вещей; жизнь во имя благоразумия – противное богохульство. Дыхание моря коснулось ее левой щеки.
Она пошла на юг, вниз по большой лондонской улице; благородная, абсолютно головокружительная высота камня и металла искупала вульгарность вывесок и плакатов. Солнечный сироп «Золотое Сияние». «Национальное стереотеле». «Синтеглот». Она проталкивалась в толпах, толпы двигались к северу. Униформ больше обычного, заметила она: полицейские, мужчины и женщины, в сером; многие неуклюжие, видно, новобранцы. Шла дальше. В конце улицы здравым видением блеснуло море. Это был Брайтон, административный центр Лондона, если побережье можно назвать центром. Беатрис-Джоанна шла с той скоростью, с какой приливная волна толпы влекла ее к холодной зеленой воде. Перспектива, увиденная из узкого головокружительного ущелья, всегда обещала нормальность, широту свободы, но реальный выход к кромке моря всегда нес разочарование. Приблизительно через каждую сотню ярдов стояли прочные пирсы, нагруженные блочными офисами или ульями многоквартирных домов, они тянулись к Франции. Но тут все-таки было чистое соленое дыхание; она его жадно пила. У нее было интуитивное убеждение, что если Бог есть, то обитает Он в море. Море говорило о жизни, шептало или кричало о плодородии; этот голос никогда нельзя было полностью заглушить. У нее возникло безумное ощущение – если бы только тело бедного Роджера можно было бросить в тигриные воды, пусть его поглотили бы волны или съели рыбы, чем холодно превратить в химикаты и молча скормить земле. У нее возникло безумное интуитивное ощущение, что земля умирает, что море вскоре станет последним вместилищем жизни. «Море, ты, что бредишь беспрестанно и в шкуре барсовой, в хламиде рваной несчетных солнц, кумиров золотых… – она это где-то читала, перевод с одного из вспомогательных европейских языков, – как гидра, опьянев от плоти синей, грызешь свой хвост…» [6]6
Поль Валери, «Морское кладбище», пер. Б. Лившица.
[Закрыть]
– Море, – тихо сказала она; променад был так же переполнен, как улица, откуда она только что вышла, – море, помоги нам. Мы больны, о, море. Верни нам здоровье, верни нас к жизни.
– Простите? – Это был староватый мужчина, англосакс, прямой, румяный, в пятнах, с серыми усами; в военную эпоху его сразу признали бы отставным солдатом. – Вы не ко мне обращаетесь?
– Извините. – Вспыхнув под костно-белой пудрой, Беатрис-Джоанна быстро пошла прочь, инстинктивно свернув на восток. Глаза ее устремились вверх к непомерной бронзовой статуе, которая высокомерно высилась в воздух на милю, на вершине Правительственного Здания, – фигура бородатого мужчины в классической одежде, сверкающая на солнце. Ночью ее заливал свет. Путеводная звезда для судов, морской человек. Пелагий. Но Беатрис-Джоанна помнила времена, когда это был Августин. Говорят, в другие времена это был Король, Премьер-Министр, популярный бородатый гитарист, Элиот (давно умерший певец бесплодия) [7]7
Элиот Томас Стерн (1888–1965) – американский поэт, драматург, литературный критик; поэма «Бесплодная земля» принесла ему славу самобытного поэта-модерниста.
[Закрыть], Министр Рыбоводства, капитан Мужской Хертфордширской Команды Священной Игры, а чаще и удобней всего – великий никто, магический Аноним.
Рядом с Правительственным Зданием, бесстыдно повернувшись лицом к плодородному морю, стояло более приземистое, более скромное здание в двадцать пять этажей, приютившее только одно Министерство Бесплодия. Над портиком красовался неизбежный круг с целомудренно целующей его касательной и большой барельеф с изображением обнаженной бесполой фигуры, разбивающей яйца. Беатрис-Джоанна подумала, что вполне можно забрать свои (столь цинично поименованные) утешительные. Это давало повод войти в здание, предлог послоняться по вестибюлю. Вполне можно увидеть его,когда он будет уходить с работы. Она знала, на этой неделе он в смене А. Прежде чем пересечь променад, посмотрела на деловитые толпы почти новым взглядом, почти глазами моря. Это был британский народ; точнее, это были люди, населявшие Британские острова, – преимущественно евразийцы, евроафриканцы, европолинезийцы; беспристрастный свет отражался на сливовой, золотистой, даже на красновато-коричневой коже; ее собственный английский персик, замаскированный белой мукой, становился все реже. Этнические различия больше значения не имели; мир делился на языковые группы. Она на миг почти пророчески подумала: не ей ли вместе с еще немногими бесспорными англосаксами вроде нее предоставлено восстановить здравый смысл и достоинство нечистокровного мира? Она вроде бы припоминала, что некогда ее раса уже это сделала.








