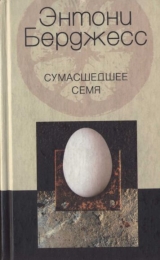
Текст книги "Сумасшедшее семя"
Автор книги: Энтони Берджесс
Жанр:
Прочая фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 18 страниц)
Время сева, из инкубатора тоненькой струйкой текут яйца, Бесси, свинья, чуть не скачет, близнецы процветают. Беатрис-Джоанна с сестрой сидели в гостиной, вязали из какого-то суррогата шерсти теплую младенческую одежду. В сколоченной Шонни двойной колыбельке дружно спали Тристрам и Дерек Фоксы. Мевис сказала:
– Я вовсе не предлагаю тебе уйти в ночь со своей двойной ношей, только думаю, как для тебя было б лучше всего. Ясно, ты сама не захочешь навсегда здесь остаться, не говоря уж о том, что действительно нет свободного места. А потом, всем нам грозит опасность. Я имею в виду, тебе надо решить насчет будущего, правда?
– Ох, да, – без особого вдохновения согласилась Беатрис-Джоанна. – Я три письма написала Тристраму на Министерство Внутренних Дел, все вернулись обратно. Может, он умер. Может, они расстреляли его. – Она шмыгнула пару-тройку раз. – Нашу квартиру забрал Жилищный Департамент. Мне идти некуда, не к кому. Не очень приятное положение, правда? – Она высморкалась. – У меня денег нет. У меня остается одно на всем свете – вот эти близнецы. Можешь меня вышвырнуть, если хочешь, только идти мне буквально некуда.
– Никто не собирается тебя вышвыривать, – резко сказала Мевис. – Ты моя сестра, это мои племянники, если тебе здесь придется остаться, что ж, наверно, так тому и быть.
– Может, мне удастся работу найти в Престоне или еще где-нибудь, – с весьма малой надеждой сказала Беатрис-Джоанна. – Может, это чуточку помогло бы.
– Нет никакой работы, – сказала Мевис. – А деньги всех волнуют в последнюю очередь. Я думаю об опасности. Я думаю про Ллевелипа и про Димфну, что с ними станется, если нас арестуют. А нас арестуют, тебе ведь известно, если обнаружат, что мы прячем, как там это называется.
– Это называется многодетная. Я – многодетная. Значит, ты видишь во мне не сестру. Просто видишь какую-то опасную многодетную. – Мевис, плотно сжав губы, склонилась над вязаньем. – Шонни, – сказала Беатрис-Джоанна, – так не считает. Одна ты считаешь меня обузой и опасностью.
Мевис подняла глаза:
– Ты говоришь очень невежливо и не по-сестрински. Абсолютно бессердечно и эгоистично. Ты должна понимать, в наше время нужна чуткость. Мы шли на риск еще до рождения малышей, на большой риск. А теперь ты винишь меня в том, что я думаю о своих детях прежде твоих. Что касается Шонни, он слишком мягкосердечен для такой жизни. Добросердечен до глупости, думает, будто нас Бог сохранит. Мне иногда тошно слышать имя Господне, если хочешь знать правду. Шонни когда-нибудь на нас на всех накличет беду. Когда-нибудь он нас всех вляпает прямо в кашу.
– Шонни вполне разумный и чуткий.
– Может быть, и разумный, но когда живешь в свихнувшемся мире, разум и чувство ответственности только мешают. Что касается чуткости, он, безусловно, не чуткий. Выброси из головы всякую мысль насчет чуткости Шонни. Ему просто везет, вот и все. Он слишком много болтает, причем говорит нехорошие вещи. Однажды, попомни мои слова, счастье ему изменит, а тогда помоги всем нам Бог.
– Итак, – сказала после паузы Беатрис-Джоанна, – чего ты от меня хочешь?
– Ты должна сделать то, что считаешь наилучшим для самой себя. Если надо, оставайся тут, оставайся, сколько сочтешь нужным. Но старайся порой вспоминать…
– О чем вспоминать?
– Ну, что из-за тебя кое-кто терпит всякие неудобства, даже опасности подвергается. Я сейчас скажу, не стану повторять. Покончим на этом. Просто хочу, чтобы ты иногда вспоминала, и все.
– Я помню, – сказала Беатрис-Джоанна напряженным тоном, – и очень благодарна. Я произношу это приблизительно трижды каждый день своего пребывания здесь, кроме, конечно, дня родов. Вот так вот я и делаю, только мне надо думать и о прочих вещах. Если хочешь, то сразу скажу, чтобы с этим покончить. Очень признательна, очень признательна, очень признательна.
– Ну зачем же ты так, – сказала Мевис. – Давай просто кончим этот разговор, ладно?
– Да, – сказала Беатрис-Джоанна, вставая. – Бросим эту тему. Помня, конечно, что это ты ее подняла.
– Нечего так говорить, – сказала Мевис.
– Ох, проклятье, – сказала Беатрис-Джоанна. – Пора их кормить. – И стала поднимать близнецов. Это уж слишком, вообще слишком; хоть бы Шонни вернулся домой после сева. Одной женщины в доме вполне достаточно, это она понимала, но что же ей делать? – Пожалуй, пойду к себе в комнату, – сказала она сестре, – на весь день. То есть если это, конечно, можно назвать комнатой. – Тут ей следовало бы попридержать язык. – Извини, – сказала она. – Я не хотела.
– Делай что хочешь, – едко сказала Мевис. – Иди куда хочешь. Ты ведь так всегда поступала, с тех пор как я помню.
– Ох, проклятье, – сказала Беатрис-Джоанна и потащилась прочь со своими розовыми близнецами.
Глупо, думала она потом, лежа в сарае. Нельзя себя так вести. Приходилось мириться с тем фактом, что это место единственное, где она может жить; единственное место, пока в точности не узнает, что происходит в мире, где – если не под землей, иначе это значения не имеет, – Тристрам; как укладывается в общую схему Дерек. Близнецы не спали. Дерек (тот, у которого на слюнявчике было вышито «Д») пускал изо рта пузыри материнского молока, оба брыкались. Благослови Бог их крошечные носочки из заменителя хлопка, милые крошки. Ей много пришлось перетерпеть ради них, терпение – одна из ее обязанностей. Вздыхая, она вышла из сарая, вернулась в гостиную.
– Я виновата, – сказала она Мевис, не зная, за что именно извиняется.
– Все в порядке, – сказала Мевис, которая отложила вязанье в сторону и энергично делала маникюр.
– Хочешь, – сказала Беатрис-Джоанна, – я как-нибудь помогу приготовить еду?
– Если есть желание. Я не особенно голодна.
– А как насчет Шонни?
– Шонни взял с собой крутые яйца. Приготовь что-нибудь, если есть желание.
– Я сама не особенно голодна.
– Ну и ладно тогда.
Беатрис-Джоанна села, рассеянно покачивая пустую колыбельку. Не вынуть ли близнецов из кроватки, не принести ли сюда? И весело спросила Мевис:
– Оттачиваешь коготки? – Тут ей следовало бы попридержать язык, и так далее.
Мевис подняла глаза.
– Если ты вернулась, просто чтобы нахамить… – резко сказала она.
– Прости, прости. Я действительно виновата. Это всего только шутка. Я просто не подумала.
– Нет, это одна из твоих характерных особенностей. Ты просто не думаешь.
– Ох, проклятье, – сказала Беатрис-Джоанна. А потом: – Прости, прости, прости.
– Какой смысл твердить, будто ты виновата, если ты этого на самом деле не чувствуешь.
– Слушай, – безнадежно сказала Беатрис-Джоанна, – чего ты действительно от меня хочешь?
– Я тебе уже сказала. Ты должна сделать то, что считаешь наилучшим для себя и своих детей.
В последнем произнесенном ей слове разноголосицей прозвучали самые разные полутона, намекавшие, что единственные настоящие в этом доме дети – собственные дети Мевис, а дети Беатрис-Джоанны незаконные, ненастоящие.
– Ох, – сказала Беатрис-Джоанна, смахивая слезы. – Я так несчастна. – И бросилась обратно к агукавшим, совершенно не несчастным близнецам. Мевис, поджав губы, продолжала делать маникюр.
Глава 11В тот же день, гораздо позже, в своем черном фургоне прибыл капитан Популяционной Полиции Лузли.
– Вот, – сказал он юному Оксенфорду, водителю, – Государственная Ферма С3 313. Долгая была поездка.
– Поганая поездка, – сказал сержант Имидж, сильно присвистывая на свойственный ему лад. На вспаханных полях они насмотрелись на всякие вещи, на жуткие вещи. – Поганая, – повторил он. – Надо было бы нам ихние задницы пулями нафаршировать.
– Боеприпасов на борту не хватит, сержант, – сказал Оксенфорд, молодой человек, понимающий все буквально.
– И не наше это дело, – сказал капитан Лузли. – Публичное непристойное поведение – забота регулярной полиции.
– Тех регулярных, кого еще не съели, – сказал сержант Имидж. – Давай, Оксенфорд, – нагло приказал он. – Вылезай, ворота открывай.
– Это нечестно, сержант. Я машину веду.
– Ну, тогда ладно. – И сержант Имидж принялся вылезать, чтобы открыть ворота, всем своим длинным змеиным телом. – Дети, – сказал он. – Дети играют. Хорошенькие. Ладно, – сказал он Оксенфорду, – езжай к дому. А я пройдусь. – Дети убежали.
В доме Ллевелин закричал, задохнувшись:
– Пап, там мужчины какие-то едут в черном фургоне. По-моему, полицейские.
– В черном, говоришь? – Шонни поднялся выглянуть в окно. – Давно мы их поджидали, прости их Господь, да их все не было. А теперь, когда мы успокоились и заснули, вон они, тащатся в сапожищах. Где твоя сестра? – резко спросил он у Мевис. – В сарае? – Мевис кивнула. – Скажи, пусть закроется и сидит тихо. – Мевис кивнула, но замешкалась перед уходом. – Ну, давай, – поторопил ее Шонни. – Они будут тут через секунду.
– Первым делом мы, – сказала Мевис. – Помни. Ты, я и дети.
– Ладно, ладно, иди.
Мевис пошла к сараю. Фургон подкатил, капитан Лузли вылез, потягиваясь. Юный Оксенфорд взревел мотором, потом его заглушил. Имидж подходил к начальнику. Юный Оксенфорд снял фуражку, продемонстрировав красную полосу на лбу, словно Каинову печать, вытер лоб носовым платком в пятнах, снова надел фуражку. Шонни открыл дверь. Все приготовились.
– Добрый день, – сказал капитан Лузли. – Это государственная ферма С3 313, а вы… Боюсь, не смогу ваше имя выговорить, видите ли. Только это значения не имеет. Здесь у вас остановилась миссис Фокс, не так ли? А это ваши дети? Прелестно, прелестно. Можно нам войти?
– Не мне отвечать да или нет, – сказал Шонни. – Думаю, у вас ордер есть.
– О да, – сказал капитан Лузли, – у нас есть ордер, видите ли.
– Почему он так говорит, пап? – спросил Ллевелин. – Почему он говорит «видите ли»?
– Просто нервничает, да помилует его Бог, – сказал Шонни. – Одни дергаются, другие говорят «видите ли». Ну, тогда входите, мистер…
– Капитан, – сказал сержант Имидж. – Капитан Лузли. – Все вошли, не снимая фуражек.
– Ну, – сказал Шонни, – что именно вы ищете?
– Интересно, – сказал сержант Имидж, толкая ногой тяжеловесную колыбель. – Сук сломается, колыбель упадет. Вывалится младенец…
– Да, – сказал капитан Лузли. – У нас есть основания полагать, видите ли, что миссис Фокс жила здесь весь период своей нелегальной беременности. «Младенец» – оперативный термин.
В комнату вошла Мевис.
– Это, – сказал капитан Лузли, – не миссис Фокс. – Говорил он капризно, точно его пытались обмануть. – Похожа на миссис Фокс, но не миссис Фокс. – Он отвесил ей поклон, как бы иронически поздравляя с искусной попыткой обмана. – Мне нужна миссис Фокс.
– Эта колыбелька, – сказал Шонни, – для поросят. Малыши из приплода обычно нуждаются в особом уходе.
– Может, мне, – спросил сержант Имидж, – велеть Оксенфорду побить его немножко?
– Пусть попробует, – сказал Шонни. Лицо его быстро залилось красным, словно под действием реостата. – Никто еще меня не побил. Мне очень хочется попросить вас всех выйти вой.
– Вы не можете этого сделать, – сказал капитан Лузли. – Мы выполняем свой долг, видите ли. Нам нужна миссис Фокс и ее незаконные отпрыски.
– Незаконные отпрыски, – попугаем повторил Ллевелин. – Незаконные отпрыски. – Фраза ему очень нравилась.
– Допустим, я вам сообщу, что миссис Фокс здесь нет, – сказал Шонни. – Она нанесла нам визит прямо перед Рождеством, а потом уехала. Куда – не знаю.
– Что такое Рождество? – спросил сержант Имидж.
– Это к делу не относится, – бросил капитан Лузли. – Если миссис Фокс здесь нет, вы, полагаю, не возражаете, чтоб мы сами убедились. У меня вот тут, – он полез в боковой карман кителя, – нечто вроде многоцелевого ордера. Сюда входит обыск, видите ли, и прочее.
– Включая побои, – сказала Мевис.
– Вот именно.
– Убирайтесь, – сказал Шонни, – вы все. Я не позволю наемникам Государства шмыгать по моему дому.
– Вы тоже наемник Государства, – ровным тоном сказал капитан Лузли. – Ну, будьте же рассудительны, видите ли. Мы не хотим ничего плохого. – Он болезненно улыбнулся. – В конце концов, все мы должны выполнять свой долг.
– Видите ли, – добавила Димфна, а потом хихикнула.
– Иди сюда, девочка, – заискивающе сказал сержант Имидж. – Ты ведь хорошая девочка, правда? – Наклонился, присел на корточки, полюбезничал с ней, прищелкивая пальцами.
– Стой тут, – сказала Мевис, привлекая к себе обоих детей.
– А-а-р-рх, – коротко рыкнул на Мевис сержант Имидж и, поднявшись, надел слащавую идиотскую маску. – Тут ведь в доме есть малыш, правда? – льстиво спросил он у Димфны. – Сладкий писающий малыш, правда?
Димфна хихикнула. Ллевелин твердо сказал:
– Нет.
– И это тоже правда, – сказал Шонни. – Парень говорит только правду. А теперь все уходите отсюда, хватит время попусту тратить, и мое тоже. Я человек занятой.
– Я и не собирался, – вздохнул капитан Лузли, – предъявлять обвинения вам и вашей жене. Выдайте нам миссис Фокс с ее отпрысками, и больше вы о нас никогда не услышите. Даю слово.
– Ну, что мне, вышвыривать вас? – рявкнул Шонни. – Клянусь Господом Иисусом, я настроен со всеми разделаться.
– Врежь ему чуточку, Оксенфорд, – сказал сержант Имидж. – Все это куча белиберды.
– Мы сейчас начнем обыск, – сказал капитан Лузли. – Очень жалко, что вы не хотите помочь, видите ли.
– Мевис, иди наверх, – сказал Шонни, – вместе с детьми. Предоставь дело мне. – Он попытался вытолкнуть жену.
– Дети останутся здесь, – сказал сержант Имидж. – Детей заставят немножечко повизжать. Люблю слушать детский визг.
– Ах ты, нечестивый безбожный ублюдок! – крикнул Шонни и бросился на сержанта Имиджа, но юный Оксенфорд быстро взялся за дело. Юный Оксенфорд легонько пнул Шонни в промежность. Шонни вскрикнул от боли, потом бешено замолотил руками.
– Ладно, – сказал голос из дверей кухни. – Я больше не хочу доставлять неприятностей. – Шонни опустил кулаки.
– А вот этомиссис Фокс, – сказал капитан Лузли. – Вот этонастоящая вещь. – И продемонстрировал сдержанную радость.
Беатрис-Джоанна была одета для выхода.
– Что, – спросила она, – вы сделаете с моими детьми?
– Ты не должна была так поступать, – простонал Шонни. – Ты должна была оставаться на месте. Все было бы хорошо, прости тебя Бог.
– Уверяю вас, – сказал капитан Лузли, – ни вам, ни вашим детям не причинят никакого вреда. – Он вдруг вытаращил глаза. – Детям? Детям? Ох, ясно. Не один. О подобной возможности я не подумал. Тем лучше, видите ли, тем лучше.
– Можете как угодно наказать меня, – сказала Беатрис-Джоанна, – но дети не сделали ничего плохого.
– Разумеется, нет, – сказал капитан Лузли. – Вообще никому не причинят никакого вреда. Мы намерены причинить вред лишь отцу. Я намерен лишь предъявить Столичному Комиссару плоды его преступления. Ничего больше, видите ли.
– Что такое? – крикнул Шонни. – Что это происходит?
– Долгая история, – сказала Беатрис-Джоанна. – Теперь слишком поздно рассказывать. Ну, – сказала она сестре, – кажется, будущее обеспечено. Кажется, я нашла, куда идти.
Часть четвертая
Глава 1Тристрам готовился начать свой анабасис. Его компасной стрелкой тянуло на север, к жене, к перспективе покаяния и примирения, как к перспективе бани после тяжких трудов. Ему хотелось уюта, объятий, тепла ее тела, слез, смешанных с ее слезами, отдохновения. Теперь он не особенно желал отмщения.
В столице был хаос, причем этот хаос казался сначала как бы отражением его вновь обретенной свободы. Хаос шумно буйствовал, как большая хохочущая вакханка, посоветовав ему неподалеку от Пентонвилла огреть безобидного мужчину дубинкой и украсть одежду. Было это в переулке после наступления темноты, на окраине, средь публичных костров, где готовилась пища, среди трещавших человеческим жиром огней. Электричество, вместе с другими коммунальными услугами, вроде бы не работало. Стояла ночь джунглей, под ногами, как поросль, хрустело битое стекло. Тристрам удивлялся поддержанию цивилизованного порядка в той самой тюрьме, которую покинул; сколько это может еще продолжаться? А потом, удивляясь, увидел мужчину, тащившегося к переулку, про себя напевавшего, что-то выпивавшего. Тристрам взмахнул дубинкой, и тот сразу покорно упал, точно только этого и дожидался; одежда – рубашка с круглым вырезом, кардиган, костюм в клетку, – снялась с него без труда. Тристрам быстро превратился в свободного гражданина, но решил оставить при себе дубинку охранника. И, одетый к обеду, пошел искать еду.
Звуки джунглей, черный лес небоскребов, звездное небо в головокружительной высоте, краснота костров. На Клермон-сквер он набрел на евших людей. Человек тридцать, мужчины и женщины одинаково, сидели вокруг жарившегося мяса. Железный гриль из грубо скрученных телеграфных проводов покоился на постаментах из груды кирпичей; внизу пылали угли. Мужчина в белой шапке вилкой ворочал, переворачивал брызжущие бифштексы.
– Места нет, места нет, – пропел при робком приближении Тристрама тощий субъект с профессорским обличьем. – Это клубный обед, не общественный ресторан.
– У меня, – сказал Тристрам, махнув дубинкой, – тоже есть членский билет. – Все рассмеялись над жалкой угрозой. – Я только что из тюрьмы, – жалобно заныл Тристрам. – Меня морили голодом.
– Приземляйся, – сказал субъект профессорского склада. – Хотя поначалу может оказаться чересчур жирным для твоего желудка. Нынче, – афористически изрек он, – преступник – единственный нравственный человек. – Потянулся к ближайшему грилю и прихватил щипцами длинный горячий железный противень со шкварчавшими кусками мяса. – Кебаб, – сказал он. Потом прищурился на Тристрама в свете костра. – Да ведь ты без зубов. Тебе обязательно надо зубы где-нибудь раздобыть. Обожди. У нас тут есть очень питательная похлебка. – И с необычайным гостеприимством засуетился в поисках миски, ложки. – Попробуй, – сказал он, наливая из железного котла, – и от всего сердца добро пожаловать.
Тристрам, как животное, потащил, весь дрожа, этот дар в угол, подальше от остальных. Лизнул дымившуюся ложку. Роскошь, роскошь, маслянистая жидкость, а в ней плавают какие-то дымящиеся мягкие каучуковые комья. Мясо. Он читал про мясо. Древняя литература полна мясоедения – Гомер, Диккенс, Пристли, Рабле, А. Дж. Кронин. Глотнул полную ложку, срыгнул, и все вышло обратно.
– Тише, тише, – сказал субъект профессорского склада, заботливо подходя к нему. – Тебе скоро покажется вкусным. Думай, будто это не то, что есть на самом деле, а какой-нибудь сочный фрукт с древа жизни. Вся жизнь едина. За что тебя посадили в тюрьму?
– Полагаю, – сказал Тристрам, по-прежнему рыгая, – за то… – и опомнился, – что я выступал против Правительства.
– Против какого правительства? В данный момент, похоже, у нас нет никакого правительства.
– Значит, – сказал Тристрам, – Гусфаза еще не началась.
– Кажется, вы ученый. Наверно, в тюрьме было время подумать. Скажите, что вы думаете о нынешних временах?
– Нельзя думать без данных, – сказал Тристрам. Вновь попробовал похлебку; пошла гораздо лучше. – Значит, это мясо, – сказал он.
– Человек плотояден, равно как и производителен. Эти качества родственны, причем оба давно подавляются. Сложите их воедино, и разумной причины для подавления нет. Что касается информации, мы информации не имеем, ибо не имеем информационных агентств. Впрочем, можно понять, что правительство Старлинга пало, Президиум полон грызущихся псов. Скоро будет правительство, не сомневаюсь. Мы тем временем объединяемся в небольшие обеденные клубы ради самозащиты. Позвольте вас предупредить, только что вышедшего из тюрьмы и, следовательно, новичка в новом мире, не ходите один. Если желаете, я приму вас в наш клуб.
– Очень любезно с вашей стороны, – сказал Тристрам, – но я должен найти свою жену. Она в Северной Провинции, рядом с Престоном.
– У вас будут определенные трудности, – сказал добрый человек. – Поезда, разумеется, перестали ходить, и дорожного транспорта мало. Пешком идти очень далеко. Не ходите без провизии. Идите вооруженным. Не спите на виду. Меня беспокоит, – сказал он, снова щурясь на впалые щеки Тристрама, – что у вас нет зубов.
Тристрам вытащил из кармана перекрученные половинки челюстей.
– Охранник в тюрьме просто зверь, – облыжно объявил он.
– По-моему, – сказал мужчина, похожий на профессора, – среди наших членов найдется зубной техник. – И направился к своей компании, а Тристрам прикончил похлебку. Она подкрепляла, без всяких сомнений. В голове заклубилось воспоминание о древней пелагианской поэме или, скорей, об одном собственном авторском к ней примечании. «Королева Маб». Шелли. «Сравнительная анатомия говорит нам, что человек во всем схож с плодоядными животными, и ничем с плотоядными; у него нет ни когтей для поимки добычи, ни больших острых зубов, разрывающих живую плоть». И опять: «Человек не похож ни на одно плотоядное животное. Нет исключений, если им не служит человек, из правила, по которому травоядные животные имеют ячеистую ободочную кишку». Может быть, это в конце концов распроклятая белиберда.
– Ваши зубы можно починить, – сказал, вернувшись, любезный мужчина с профессорским обличьем, – и мы можем дать вам в дорогу полную сумку холодного мяса. Я бы на вашем месте не думал отправляться до рассвета. Приглашаю вас провести ночь со мной.
– Вы поистине очень любезны, – искрение сказал Тристрам. – Честно скажу, никогда раньше я не встречался с подобной любезностью. – Глаза его наполнялись слезами; день был утомительным.
– Даже не думайте. С ослаблением Государства расцветает гуманность. В наши дни встречаются очень милые люди. Только все же держитесь за свое оружие.
Тристрам лег в ту ночь со вставленными зубами. Лежа на полу в квартире мужчины, похожего на профессора, вновь и вновь шамкал ими в темноте, словно жевал воздушное мясо. Хозяин, назвавшийся Синклером, устроил обоим для отдыха освещение с помощью фитиля, который плавал в жире, издавая вкусный запах. Уютное пламя высвечивало неприбранную комнатку, битком набитую книгами. Синклер, впрочем, отказался от всех притязаний на звание, как он выразился, «читающего человека»; до краха электричества он был электронным композитором, специализировался на атмосферической музыке для телевизионной документалистики. Опять же до исчезновения электричества и остановки лифтов его квартира располагалась добрыми тридцатью этажами выше этой; видно, нынче слабейшие поднимались, а сильнейшие опускались. Эта самая новая квартира принадлежала настоящему читающему человеку, учителю китайского, чья плоть, несмотря на преклонный возраст, оказалась вполне сочной. Синклер невинно спал в стенной кровати, деликатно похрапывал и лишь изредка говорил во сне. Большинство его высказываний были афористичными, некоторые – просто белибердой. Тристрам слушал.
– Кошачье своеволие превосходит лишь ее глубокомыслие.
– Я люблю картошку. Я люблю свинину. Я люблю людей.
– Евхаристическое причащение – наш ответ.
Темный термин – причащение – стал как бы сигналом ко сну. Точно это и впрямь был какой-то ответ. Тристрам, довольный, ублаженный, погрузился в забвение, выпал из времени, а вновь в него вынырнув, увидел Синклера, который что-то мычал, одеваясь, и дружелюбно щурился на него. Кажется, стояло прекрасное весеннее утро.
– Ну, – сказал Синклер, – надо собрать вас в дорогу, не так ли? Впрочем, сначала главное – хороший завтрак. – Синклер быстро умылся (похоже, коммунальное водоснабжение еще было в порядке), побрился древней опасной бритвой. – Хорошее название, – улыбнулся он, одалживая опасную бритву Тристраму. – Вещь в самом деле опасная. – Тристрам не нашел оснований не верить ему.
Видно, кострам с жарким никогда не давали погаснуть. Храмовый огонь, подумал Тристрам, олимпийский, сдержанно улыбаясь членам обеденного клуба, четверо из которых всю ночь охраняли, поддерживали огонь.
– Бекон? – спросил Синклер, – и навалил Тристраму полную жестяную звенящую миску. Все ели от души, часто изрекая веселые замечания и выпивая кварты воды. Потом добрые люди набили почтовую сумку кусками холодного мяса, с многочисленными добрыми пожеланиями нагрузили своего гостя и отправили в путь.
– Никогда, – провозгласил Тристрам, – не встречал я такой щедрости.
– Идите с Богом, – сказал Синклер, сытый, готовый взгрустнуть. – Возможно, найдете ее в полном здравии. Возможно, найдете счастливой. – Он нахмурился и поправился: – То есть, конечно, возможно, она будет рада вас видеть.








