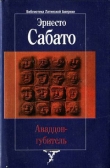Текст книги "Декабрь без Рождества"
Автор книги: Елена Чудинова
Жанр:
Ужасы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 25 страниц)
– Полноте, Государь, отдохну, как свернем на новую дорогу.
– Как знаешь. – Император промокнул чело платком. Белый батист немедля посерел, вобрав обильную испарину. – Не помню, Роскоф, сколько раз за эти дни мне вспадало в голову: а не зряшны ли такие усилия? – Приметив легкую тень раздражения, промелькнувшую в лице собеседника, Александр усмехнулся. – Ты неверно понял. Я нимало не сомневаюсь в том, что опасность велика, что измена проникла куда глубже, нежели можно было ожидать – только этим и объясняется мое неведенье. Эким же я выказал себя глупцом! Ждал беды от одного из двоих братьев, терзал обоих неясностью завещания, тщась тем обезопасить себя! А братья вышли чисты, пуще того, они в равной со мною опасности! Я устал, Роскоф. Право, мною владеет какое-то небывалое безразличие к собственной моей участи. Стоит ли мне беречься? Главное, сохранить молодость императорской фамилии – Николая, Мишу да Александра-малютку.
– Не тревожьте сердца понапрасну, Государь. Их стерегут втрое сильней, нежели вас.
– Ты отчаянный человек, Роскоф. – Император вновь вытащил из-за обшлага уже превратившийся в мокрую тряпицу платок. – Но благодарю тебя за полную правду.
– Ваше Величество, я отнюдь не говорил, что о вас радеют худо. – От нежданной сердечной откровенности Императора Роскоф смешался. – Положимся на волю Божию. Глядишь и воротимся назад прежде, чем установится зимний путь.
– И обыкновенною дорогой, – Александр улыбнулся было, но улыбка эта, не успев покинуть его уст, словно выцвела изнутри. Губы его побелели. – Смотри… Смотри же! Ты видишь… это?
Словно чья-то рука вывела по утреннему белесому небу резкий красный зигзаг. Нечто, похожее на размытую кляксу, венчающую сей росчерк, казалось, стояло неподвижно, но вместе с тем расстояние меж нею и окоемом уменьшалось.
– Комета… – Роскоф невольно залюбовался. – Экая отчетливая, дорого б дал покойный Эйлер, чтоб оказаться тут с подзорною трубой.
– Комета, – негромко повторил Император. – Знак судьбы. Знаешь, что она обозначает? Бедствие и горе.
Глава V
Между тем на Мойке, в дому Русско-Американской Компании, где квартировал управитель канцелярии оной Кондратий Рылеев, на движенье небесных тел никто внимания не обратил. Хотя и было кому: немалое собранье гостей досидело до утра. Гостиная являла собою баталию минувшей ночи. Табачный дым черными тучами плавал под потолком и был бы вовсе нестерпимым, когда бы кому-то ни пришло в голову растворить одно из окон. В сероватом утреннем свете все, отдыхавшие в креслах и на оттоманках, казались бледны до самого мертвенного состояния. Бокалы и пустые бутылки меж тем были уже вынесены, старый слуга-калмык разносил завтрак: водку, ржаной хлеб и квашеную капусту.
– Экая дрянь, а с похмелья хорошо идет, – молодой человек в штатском запустил в тарелку персты с изумительно отшлифованными розовыми ногтями. Был он еще безусым, с не тронутыми бритвою девичьими румяными щеками.
– Ничего не хорошо, – возразил стоявший у окна подпоручик, сморщился и опрокинул стопку. – Подобное подобным, а пили неплохое аи. А от такой закуски у меня индижестия в брюхе. Признайся, Кондрат, ты чай, из экономии всю эту народность у себя развел, а?
Названый Кондратом поморщился. Шуток он не любил и сам не шутил иначе, нежели написанием длинных сатир. Собою он был скорее недурен, только нос, рот и подбородок казались слишком невелики в сравнении с глазами и бровями.
– Не вкушая одну пищу с народом, не ощутишь настоящего с ним братского родства, – нравоучительно заметил он. – Иван, старая бестолочь, неужто нельзя было догадаться сперва проветрить?!
Последняя часть тирады относилась уже к калмыку, тут же заторопившемуся распахивать фортки в трех оставшихся окнах.
Спорить дальше об уместности предложенной снеди, равно как и о чем-либо другом, никто не захотел.
Все присутствовавшие были в некотором роде семья. Кто-то с кем-то и вправду состоял в родстве, кто-то соседствовал имениями, кто-то вместе учился либо прошел военные кампании, кто-то встречался в одной масонской ложе. Иной раз приходилось то и другое разом. Быть может, потому нынешнее времяпрепровождение представлялось большинству чем-то из совместных досугов.
Невысокий мелко-кучерявый, смугловатый с лица драгун, полулежа на оттоманке, небрежно шелестел какими-то листами. Отсутствие помарок и гладкий безликий почерк, которым те были заполнены, говорил о том, что некое сочинение г-на Улыбышева под названием «Сон» было списком, а не оригиналом.
– Ну что, Саша, стоит эту штукенцию тиснуть на станке? – спросил один из гостей в штатском, той же южнорусской наружности, что и драгун.
– Не хочешь ли сказать, Иван, – оборотился к нему Рылеев, – что у тебя получилось сей станок запустить?
– Чтоб у Якушкина да наладилась какая-нито механика? – Драгун хмыкнул.
Несколько человек засмеялось.
– По-моему, и у тебя, Якубович, дело не сладилось, – огрызнулся гость в штатском. – Давно б уже станок работал, когда б позвали типографиста!
– И тут же бы сами рассекретились какому-нибудь Сабурову в руки, – строго возразил Рылеев.
– Да что это за Сабуров такой, другой раз о нем слышу, ровно он пугалом нанялся на нашем огороде? – спросил подпоручик.
– Пестель его велел опасаться, – ответил юнец, что хвалил капусту. – Непонятный ферт, вроде и не в строку, а все дорожки на него сворачивают.
– Сабуров, говоришь? – Якубович нахмурился. – Роман, что ли? Закрытый ящик. Надо б прознать получше об его обстоятельствах. Кто с ним в одной ложе?
– Он не масон, – сухо ответил Рылеев.
– Вообще не масон?!
– Да брось, не масон, нешто мы в уездном городке?
– Может статься, его ложа маленькая, не на виду?
– Да ладно тебе!
– Повторяю, он не каменщик, – раздосадовано повторил Рылеев, разгоняя комариную тучу недоуменных возгласов. – Сие известно самым достоверным образом.
– То-то чины мимо летят… – один из гостей выразительно присвистнул.
– Хуже того, – Якубович заговорил, не отрывая отчего-то взгляда от разлохмаченного списка. – Этот его свойственник ли, или кузен, словом, родня – Роскоф… Так вот он не масон также.
– Свитский?! Каким же манером он тогда взлетел так высоко? Будь он каким Крезом, из тех, что ленятся ходить в ложу, знаючи, что и так их все рады привечать… Роскоф этот, конечно, не бедняк, Сабурова побогаче будет, но все ж имение не из ряда вон… Да и дворянство нетитулованное. Нет, такому в свиту нипочем не пробраться иначе, чем через ложу, – глубокомысленно заключил еще один гость, постарше прочих.
– Быть может, Трубецкой, ты скажешь, через какую?
– Наверное не скажу, но я слыхал, будто Роскоф в ложе Благотворительности к Пеликану.
– Нет, он в ложе Беллоны.
– В ложе Беллоны? Эй, Бурцов, проснись!
– Чего будите, канальи? Только глаза сомкнул… – на диване в дальнем углу проистекло некоторое шевеление прежде бездыханного тела.
– Ты ответь и дальше дрыхни! Платон Роскоф с тобою в одной ложе?
– Что за глупость, отродясь вместе не заседали! Он в ложе Северных друзей.
– А я слыхал, что в ложе Минервы, они там горазды стоять на особицу.
– Кто это тебе сказал, Якушкин, что Роскоф в Минерве?
– Вроде Шервуд говорил.
– Ну, уж точно не Шервуд! Потому, что мне как раз Шервуд наверное рассказывал, что Роскоф ездил в Вильно и там вступал в ложу Усердного Литвина.
– Путаешь!
– Сам путаешь!
– Да все путают, и ты, и он, и Шервуд! – Якубович уронил бумаги и прошелся в сердцах по гостиной. – Он не масон, а слухи сам пускает, чтоб не привлекать к сему внимания.
– И, полно! Зачем бы ему?
– Да затем, что два чудака в одной семье – это уж перебор. Один чудит явно, другой пускает пыль в глаза. А при том, что не один, так другой все время встает на пути…
– Я вот, что вспомнил, – заметил курносый рослый Трубецкой. – Роскоф-то сей из французских эмигрантов. Верней не сам, но отец его был. Не может ли он быть тайным иезуитом? Вместе со свойственником своим?
В окнах уже наливался солнечный день ранней осени. Беспутная ночь уже выпустила собравшихся из своих объятий: помятые и несвежие, гости Рылеева тем не менее больше не маялись похмельем и дрёмой – начавшийся разговор потихоньку затянул всех.
– Думаю, нам не суть важно, – наконец ответил Рылеев. – Иезуит или нет, а едва ль Ватикан станет охотиться на братьев в православных пределах. А из православия неприятель никакой: попы здешние нас всего сто лет знают, это не срок. Даже не анафематствуют покуда. Нету в России силы, чтоб сплотилась всерьез. Посему что Сабуров сей, что Роскоф не страшны. Так, одиночки, что б там у них на уме ни было.
– Пустое, у нас не будет Вандеи с попами, – хмыкнул Якубович, вновь раскрывая список. – Как в сем сочинении и написано, через двадцать лет православными в Санкт-Петербурге будут только старые бабки. Новинка, право, недурна, нечто наподобие Фомушки Мора, только средь наших осин. Черт бы подрал этот печатный станок, только начнешь давить на рычаг, как буквы почему-то осыпаются со своей рамы…
На дворе замычала корова, которую экстравагантный Кондратий держал ради свежих сливок – к великому недовольству соседей. Сливки, впрочем, скотина давала решительно дрянные, поскольку даже летом рационом ее было сено. Да и где б ей было пастись?
Якубович поморщился: оригинальничанье Рылеева иной раз изрядно выводило его из себя.
– Кого это черти несут пораньше с утра? – поморщился Якушкин. – Ох, ровно по моей башке лупит!
Дубовый молоток впрямь стучал в парадную дверь, как дятел. Доклад старого калмыка опередили стремительные шаги, сопровождаемые звоном шпор.
– Охотников? Ты откуда? – спросил Трубецкой удивленно, словно твердо знал, что вошедшему надлежит быть вовсе в ином месте. Впрочем, так оно и было.
– Костя, ты ж должен теперь на дежурство заступать? – вслед за Трубецким спросил и Рылеев.
– Заступать некуда! – едко бросил вошедший офицер, рыжий и рябой. – Клетка опустела, птичка улетела, или как там в ребяческих прописях… Словом, мы сели в лужу, Император отбыл из дворца.
– Куда?! – Якубович вскочил на ноги.
– С супругой, на леченье в Таганрог…
– Э, великое дело! Уж слыхали, – Якушкин презрительно усмехнулся. – Выехать легко, доехать иной раз непросто. Поезд плетется медленно, обогнать его – проще простого. Надо встретить и приветить Александра в одном из попутных городов. Может статься, все даже к лучшему! Первое – в дороге охрана слабей, второе – сколько можно размазывать кашу по тарелке? Самое судьба указывает, что надобно поспешать!
– Ты не понял… Вы все не понимаете… – Охотников тяжело вздохнул. – Он едет какой-то особою дорогой.
– Не удалось прознать, через какие селения оная проходит? – напрягся Рылеев.
– Дорога не проходит ни через какие селения, – отчеканил Охотников.
– Что за гиль! – недовольно воскликнул Трубецкой. – Таких дорог не бывает, кому они нужны?
– Тому, кто хочет быть безопасен от дорожных засад и встреч. Дорогу вели по глухой чащобе.
Заметная растерянность воцарилась в собрании.
– Кто ж его так остерег? – почти простонал Трубецкой. – Но… постойте, друзья, дело-то не так уж и плохо, может статься! Ведь наш брат – он в свите. Без него не уедут, то есть не уехали, я готов держать пари! Александр не чает в нем души!
– Не знаю, стоит ли радоваться, – хмуро уронил Якубович. – Не кинжалом же ему колоть тирана. А хоть бы и кинжалом, наедине им едва ль случиться быть. У него ничего нету с собою. Ровным счетом ничего! Хоть бы ложечку той тинктуры, что хранится в моей ложе для уснувших братьев!
– Ладно, он малый смышленый, этот наш… – начал было Якушкин, но замолк, изумившись сделанной Рылеевым гримасой. – Ты чего это, Кондрат?
– Мы все не в меру говорливы. А сейчас слишком много стоит на кону, больше, чем у нас есть, – произнес Рылеев веско. – Без обид, пора б нам попридержать языки. Не все здесь знают, о ком речь. Кто знает, пусть молчит.
– А ведь Кондрат прав, кондрашка меня стукни! – хохотнул вновь пробудившийся тучный Бурцов. – Подаю пример: сам не знаю и не спрашиваю! Довольно болтали, молчанье – золото!
– Болтали даже слишком довольно, – мрачно согласился Якубович. – Пора за дела.
Словно кто-то незримый, неприятный и холодный, прошелся по неубранной беспечной гостиной, притронулся, проходя, к каждому из собравшихся. Кому приложил ладонь к разгоряченному лбу, кому стиснул руку либо плечо, кому провел перстом по устам. Непроизвольная дрожь была ответом на это невидимое прикосновение. Совладав с дрожью, человек невольно оборачивался по сторонам: не приметили ли? Но никто не примечал чужой слабости, каждый был раздосадован своею. Тайный гость прошел незамечен. Да и был ли он?
Глава VI
В Липовицах, старом имении Тугариных, запаздывали со скирдовицей. Уж два дня, как минул Моисей, а еще жали. В поле вышли все, считая дворню. А все ж страда была весёлая, хоть и не разгибали спин: такого богатого жита не помнили даже старики.
Темноглазая Настёна, четырнадцатилетняя дочка вдовой ключницы, обогнала всех девок и баб. Любо смотреть, как ловко, поймав направление ветерка, она проворно прихватывала левой рукою тугие колосья и, сжавши, взмахивала сверкающим полукружьем прекрасного серпа австрийской ковки. Взмах, другой, третий – и вот уж девчонка вяжет пузатый сноп, вот снова, улыбаясь задорной улыбкой, ловит ветерок… Да, вот оно! Стальной полумесяц замер в опущенной руке, в темных глазах пляшут солнечные зайчики…
– Ну, потерпи еще немножко, Настенька!
– Воля ваша, голубушка барыня, а меня девки с парнями засмеют! Сижу тут в хоромах в самую страду да дурью маюсь!
– Подбородок, подбородок!! – отчаянно воскликнула Прасковья Филипповна, высовываясь из-за мольберта.
Девчонка только вздохнула, застыв на неудобном табурете.
Второй день, как страда отошла на второй план, а на первый выдвинулась случайно попавшаяся на глаза фигурка девушки-подростка, осыпанная золотыми полуденными лучами, словно Даная своим дождем. Позу и движение Прасковья поймала на месте – карандашиком в маленькой альбомец, что всегда таскала в кармане передника, но лицо, но колорит… тут придется повозиться. Волосы собраны в косу, рожь собрана в сноп. Как передать эту рифму? Чуть-чуть вохры – и туда и туда? Ладно, волосы и рожь покуда отставим, а солнечный зайчик в глаз бросим легоньким мазком белил… Да, это то, что нужно!
Прасковья Филипповна отошла от мольберта, сжимая в руке тонкую кисть. Поверх легкого светлого платья на ней была заляпанная красками грубая блуза, а волосы полностью укрывал глухой серый чепец. Впору бы испугаться, да некому. Кто ж станет в страду с визитами разъезжать? По-хорошему бы и ей отложить баловство, да уж ладно, все одно она закончит с картиною к обмолоту, а покуда дело и без нее спорится… Уж как обмолот начнется, так сиди-считай…
– Ты, Настенька, походи минутку, разомни ноги! А потом придется еще часок посидеть, пока свет хороший.
Прасковья Филипповна вышла на закругленный балкончик, нависший над спуском к небольшому пруду. Зацвел пруд, чистить пора, да рук не хватает. Уж к следующему лету, ладно… Ни на что не достает ни денег, ни рук.
Польщенная нежданно свалившимся правом находиться в барыниной студии, Настена переходила от картины к картине, от одного глиняного эскиза к другому.
– Ой, Мать Пресвятая Богородица!!
– Опрокинула что-нибудь, егоза? – услышав отчаянный возглас девочки, Прасковья торопливо шагнула обратно в студию.
Все в ней стояло на местах, вот только побледневшая Настёна, застывшая перед маленьким пейзажем, явно была не прочь бежать куда глаза глядят.
– Матушка-барыня! Это ж синие травы!
– Оне, – спокойно ответила Прасковия, тут же понявшая, в чем дело. – Ну, так и что с того, дружок?
– Нешто можно, чтоб эдакая пакость в дому была?
– Это же не синие травы, а просто их изображенье краскою на холсте. Полно, ничего худого они ни тебе, ни мне не сделают. Давай-ка дальше за дело!
Настёна взобралась на табурет, пугливо косясь на пейзажик. Прасковья Филипповна вновь взялась за кисти, но работа дальше не заладилась. Личико ровно подменили! Вытянулось, осунулось, глаза смотрят совсем иначе.
– И чего ты перепугалась? Большая уж девица, небось скоро сватать придут. Пора б вырасти из страшилок, кои ребятишки в ночном друг дружке наговаривают.
– Воля ваша, барыня, боязно.
– Ох, ладно. Беги покуда в поле, уберу я завтра картинку.
Маленькие босые ноги простучали по дощатому полу и ступеням. Девчонки и след простыл.
Прасковья задумчиво подошла к пейзажу. Треснувший от удара молнии старый вяз высится над дорогой. Вдали – полевое разнотравье. Вороны в засохшей листве. Над самою кромкою дороги трава поднялась необычно высоко, обозначая холмик, похожий на могильный. Если вглядеться – никакого холмика и нет. Просто ни с того, ни с сего трава поднялась в одном месте выше обыкновенного. И оттенок стеблей странен: ощутимо отдает в голубизну. А по дороге прыгает еще один вороненок.
Ругать девчонку за суеверия не приходится, суеверие водило Прасковьиной рукою. Да и суеверье ли оно? Ее глаз, глаз какого-нито, а живописца, не ошибается: синие травы и вправду сини. Правда и то, что о прошлый год они в этом месте были от вяза на добрую сажень влево.
Синие травы перемещаются вдоль дорог. Каждый ребенок знает, отчего: покойники в земле ползут друг к дружке навстречу, пожаловаться на неприкаянный свой жребий. Потом начинают винить друг дружку, ссорятся, расползаются прочь. Не разрешено им только удаляться от дороги.
Прасковья бережно собрала кисти и заткнула в кувшинец с конопляным маслом – отмокать. Когда б такое услыхал в шестнадцать лет брат Платоша, сочинил бы целую балладу! Так бы и назвал – «Синие травы». Только не было по обочинам дорог синих трав в его шестнадцать лет. Свои страшилки выискивали они в немецких книгах, счастливые и безмятежные дети рубежа двух столетий. Хороша же была их ребяческая компания! Платон, Арсюша Медынцев и Сережа Тугарин – все почти одногодки, а она, Панна Роскофа, единственная их дама. Медынцевы – многочисленная и дружная семья, всегда жили открытым домом. Чаще всего у них устраивались и большие съезды гостей и детские праздники. Немудрено, что лучшие воспоминания о ребяческих годах у Прасковьи связаны не с родным Кленовым Златом, а с Камышами.
Усадьба в Камышах была полностью перестроена дедом Арсения. У того, надо сказать, выдалось в избытке времени на совершенствование сельской архитектуры. Столичный житель, он угодил в опалу вместе с покровителем своим – фельдмаршалом Минихом, за явленную Петру Третьему верность. Петра Третьего Арсений не любил, но дедом Гаврилой Львовичем гордился, а уж плоды вынужденного дедова досуга были баснословны. Строения из красного кирпича, украшенного белою лепниной, были вписаны в широкий круг. Сам дом, к постоянному восторгу детей, с внутреннего двора глядел четырехэтажным, меж тем как фасад являл собою только три этажа – два ряда высоких французских окон и третий, поменьше, под крышею. Там размещались детские комнаты, там, на третьем этаже, завершалась лестница с чугунными перилами. Из детских лестница спускалась в комнаты родителей, из комнат родителей – в гостиные и залы. А куда девался тот этаж, мелкие окошки коего были видны со двора? Этот вопрос несказанно волновал друзей с тех самых пор, как они научились считать до четырех. Особого входа с лесенкой в него тоже не было!
Сергей Гаврилыч меж тем всегда начинал сердиться, стоило ему услышать вполне резонные вопросы. Уходила от ответов и Аглая Ивановна.
Меж тем маленькие окошки всегда сверкали такой же стеклянною чистотою, как и вполне законные окна. Бессовестно пользуясь заботою ребятишек, нянька Феклуша развела турусы на колесах относительно барина всех домовых, владеющего сими апартаментами. Деревенские домовые были у него в крепости и являлись с дарами, кроме того – имелось изрядное семейство. Нужды нет, что барин-домовой ждал только того, чтобы уволочь в свои горницы какого-нибудь непослушного мальчишку.
– А я чашку саксонскую разбил давеча, отчего ж он меня не уволок? – набирался дерзости Арсюша.
– Небось он и чашку в особую книгу записал, – не сморгнув, парировала Феклуша. – Вот выйдет нужное число проказ – враз уволочет.
– Не стыдно тебе слушать неграмотную бабу, – с неохотой сказал однажды Сергей Гаврилович. – Ведь большой уж мальчик, девять годов сравнялось. Ладно, чего уж. Помнишь, от деда твоего вся Фортуна в одночасье отвернулась? Все ему с тех пор тайные заговоры в голову лезли. Вот и спрожектировал он сии горницы. От злонамеренья не убережет, говаривал он, а все ж приятнее, что есть помещения, куда чужому любопытный нос не сунуть. Вход в них, понятно, есть, только секретный. Одно неудобство! Папенька покойник, бывало, приказывал там походную кровать ставить, как в дурном расположении был. Один только раз эти горницы и пригодились, при Пугаче, да и то потому только, что у злобной той черни было с арифметикой худо.
Нужды нет, после этого разъяснения поиск тайной двери сделался для друзей делом чести! Пользуясь каждым часом невнимания взрослых, кидались искать. Искали выше тайных окон – в детских, искали ниже – в родительских покоях. Тайная дверь была упряма и не давалась.
«Баловством занимаемся, – изрек как-то Платоша, за обе щеки убирая необычайное лакомство – мороженое: у Медынцевых оно появилось к столу прежде других. – Так мы до старости будем искать».
«Раньше старости мне папенька и сам расскажет, – возразил Арсюша, не с меньшим усердием работая ложечкой».
«Ты что, не знаешь, взрослые нипочем не расскажут прежде, чем тебе перестанет быть нужну, – усмехнулся Сережа. – Так что все одно надо дальше искать».
«Вот и нет! – торжествующе возразил Платон. – Окна на том этаже такие ж чистые, как везде, верно? Стало быть, моют их в те же дни, что и прочие окна! Так вот, как начнут окна мыть, так и надобно будет проследить!»
Следить Арсюше пришлось в одиночестве: понятное дело, когда в дому затевалась уборка, гостей Медынцевы не зазывали.
Сперва удалось выяснить, что дверь должна находиться в библиотеке: зайдя туда с тряпками и тазами, горничная Татьянка загадочным образом исчезла. Но только недели через три Арсений умудрился затаиться за портьерами и дождаться, покуда та воротится. Татьянка появилась из-за углового шкапа, самого неинтересного из всех, со старыми лексиконами. Вот уж эврика так эврика! Арсюша изнывал три дни прежде, чем удалось с торжеством предъявить друзьям шкап, поворачивающийся вокруг оси.
С низкими потолками, кое-как убранные, но все одно нежилые помещения явились неизведанной страной, Новым Светом, куда высадился ликующий отряд исследователей. Тут уж стало ясным, куда делось раздражавшее Аглаю Ивановну чучело медведя: оно стояло в полный рост напротив тайного хода. Панна аж испугалась.
Немало находилось в горницах вещей, отживших свое, хоть зачастую и необветшалых. Так обнаружилась деревянная водилка на колесиках, предназначенная облегчать первые шаги младенца, изрядно похожая на клетку. Верно, лет тридцать не бывала она на ходу. Сперва придумали превратить ее в повозку. Панна, в двойном праве самой легкой и дамы, взбиралась на ее верх, меж тем как двое приятелей впрягались парой, а третий, вставши на нижнюю перекладину, изображал форейтора. Благо было где разогнаться: горницы шли по старинке анфиладою, словно нанизанные на стержень распахнутого дверного ряда. Кони ржали, форейтор выводил «пади», Панна визжала от восторга и испуги. Когда наскучило, Платон вообразил, что водилка скорей походит на осадную башню. Роль крепости выпала старому черному шкапу такому массивному, что гарнизон легко размещался на нем со всем необходимым боеприпасом и провиантом.
Ах, милое детство, когда не кочевали вдоль дорог синие травы, милые Камыши! Не этого дома молодой хозяйкою видела она себя в юных грезах! Дом в Липовицах реже всего наполнялся шумом их забав. Став старше, Прасковья поняла, что старшие Тугарины не то чтоб стыдились своей бедности, но несколько ею стеснялись, не созывали лишний раз гостей. Впрочем, годов с двенадцати друзья не связывали своих досугов с выездами родителей. Кленово Злато, Сабурово, Камыши, Липовицы – все сие было в досягаемости не то что хорошего наездника, но и хорошего ходока. Моду на пеший ход, в манере германских студиозов, одно время ввел Платон. С тонкой тростью, используемой не как трость, а как палка для ношения узелка, он исходил немало верст в округе. В узелке же содержались обыкновенно томик-другой госпожи Ратклиф, непременный Гёте, Оссиан и альбомчик в осьмушку листа для путевых зарисовок. На поясе – фляжка с зеленоватым мозелем, до которого он, впрочем, не был большим охотником, но не квасом же должен подкрепляться модный молодой человек, на ногах – башмаки вместо почти непременных бальных туфель, а на голове узкополая морильо (в качестве указания на приверженность консервативному курсу). Все ленты и кружева – в точности такие же, как и в гостиных, походной одежи Платон, к возмущению маменьки, не признавал.
«Перед кем ты хочешь красоваться в этих блондах? – недоумевала она. – Перед коровами или перед Игнатом-пастухом?»
«Провести время наедине с собою – лучшее из свиданий, которое посылает судьба, – не моргнув глазом, парировал Платон. – Как же я явлюсь на такую встречу не наряден?»
«Слыхала я об одном, что рехнулся, в зеркало глядючи, – вздыхала маменька Елена Кирилловна. – Ступай в чем хочешь, чтобы глаза мои на тебя не глядели!»
В рассуждении туалетов с маменькою копий было поломано немало. Про платья Панны она говаривала, что они годятся только для дам в тягости, особенно в сочетании с «ужасными» туфлями без каблуков. Первые же модные невыразимые Платона достались ему с боем.
«Я еще стерплю черный фрак, будто ты служишь в погребальной конторе, – сердилась она. – Но позволить тебе эти мужицкие белые портки навыпуск?! Уволь, друг мой, все решат, будто ты забыл надеть верхнее платье!»
«Все будут в том же! – чуть не плакал Платон. – И Арсений, и оба его младших брата, и Сергей, все!»
«Вот уж действительно все».
«Полно, Нелли, – благодушно вмешивался папенька. – Пусть Панна рядится древней гречанкою, а Платон погребальным мужиком, сие право младых годов. Вспомни себя – или мужской наряд на девице был уместнее?»
Относительно мужского наряда, папенька, надо думать, шутил. Но брат с сестрой были благодарны ему за то, что он имел привычку сводить к шутке нешуточные домашние баталии.
В те дни Филипп Антонович все реже выходил дальше парка и яблоневого сада. Вместо сюртука он начал облекаться в легкий атласный халат золотистого цвета, все чаще отдыхал на узкой кушетке в большой гостиной, а вокруг кушетки, словно бы сами по себе, стеснились шандалы, столик для журналей и газет, сонетка, маленькая этажерка для самых необходимых книг. Он был еще бодр, но, казалось, каждое новое известие о французских делах старит его на год. Начали ли они уже тогда утаивать от отца газеты? Нет, тогда еще нет.
«Платошка, ну какой из тебя Граф Черной Розы? – вздыхала маменька. – Негоже играть титулами, коих не имеешь, хоть бы и забавы ради! Разве ты граф? Ты самый обыкновенный нетитулованный дворянин».
Но имелась особая страна, где титул у Платона был. Летописями этой страны, стихотворными и прозаическими, написанными и нарисованными, полнились шкапы тайного этажа, тоже лет с двенадцати, когда он уже был отдан им на поток и разграбление. Да, таковой подарок был сделан Арсюше на тринадцатилетие: родители ведь давно уж приметили, куда дети повадились забираться. Страна же звалась Мерсией, и ею правил король Хрустальных Пещер. Королем был Арсюша, Сережа – Рыцарем Веспер, Вечерней Звезды. Панна же была Девой Озера и, соответственно, обитала под водой, во дворце из жемчуга и перламутра. В садах ее росли красные кораллы (вместо деревьев) и лиловые водоросли (вместо травы). Донные течения заменяли ветерок при прогулках, колебля волосы и одеяния.
Ах, милое отрочество, когда последнему из мертвых было уготовано достойное место на кладбище!
Отрочество оборвалось внезапно, словно чья-то злая рука вырвала множество еще не прочтенных страниц прекрасной книги. И трудно поверить, что не узнаешь, что там случилось дальше, куда пошли и что еще сделали персонажи. Никогда не узнаешь.
Так и не удалось прояснить, кто принес Филиппу Антоновичу убившую его газету. Она так и осталась зажатой в его руке, когда его нашли на кушетке в гостиной. Газета была в руке и сообщала о переправе через Неман. Французы пришли со Злом в Русскую землю. Сердце отца отказалось сие выдержать.
Похороны прошли второпях. Дядя Роман, Платоша, Арсюша с братьями, Сережа Тугарин – все торопились по своим частям. Разъехались прямо с поминального обеда, не остались даже ночевать. Прасковья с Еленой Кирилловной остались одне: горе переплелось со жгучей тревогой. Матери и дочери казалось порой, что они сами умерли – такой пустотой звенел дом, три дни назад полный мужчин.
Ах, проклятая юность, хоть бы ты забылась вовсе как сонный кошмар! Проклятая весна, когда нельзя было проехать большою дорогой, не поравнявшись ни разу с божедомами, что рыли могильные ямы для тлеющих вдоль обочин останков. Французы и осенью отчего-то хоронили своих мертвецов по обочинам, но, когда ударил мороз, начали просто бросать мертвецов вдоль дорог. Иные складывали из окоченевших трупов своих соратников нечто вроде хижин, чтоб теплее было ночевать. Первая увиденная Прасковьей такая хижина, где человеческие тела заменяли бревна, долго мучила ее, стояла перед глазами в бессонные ночи.
А потом, когда пришел сияющий май, из неприметных холмиков вдоль дорог полезли синие травы. В сих ядовитых травах заблудилась ее юность.
Прасковья Филипповна устало сняла заляпанные красками блузу и чепец, вновь вышла на балкон. Сад, безлюдный, разомлевший на солнце, заросший, дремал. Дремал и деревянный дом с античным портиком из белёных бревен, с выпиленными из дерева узорами, изображающими лепнину. Дремал пруд, дремали сиреневые кусты, разросшиеся в настоящие деревья, дремали липы, дремала дорога, огибающая холм. А по дороге, единственной движущейся точкой средь спящего пространства, несся к дому всадник, которого она менее всего ждала бы здесь увидеть.