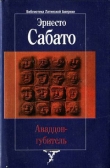Текст книги "Декабрь без Рождества"
Автор книги: Елена Чудинова
Жанр:
Ужасы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 25 страниц)
Глава XXIII
– Нике!! Нике! – взволнованно воскликнула Императрица, выбегая из передней в сени Салтыковского подъезда. Маленький Александр Николаевич следовал за нею, один из детей: за графом Толстым прислали с полчаса тому из дому, Марию Николаевну уложили спать. С Наследником же совладать не удалось – он желал дождаться отца. – Нике, благодарение Господу! Ты с нами! Ты живой!
– Ну что, Ваше Высочество? Сашка, ты хоть слушался маменьку? – рассмеявшись от облегчения при виде родных лиц, Николай Павлович разом заключил в объятия жену и сына.
Платону Филипповичу, наблюдавшему семейную встречу в почтительном расстоянии дюжины шагов, показалось, что за минувшую половину суток Император постарел лет на пять. Дворец покидал молодой человек, воротился назад зрелый мужчина. Впрочем, не придумывает ли он, как всегда? Просто смертельно усталое лицо, да и мудрено не устать до смерти в эдакой день.
– Папенька! А у нас саперы! Они пришли вперед мятежников! Они никого не пустили!
– Вот как, саперы? – Мучительному чувству вины еще предстояло терзать Императора в ночные часы: как допустил он, что семья оказалась почти открыта ввиду вооруженных бунтовщиков?! Сейчас он не хотел о том думать, мог позволить себе отдалить муки раскаянья. – Ну, так пойдем, поблагодарим саперов! Пустое, не ищи шинель, ты и в сюртуке не успеешь простыть!
В восторге ухватившись за отцовскую руку, Александр Николаевич устремился за ним во внутренний двор.
Особое положение еще не стерло своих примет. То там, то здесь горели в темноте разложенные прямо на булыжнике костры, кто-то грел руки, засовывая их почти в самое пламя, кто-то пил из манерки вынесенный с кухни ром…
Гомон, стоявший над почти тысячною толпою, мгновенно стих.
– Здравия желаем, Ваше Императорское Величество!! – оглушительно прокатилось над двором.
– Солдаты!! – возвысил голос Николай Павлович. Странное, вдохновенное наитие владело им. Подхватив сына подмышки, он высоко поднял мальчика над головою. – Солдаты! Верные мои! Вот, кого спасли вы для меня и для Отечества!
В обе щеки расцеловав ребенка, Николай Павлович протянул его ближнему солдату.
Охнув от неожиданности, старый служака бережно, будто к иконе, приложился к нежной детской щеке.
Мальчика передавали из рук в руки, как передают на пожаре бадейку с водой. Пропахшие табаком солдатские усы смешно щекотали лицо. Эти колючие табачные поцелуи, о чем не ведал еще Александр Николаевич, запоминались на всю жизнь. До страшного смертного часа им суждено греть сердце. Довольный всеобщим вниманием, взволнованный перенятыми от отца чувствами, ребенок раскраснелся от возбуждения.
– Он вырастет надеждою православного мира, – сказал Императрице Платон Филиппович.
– А будет ли счастлив? Просто счастлив? – негромко ответила молодая женщина. – Что за странная судьба у моего Сашеньки, что так рано узнал он ужас смуты!
Отблески костров скользили в темноте по ее лицу словно красные тени неизбытой тревоги. Сердце Платона Филипповича болезненно сжалось.
– Зато взрослая его жизнь будет покойнее, – уверенно солгал он. На душе было совсем иное.
– Дай-то Господь.
Она не поверила. Платон и не ожидал, что она поверит.
Глава XXIV
– И вы, отец, в самом деле верите, будто матери наши в нежном отрочестве сражались с демонами?
– Мы крестьяне, люди простые. – Аббат Морван расколол серебряными щипцами грецкий орех. – Так что да. Вполне верю.
Ввиду того, что и Платон Филиппович, и Ольга Евгеньевна полагали более здоровым для детей жить в деревне (во всяком случае, покуда не придет время вывозить Соломонию), квартира Роскофа была до смешного невелика: кабинет, всего одна гостиная, столовая, спальня с боскетной, словом, как сказали бы англичане – кошку повесить негде. Не было ни кухни, ни комнаты для гостей. В краткие наезды в столицу Роскофы предпочитали отель, а обеды Платон Филипповичу в обычные дни приносили от Талона. Одна беда, от столичных рестораторов не дождешься постного обеда. Платон Филиппович попросту обходился в посты тельным, немного лукаво почитая пребывание в Санкт-Петербурге путешествием.
Подавали рыбу и на сей раз. Впрочем, рыбные приборы Захар, единственный лакей, уже унес, а на столе красовалась на зеркальной поверхности красного дерева (скатертей Платон Филиппович не любил) бутылка старого портвейна.
– Весьма недурное вино, – Ференц Тёкёли отхлебнул глоток и немного помолчал, наслаждаясь послевкусием. – А я вырос на Балканах. Сие способствует убеждению в материальной сущности нечисти всякого рода. Частенько мать мне говаривала в детстве про кого-нибудь из знакомых мальчиков «Очень-то не дружись с ним, дед его был вампир!» Я всегда ей верил.
– Как жаль, что с вашей матерью я знаком не был, – вздохнул Роскоф. – Не бывшего всегда жаль особенно.
– Она всегда знала самые невероятные вещи. За два дня до смерти так и сказала «Я ухожу первая из трех». Я даже вопросом не задался о том, откуда она знает, что подруги живы и благополучны. У меня есть время до отъезда. Вы представите меня вашей матери?
– Буду рад, – Платон Филиппович полюбовался немного тем, как играют в темном вине отражения свечей. – Как раз хотел бы я съездить к себе в Кленово Злато, а по дороге заехать ее навестить. Я чаю, она истревожилась без известий. Уж, не сомневаюсь, дошло до монастыря, что в столице был мятеж. Надобно успокоить маменьку. Право, господа, отдохнем хоть неделю-другую в монастыре да в Кленовом Злате. Все одно то, что теперь надобно разгрести в столице, дядя мой Сабуров сладит и один.
– Один, тогда как надобно целое учреждение, – нахмурился аббат Морван. – Как получилось, что вы, имея все же какие-то полномочия, допустили вспыхнуть мятежу?
– У Сабурова ограничений было вдвое больше, чем полномочий, – с досадой отвечал Роскоф. – Похоже, бутовщикам сам нечистый ворожил, такое стеченье обстоятельств работало на них. И своеволие гвардейское, и дурной нрав Цесаревича, и то, что Воинство впервые за сотни лет отдалилось от России… А главное то, что в разъеденной масонством армии никому нельзя было наверное доверять. Но вдругорядь все будет по-иному. На трон взошел деятельный и молодой монарх. Убежден, при нем Сабуров развернется. А я… я, с позволения сказать, свернусь. Хочется мне страх перевести на русский язык Шатобриана. Все времени недоставало.
– О, «Гений христианства» – книга презанимательная, – понимающе улыбнулся Морван. – Однако не слишком ли вы спешите обратиться к мирным трудам? Уголья пожара еще дымятся.
– Нужды нет, – отмахнулся Роскоф. – Знали б вы, отец, сколь раздирающе жалкими предстают сейчас мятежники! Двух суток не прошло, как начали они громко каяться и выдавать сообщников. Десять дней миновало, а они все строчат, строчат с плеча и без оглядки. Доходит до смешного, когда б не хотелось лить слезы. Некий Якубович, что должен был вести мятежных на Зимний дворец, хотел оправдаться перед преступными своими товарищами, что не сделал сего. И, надобно сказать, замыслил хитро. Он приметил, что газеты и книжки журналов, приносимые ему, иной раз уже помяты, и понял – каждый экземпляр путешествует по всем камерам. Тогда он булавкою между строк наколол в журнале небольшое послание. За ним книжка очутилась у убийцы, у Каховского. И что сделал сей молодчик? Тут же предъявил сие послание надзирателю! Можно подумать, их пытает кто-нибудь чудовищными пытками! Страшно, действительно страшно! Некоего Богдановича не успели арестовать – он перерезал себе горло бритвою. А один несчастный, Булатов, не столь уж и виновный, совершил самоубийство еще более ужасающее. Расколотил голову свою о стены камеры. Зрелище было жуткое, даже Романа проняло. Герой войны, отец двух маленьких дочерей. Уверен, его ждало единственно помилование.
– Самоубийств следовало ждать, – мрачно заметил аббат Морван. – Самоубийство и одержимость идут рука об руку. Несчастный! Но между тем зачем оказалась в руках у того Якубовича булавка?
– Вы говорите то же, что и Роман, – усмехнулся Роскоф.
– А вы не запамятовали, кто меня воспитывал? – улыбнулся иезуит. – Мать не раз говорила, что дедушка Монсеньор почитал Романа Сабурова за родного внука.
– Вам повезло больше нас, отец, – заметил Тёкёли. – Нам так не посчастливилось повидать Антуана де Роскофа.
– Разве что… – Платон Филиппович оборвал сам себя. – Что же, друзья мои, решено с нашей поездкою в Кленово Злато? Жена моя и дети будут рады. Как раз нужно мне забрать их из монастыря. А Роман пусть ловит Кюхельбекера, убийцу несостоявшегося.
– Кому-то удалось бежать?
– Ну да, одному, и, конечно же, в Польшу. Ну да сие вопрос дней. Мятеж разгромлен, – Роскоф невесело вздохнул. – Завтра Рождество. А на душе безрадостно. Чувство такое, будто в нынешнюю зиму Господь наш не родится на свет. Разве заслужила Его рождение страна, что едва не восстала на священный институт монархии?
– Декабрь без Рождества? – Филипп Морван легко поднялся и подошел к темному окну. – Да сохранит нас от такого Господь! Киньте грусть, Платон де Роскоф. Гляньте, какой щедрый кружевной снег нисходит с Небес. Он убелит наши грехи. Рождество будет.
Глава XXV
В просторном кабинете было тепло. Китайский экран светился так ярко, что фигурки двух красавиц, переходящих ручей через горбатый мостик, перекинутый меж берегами, заросшими цветущими вишнями, колеблясь, отражались в вощеном паркете.
– А, я тебя ждал.
Слова молодого Императора прозвучали сердечно и спокойно, однако ж человек приметливый смог бы разглядеть за этим спокойным радушием немалое напряжение. А приметливости вошедшему было не занимать стать.
– Ждали, Ваше Императорское Величество? – глухо спросил Роман Сабуров. – Выходит, мне не примерещилось с похмелья…
– Нет, Сабуров, не примерещилось. – Николай Павлович вздохнул. – Я знал, что ты будешь в ярости. Однако я действительно приказал свернуть еще три десятка дел.
– Вдогонку к той полусотне, что было закрыто на прошлой неделе, – присовокупил Роман Кириллович. – Что происходит, Государь?
– Я чаю, ты и сам все понял. – Император посмотрел на Сабурова со странным состраданием. – Но надобно же отделить отпетых злодеев от случайных, того простая справедливость просит. Возьмем, например, Кавелина, разве он законченный мерзавец? Малого заморочили, с кем не бывает… Поумней его люди попадаются.
– Кавелин – куда ни шло, переметнулся вовремя, когда нам каждый человек был дорог. Но Годеин, Государь, Годеин! Оба ваши адъютанта – предатели. Люди, преломлявшие с вами хлеб, вхожие в вашу семью…
– Я приказал оставить без внимания. Теперь пусть служат правдою и верой.
– Закрывая их дела, мы обрубаем настоящее расследование по делу лейтенанта Завалишина. А он мне надобен, Государь, ох, как он мне надобен. Без Завалишина мне не ущучить Трубецкого в заграничных и масонских корнях заговора. Закрытие дел Годеина и Кавелина повлечет приостановление расследования, а заодно высвободит шеи Завалишина и Трубецкого из петли.
– Да пусть их живут.
– Право? – Роман Кириллович сердито полез в карманы, извлек одну из многочисленных записок. – «Прекрасно выдумал мой знакомый господин Оржинский: сделать виселицу, первым повесить Государя, а там к ногам его и братьев!» Смотрите, еще и поляки замешались, мало нам масонов. Вот, что думал об участи Вашей сей Завалишин.
– И ты хочешь, чтоб я ему уподобился? Что нам теперь до мелкого самолюбия мелкого человечка, Сабуров? С Трубецкого, конечно, спрос будет больший, он выше летал, куда как выше.
– Но Сперанский, Ваше Императорское Величество? Вот уж кто был высоко! Заговорщики строили планы на его участие в их правлении. Он не мог быть вовсе в стороне.
– Да и не был, похоже. Просто норовил duabus sedere sellis. [55]55
Усидеть на двух стульях (лат.).
[Закрыть]Глядел, чья возьмет, чтоб в любом случае остаться во власти.
– Государь! Не хотите же вы, знаючи сие, вправду его оставить?
– У Сперанского был свой резон, Сабуров. Люди, ему подобные, способны принести пользу даже при самых безумных правителях. Ну, коли бы я пропал, выиграла б Россия, пропади он со мною вместе? – По губам Николая Павловича скользнула мальчишеская улыбка. – Отец его был священником в Черкутине. Ты подумай сам, сколько грехов он за свою жизнь отпустил русским людям? Хоть о том в память, один-единственный грех сыну и мы простить можем.
Роман Кириллович не принял шутки, не улыбнулся в ответ.
– Некоторые нити ведут к Ермолову. А мы их обрываем. Сами.
– Так это же Ермолов. Ермолова трогать никак нельзя, сие не имя – легенда. К тому ж, Сабуров, тут, сам, поди, лучше моего знаешь, велика вероятность, что и вовсе он не виновен. Может статься, им лишь прикрывался Якубович.
– Но ведь хотелось бы наверное знать! Опять обрываем.
– Я лично повелел.
Сабуров неприятно скрипнул зубами. Гнев метался в его душе, как зверь в клетке. Дабы кинуть ему кость, Роман Кириллович оборотился от серьезных фигур к особе второй, если не третьей важности.
– А тот почему еще на свободе, Алексей Пушкин?
– Александр, – негромко поправил Император.
– Да по мне хоть Пахом, – огрызнулся Сабуров. – Противу молодчика целый воз показаний соучастников.
– Не так уж и много… теперь, – Николай отчего-то кинул беглый взгляд в сторону камина, [56]56
По воле ЕИВ действительно были изъяты из десятков дел и сожжены бумаги, касающиеся А. С. Пушкина.
[Закрыть]дотлевавшего уже, судя по тому, что экран с китаянками светился теперь совсем не ярко.
– Государь… – Сабуров, перехвативший взгляд Императора, взглянул на него так, словно был только что контужен.
– Ты не читал его? Это русский Шекспир, это вершина, выше коей наша литература не поднимется никогда. Да стихи Александра Пушкина…
– Стихи?! – Сабуров побледнел. – Ваше Императорское Величество… Вы это что, вы это серьезно, или с кудрявого дуба упали? Судьба Империи на чаше весов, а вы о каких-то стишках?! Он виновен по самую маковку, этот Алексей…
– Александр, – отчеканил Николай Павлович. – Вот ты теперь его имя запомнить не можешь, а между тем оно будет у школяров от зубов отскакивать в те времена, когда тебя будут помнить только прямые потомки, а меня те же школяры начнут путать нумером с более поздним тезкой, либо считать сыном своего брата.
– Да слыхал я, что из Пушкина этого студиозусы да другие писаки уж сейчас кумир вылепили. Читывал и сам, хорошо пишет, звучно, четко. Только оно тем и хуже, Государь. Уж коли мы о литературе сейчас речь ведем, коли, стало быть, больших забот у нас нету, так позволю заметить, что через стихи и смута легче от человека к человеку перекидывается, нежели через философические трактаты. Стишок любой безусый ментик, сроду двух страниц не прочитавший кряду, запомнит, чтоб на пирушке покрасоваться. Что он еще понапишет, с изменою-то в голове, вы о том думаете?
– Я сам буду его цензором! – Теперь был уже бледен и Император. – Я буду говорить с ним… Он ведь не таков, как те, он не маниак, жаждущий власти и крови! Он о России страждет! И слава ему едва ли иная надобна, чем та, что есть, благородная слава литератора… В стороне от смутьянов он протрезвеет, нужды нет.
– И как же Ваше Императорское Величество намерены оградить сего стихотворца от смутьянов? – Сабуров скрипнул зубами. – Вы думаете, довольно арестовать сотню, да полудюжину вздернуть?! Да оборотитесь на соперницу нашу, на Британию! Заговор Като-стрит, там ведь вообще пустяк был, дальше пустой болтовни не шло! А какое следствие велось, никому мало не показалось! Ваше Величество, умоляю вас, одумайтесь! Измена – сорняк, который надлежит полоть с корнями, иначе и смысла нету делать себе труд. После нас все опять зарастет, а может и ранее. Государь, неужто уже забыли вы, как трепетали за жизнь маленького Александра? Божье чудо вмешалось, дабы он не повторил участи дофина. Но не можем же мы все время ждать чудес. Государь, Бог с ним, с вашим Пушкиным, дайте мне возможность всерьез перетрясти остальных.
– А что мне прикажешь делать, Сабуров, коли французский казус никому в России мозгов на место не вставил?!
Стороннему наблюдателю не могло бы не показаться удивительным сходство этих двоих, молодого и постарше. Они стояли друг перед другом, оба рослые, кудряво златоволосые и ярко синеглазые, с красивыми правильными лицами. Казалось, каждый смотрит в зеркало собственного гнева.
– Повергнуть ли мне всю Россию в горе и трепет? – продолжал Император. – Едва ль сыщется дюжина среди лучших семей без единого сына в той либо иной приближенности к мятежу. Я что, Буонапарте для своего народа, Сабуров?!
– Не время для милосердия. Не время и не место.
– Когда милосердию есть место в сердце, для него всегда время.
– Ваше Императорское Величество, мы не пред гишториками теперь говорим. И не то они напишут о Вашем Величестве, когда вы явите теперь мягкость.
– Да пусть пишут, что им заблагорассудится. На гишториков мне наплевать, Сабуров. Я не пойду поперек себя. Отступись, довольно арестов, довольно следствия.
– Это окончательное решенье Вашего Императорского Величества? – Роман Кириллович сделался теперь на удивленье покоен. Дыхание его выровнялось.
– Это моя воля.
– Государь, благоволите принять мое покорнейшее прошение об отставке.
– Это окончательное твое решенье, Сабуров? – Николай Павлович отступил на несколько шагов и повернулся к подернутому ледяными узорами окну.
– Вы меня неволите к нему.
– Ты рубишь сгоряча, – Император глядел теперь не на Сабурова, а в синюю предрассветную тьму. – Кто у меня есть, кроме тебя да Роскофа?
– Роскоф пусть за себя думает сам, а я не стану работать с привязанной за спину правой рукой.
– Что ж, вольному воля. – Теперь лицо Николая Павловича не казалось красиво: осунувшееся, с ввалившимися глазами. Безмерная усталость, безмерное напряжение последних месяцев проступили в нем. – Вот, что я скажу тебе, Сабуров. Я не стану дарить тебя ни чинами, ни наградами. Такую преданность, такие заслуги царям земным награждать нечем.
– Ну, положим, одной награды я бы все ж попросил, – Роман Кириллович улыбнулся.
– Какой же?
– Государь, запретите масонские ложи.
– Считай, что это уж сделано. Я исправлю братнюю ошибку. Все станет как при моей бабке.
– Аракчеев замешан в заговоре.
– Не станем трогать того, кем дорожили, быть может, ошибочно, отец и брат. Но обещаю тебе, случай для него кончился.
– Вы не забудете, что иезуиты помогали нам?
– Нет, не забуду. Но речь о тебе, Сабуров. О тебе, не об иезуитах и не о франкмасонах. Запомни одно: твоему возвращению я всегда буду рад. Хоть через десять лет, хоть через двадцать, ежели Господу будет угодно даровать нам столь долгие годы.
– Я запомнил, Государь.
– И то ладно. Спасибо, хоть на Кавказ не просишься мне назло.
– Да какой еще Кавказ, терпеть его не могу! – На сей раз Сабуров рассмеялся. – Сакли, аулы, абреки, девы с кувшинами. Нет уж, весь этот романтизм не по мне.
– А что делать станешь?
– Имением давно заняться пора. Дом ветшает без хозяйского призора. А заодно и женюсь. Тоже давно пора, отгулял свое.
– И уж есть кто на примете?
– Есть.
– Коли так, то и удерживать тебя грех! Прости меня, не слуга, а верный друг мой. Зря говорят, будто двух правд в одном споре не бывает. Потому нам и нельзя согласиться теперь, что мы правы оба. Э, да что там! Прощай!
Суверен и подданный раскрыли друг другу объятия. Объятия боевых товарищей, крепче которых нет в этой жизни ничего.
После ухода Сабурова Николай Павлович долго еще смотрел в окно. Светлело. Уж слышалась отовсюду барабанная побудка.
– Дай тебе Бог счастья с молодой женой, – негромко молвил Николай Павлович. – Только долго ли ты усидишь в сельской тиши?
ЭПИЛОГ
– Вот уж веселились поставщики, глядя на адрес, по коему надлежит прислать заказ, – улыбнулась мать Евдоксия.
Луша прыснула.
Покои настоятельницы и впрямь являли самый необычный вид. На полу и креслах в беспорядке громоздились короба из веселого глянцевого картона, сугробами лежали вороха шелковистой упаковочной бумаги. Всего более приковывало взгляд выпорхнувшее из этих коконов атласное платье. Жемчужно-серое, с вновь вошедшей в моду баской, вроде бы скромное, платье было шедевром портновского мастерства.
– Она права, спору нет. Второй раз под венец, да уж не в самые юные лета – надобно понеприметнее. Однако знаю я Прасковью, ей волю дай, дома сошьет с девками. Не любит на себя деньги тратить. Так что без нашего с тобою вмешательства никак. – Мать Евдоксия придирчиво разглядывала пару кружевных перчаток – столь тонких, что их можно было бы пропустить через кольцо. Обручальное кольцо. – Вот уж тебя будем выдавать, так тут разгуляемся. Нынче в моду начал входить, пишут, fleur d'orange. А платье к нему белое.
Мать Евдоксия искоса взглянула на воспитанницу. Луша, само собою, залилась румянцем, но уже то говорило многое, что не последовало гневных возражений.
Вместо этого девушка подошла к креслу игуменьи и, подобрав подол, уселась перед ним прямо на пол.
– Как же я люблю вас, матушка! – Следуя сердечному порыву, она уткнулась лицом в колени своей собеседницы.
– Именно потому из тебя монахини и не выйдет, – мать Евдоксия ласково провела рукою по льняным волосам. – Удержу ты не знаешь в своих симпатиях да антипатиях, Лукерья. Уж умолчу о том, что симпатии твои иной раз трудно отличить от антипатий.
– Как же мне себя удержать, когда речь идет о вас? – Луша подняла лицо. – Разве не вы пробудили во мне главное – мысль? Разве не вы обрисовали контуры самой моей личности? Разве не вы являете собою совершенный пример для меня – в каждом вашем шаге? Разве не вы притом навсегда останетесь для меня самой непостижимой загадкою? Я люблю вас, как же я вас люблю!
– Не стану обижать тебя словами, что подобные чувства вообще присущи девицам, покуда не изольются в естественное русло, обратившись на мужа и детей. С тобою сие впрямь не совсем так. Немало вложила я в тебя своей души, уж не знаю, стоит ли за то благодарить. Но знаю, ежели я не успею, ты тем же отплатишь Соломонии.
Девушка ни словом не выдала, что слова эти для нее тяжелы.
– В том, матушка, можете быть уверены.
– А я и уверена. – Мягко отстранив девушку, мать Евдоксия поднялась, подошла к окну. – Свадьба Прасковьи с Медынцевым назначена на Красную горку. Не странно ли, что обычная наша, милая и мирная жизнь вновь заявляет свои права? Словно ничего и не было. Как же счастливы должны быть люди, и сколь мало ценят они свое счастье!
Мартовский ветер гонял в окне голые черные ветви. Но снега уж не было: земля лежала стылая, голая, словно бы и не сулящая никакой надежды на скорую радостную траву. Но по солнцу, не торопящемуся уйти, приближение весны все ж ощущалось.
– Вы революцию во Франции вспоминаете? Террор? Разоренье Божьих храмов, поругание святынь?
Луша не дождалась ответа, да и не ждала его. Мать Евдоксия молча глядела в окно.
– Как же я их ненавижу! – пылко воскликнула девушка. – Ведь должны были понять, во что ввергают Отечество!
– Прощения им нет, но как раз потому они нуждаются не в ненависти твоей, а в твоих молитвах. Нужды нет, они заслужили то, что претерпевают теперь – узилище и все то тяжкое, что с заточением связано. Нынешние страдания их несомненны. Поверь, легко жалеть тех, чьи чудовищные помыслы провалились!
– А вы ведь все одно не расскажете, матушка, что вы во время мятежа делали в столице?
– Да подумай сама, – мать Евдоксия взялась теперь за приготовленную для дочери кружевную шаль. – Ну что я могла там делать такого особенного? Сочти, что, хоть оно и неумно, просто хотелось мне в дни тревог быть поближе к Платону и Роману. Кстати, не знаешь ли случайно, Роман Кириллович приедет на этих днях?
Уловка не сработала.
– Ох, и не верю же я вам, матушка! – улыбнулась девушка, бережно укладывая тончайшие перчатки в предназначенный для них отдельно заказанный футляр. – Простите меня, грешную. А что до Романа Кирилловича, так вроде бы на грядущей неделе обещался. Как же я хотела бы знать, что на самом-то деле было!
Ну, уж оно и вовсе ни к чему, дорогое дитя, подумала мать Евдоксия. Ты и без того меня всю в романтические покрывала задрапировала, а все мои хождения по казармам и так выглядят со стороны как какое-то геройство. Поди объясни, что в действительности было это просто мучительное напряжение души, слабая надежда, что Господь поможет там, где недостает собственных жалких сил…
И ведь Отец Небесный вправду помог…
Впрочем, надо сказать, что с солдатом, у кого живая вера в сердце есть, хоть неуклюжая, хоть неразвитая, но незамутненная, с солдатом и легче говорить…
И она говорила. О да, говорила!
Мать Евдоксия ощутила вдруг, что ступням холодно. Ноги, обутые в домашние и такие теплые войлочные туфельки, вдруг вспомнили, как стыли в башмаках по дороге в казармы. Мороз пронимал тогда до костей. Или то леденящее было чем-то худшим, чем простое дыхание зимы?
– Скажи, служивый, не приходило ль к вам господ, военных и штатских, что зовут идти бунтовать противу Императора Николай Павловича?
– Не было таких, матушка, – в лице бывалого солдата проступило удивление.
– Так они придут, придут не с часу на час, но с минуты на минуту. Придут и скажут, что Николай Павлович – злодей своему брату, что он в каземат бросил Цесаревича…
– А такое поговаривают… Кто ж разберет, где правда? Нешто ты, матушка, ее знать можешь?
– Ее знает Господь, Который послал меня упредить вас, – голос Елены Роскофой, голос матери Евдоксии, возвысился, борясь с ледяным мертвым ветром. – Ссорятся братья либо мирятся, они не враги и не убийцы друг другу! Они друг другу даже не воры!
– Послушай-ка, Филат, что говорит монашенка! Право, послушай, ведь как раз вчера толк шел…
– И я тому толку верю! – задиристо вмешался щербатый Филат. – Нашел, брат, кого слушать, монашенок! Вот ответь-то, сестра, коли неправда, что Константин Палыча обошли, так кто ж стал бы за него заступаться? Ясен ведь день, кто за Константина, тот Константина и хочет в цари! Ежели тот по-хорошему от царства отказывается, да на трон не идет, из чего тогда врать? За кого тогда подниматься? Раз люди подымаются, значит есть за кого!
– Изрядный из тебя логик, Филат.
– Обзываться-то духовной особе не пристало!
– Я не обзываюсь, я хвалю. Толковый ты малый. Только вот что, ребятушки, сперва пустите меня к печке, да угостите хоть кипяточком! А там и растолкую, в чем наш Филат промахнулся.
– И то верно, ты уж синяя вся! Чего там кипятка, не пожалеем и чаю щепотки. А то рома капнуть можно, али ром непозволителен?
– Очень даже позволителен в эдакую пору.
Лед был сломан. Вынудив солдат проявить гостеприимство, Елена Кирилловна ждала теперь от них большего внимания и большей сердечности.
– Кто из вас, служивые, французов воевал? Кто Францию, пустую да разоренную, помнит?
От подола шел пар. Печные кирпичи источали доброе тепло. Елена грела руки, усевшись на полене. Солдаты потихоньку стянулись вокруг нее в кружок, словно дети вокруг матери, посулившей сказку.
Как объяснить неразвитому уму суть утопических прожектов? Как обосновать кровавую неизбежность красного террора? Да еще притом памятуя, что темных этих утренних минут совсем мало. И враги нагрянут с минуты на минуту, и надобно еще попытаться успеть в Финляндские казармы (о положении дел в прочих Жарптицын не знал). Как справиться с этим?
Ответ пришел сам. Платон и Панна были когда-то малы. А ведь объяснять приходилось многое, в том числе и непростое. Просто, подбирая слова, помнить своих детей малыми. И тогда все сладится.
– Не крушись, сестрица, – молвил один из солдат, заботливо вороша угли. – На разбойное дело не пойдем.
– А коли позовут вас на него свои же офицеры?
И снова молчание, опасное, томительное.
– Боевых отцов солдатских среди них нету, – наконец веско вымолвил один из ветеранов.
– Коли слова не удержите, я первая узнаю, – грустно сказала мать Евдоксия.
– Как тебя велишь понимать? – что-то в ее голосе насторожило солдат.
– А я там буду. Буду, и молю Господа, чтоб, коли пуля полетит в Николая Павловича, мне оказаться рядом, успеть закрыть его, нашу надежду, наш завтрашний день. Так что, коли Всевышний слышит мои молитвы, первая пуля мятежная будет в меня.
В лицах обступивших ее на выходе измайловцев она крупными буквами прочла свою победу.
– Брось, сестрица, не ходи никуда, женское ли дело?
– Когда мужчины безумны, все – женское дело.
Солдаты расступились перед нею.
А после была открытая всем ветрам площадь, движенье сил, своих и мятежных, карей… Был Милорадович, была голубая его лента, обагрившаяся кровью…
Недалеко от Государя, в праздной толпе стояла Елена Роскофа, не выпуская четок из рук… Конечно, ни Платон, ни Роман не заметили ее, не заметили единственно потому, что никак не могли ожидать увидеть. Словно декабрьская стужа выстудила из сердца мучительный страх за обоих: Елена его не испытывала.
Понятно, что ничем она не выдала своего присутствия. Оно бы только помешало безо всякой пользы.
Итак, чему была ты свидетельницей, Елена Роскофа? Свидетельницей ни много ни мало того, как чуть не погибла Россия. Гибель Франции тебе в молодости довелось узреть. Немало же выпало тебе увидеть своими глазами… Немало страшного, слишком уж страшного… Нет покоя на душе и сейчас. Грядущее темно. Что-то идет на ум славный Петя Жарптицын. Сколько их, таких Петенек, Сашенек, Алеш… Заложники безграмотных энциклопедий, легкая добыча всякого, кто вновь захочет расшатывать священные устои монархии, бесхитростные носители болезни, что дремлет в прекрасном теле древней Европы… Но в русском члене Европы революция страшней всего. Франция, быть может, еще оправится, Россия, неизлечившаяся до конца от азиатчины, сгорела бы в огне новой беды дотла.
– Матушка! – испуганно прозвучал, словно бы издалека, голос Луши. – Пятничную почту принесли, прикажете отложить покуда?
– Ну я и растеклась мыслию по древу! Дитя мое, который теперь час – уж, поди, скоро на вечерню?
– Четыре часа, Матушка, целый час вам до вечерни отдохнуть! Так что с письмами? Мать Наталия спрашивает, чтоб не подниматься зряшно.
– Пусть несет, разберу. Как раз за час и успею. Что-то я, Лукерья, ленива сделалась. Перед утреней уж отдохну.
– Мать Наталия, мать Наталия! – звонко позвала Луша в открытую дверь. – Несите письма-то, матушка благословила!
Келейница, по старчески шаркая туфлями, внесла серебряный поднос.
– Спаси Господи, мать Наталия. Ступай-ко ты до вечерни прилечь. И ты, Лукерья, свободна, покупки завтра с утра доразберем.
– Что-то мне тревожно вас оставлять, матушка! – девушка, испросив благословения, пылко поцеловала руку Елены Кирилловны, на мгновение прижалась к ней упругой юной щекой.
– Вот еще глупости, что со мною может случиться? Ступай, дитя мое, ступай с Богом.
Луша нехотя вышла вслед за матерью Наталией.
Ну да, как и следовало ожидать, счета из модных лавок. А все ж удивительно, с какой быстротой они прилетели вслед за покупками! Вот он, ювелир, а тут и платье, и белье… Только перчаточник не проявил отчего-то прыти. Ну да ладно, завтра всем все вышлем. А это еще что, экий толстый сверток!