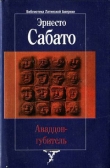Текст книги "Декабрь без Рождества"
Автор книги: Елена Чудинова
Жанр:
Ужасы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 25 страниц)
Елена подошла и взяла со столешницы уже прочтенный им лист.
Бесконечно долго, как ей показалось, глаза ее скользили по словам, значение коих отказывался воспринять разум.
«Император… ищет союза с Бонапарте? – наконец выговорила она. – Так он вправду безумен?»
«Что самое прискорбное, в человеческом понимании прожект Ростопчина разумен вполне, – ответил отец Иларион, покуда Филипп продолжал чтение. – В объединении Франции и России – немало практических выгод. Для мировой политики не важно то, что единственно важно для нас: помазанник Божий готов встать на одну доску с кровавым самозванцем. Но ищущие суетных выгод всегда дивятся, когда попранное ими Божественное установление жестоко мстит».
В дверь просунулось разрумянившееся личико Платона. Волосы, спадающие на лоб, были мокры, равно как и обшлага. Было заметно, что приказание привести себя в порядок ради гостя он выполнил с неподдельным рачением. Не сумев встретиться глазами с отцом, мальчик в нерешительности замешкался.
Елена кивнула ребенку. Всегда блюлось в их семье давнее поучение матери Евдоксии, пересказанное ей когда-то Парашей. «За глупость почитаю скрывать важное от детей, – сказала она тогда. – Под видом важного обыкновенно таят стыдное. Страшное же и сложное идет ко дну памяти, не задев разума. Какому волнению суждено спустя годы поднять сей груз?»
Порыв ветра, холодного, скорей довлеющего не началу сентября, но дальнему ноябрю, ненадолго пробудил Елену от грез. Слова матери Евдоксии всегда были вески в их семействе, чем дале, тем больше, когда уж самое Елена стала посещать обитель. А вот теперь – она и есть мать Евдоксия, она и есть игуменья. Странен свычай в Зачатьевском монастыре, чтоб игуменья всегда брала имя предшественницы. Нигде боле она с подобным не сталкивалась. Надо бы, ох надо бы покопаться в архивах, должно ведь тому быть объяснение, возможно, очень давнее. Как же далеки те дни! Но отчего так хорошо помнятся ей все тончайшие оттенки тогдашних чувств, хотя бы то, как отрадно было ей глядеть на детей, словно были они веселыми маленькими якорями, удерживающими ее в бушующем море безумия.
«…тогда Россия и XIX век достойно возгордятся царствованием Вашего Императорского Величества, соединившего воедино престолы Петра и Константина, двух великих государей, основателей знатнейших империй мира, – с горечью прочел Филипп».
«Рукою ЕИВ под сим добавлено: „А меня все равно ругать будут“ – бесстрастно сообщила в скобках рука переписчика, когда Елена приняла последний лист из руки мужа».
«Всегда был я убежден, что не найдется того русского, что согласился б сесть за один стол с вором и катом, с Бонапарте, – с горечью продолжил Филипп. – И вот таковой нашелся: это помазанник Божий».
А ведь тогда не перелистнулась еще самая позорная страница в истории равно как Франции, так и католической Церкви. Узурпатор еще не возложил на себя короны, не посягнул на титул Карла Великого. Но уже угас в крепости на берегу Роны Папа-пленник, Пий VI. Уже готовился подлый конкордат Папы Пия VII с Бонапартом, конкордат, по коему жертвы революции, священники, только случаем не попавшие на гильотину, перемешивались со священниками, присягнувшими кровавой власти плебса, дабы, с благословения Церкви склониться перед убийцами. Папа предал мучеников, предал шуанов. Он позволил санкюлоту назначать епископов.
Но и хлебнул же он за свое предательство стыда, когда в прекрасном соборе Богоматери Парижской Бонапарт выхватил корону из папских рук и сам напялил себе на голову! «А ты не езжай всякое отребье короновать!» – злорадно заметил четыре года спустя подросший уже Роман.
«И его еще называют старомодным, – с иронией произнес отец Иларион. – Да сей старомодный рыцарь в куда большей мере человек XIX столетия, нежели все мы! В нашем веке люди в ослеплении своем тщились стоять противу церковных установлений, но помыслить не могли увидеть в Церкви полезную служанку. У Бонапарте есть сила и власть, и Павел хочет считаться с этим, не глядя, от Бога ли она. Это ли старомодно?»
«В таком разе грядущий век обещает быть довольно подлым, отче, – не удержалась Елена».
«Кто б сомневался, Нелли, – усмехнулся Филипп. В тот ли миг почудилось ей, что губы его, искривившиеся в улыбке, сделались сизы, как обветренная древесина. Столько раз после ловила она отблески этих оттенков в губах его и ногтях, сколько раз радовалась, ошибшись».
Нет, довольно, слишком больно вспоминать о той борозде, что проборонил по их радостной жизни Наполеон, собачий император. Зачем только отправили его на Святую Елену, неужто места с иным названьем не нашлось, чтоб там ему стать падалью? Остановись, Елена Роскофа, ты теперь монахиня. Нет, Елена Роскофа не монахиня, не игуменья! Игуменья – Евдоксия! А она сейчас, хоть на часок, да Елена, и греха в том нет, она не живет в своем прошлом. Не столь уж часто она в нем гостит. А все ж больно, слишком уж больно. Не лучше ль перебрать веселые воспоминания?
Хоть бы вспомнить лето того же года, ведь было хорошее в и том году, хотя бы тот немыслимо обильный урожай ягод. Ветки гнулись до земли под тяжестью малины и кружовника, полянки алели земляникою, как ярко красные ковры. Мальчишки не успевали ладить пугалы, чтоб отпугивать дроздов от вишни. Ягоды шли одни за другими, тут уж было не до музыки, не до книг. Четырнадцатилетний Роман еще не отбыл к своим иезуитам. Пользы от него в ягодных кампаниях ожидать не приходилось, но Елена, к гордости своей, изобрела, как оную все же извлечь. «Ну, будь же ты любезным другом, брат! У меня сейчас каждая пара рук на счету. Мы сегодни и варенье варим, и пастилы трем, беда. Погляди денек за Панной, я Устинью к тазам с малиной приставлю!» Роман тут же помрачнел. «Да чего мне с ней делать, Лена? В куклы играть? Не умею я с мелочью». – «Можно подумать, большой ей интерес с тобою в куклы играть! Займи чем-нито, просто чтоб при тебе была. Накормить или обиходить девки забегать будут, Роман, ну недосуг мне с тобою спорить!» Брат нехотя обещался. Одного варенья сварили в тот день десять тазов. О дочери Елена вспомнила только, когда с пастбища погнали коров. Ох, поди, и злится! Торопливо взбежавши по лестнице, она распахнула дверь в комнаты брата. Явившееся зрелище заставило ее примерзнуть к порогу. Устроившись за письменным столом, Роман с препротивным скрипом вращал кухонную гирьку по большой чугунной сковороде. Вторая сковорода стояла на полу. В сковороде лежал накрошенный свинец, а перед нею, сосредоточенно хмурясь, сидела Панна. Две ровных кучки свинца были и на разложенном нумере «Московских ведомостей». «Окатанная длобина, – Панна показала матери зажатый в пальчиках свинец, а затем присоединила к правой кучке. – Не окатанная длобина, неть, не окатанная!» – «Роман!! Да ты с ума сошел! Зачем ты ей дал свою дробь разбирать?!» – «Как зачем? – удивился брат. – Самое ж ты просила ее занять. У ней, между прочим, хорошо получается, сам бы я грязней разделил». – «А если б она свинец да в рот?!» – «А зачем ей? – удивился Роман. – Поди не пряник».
Ах, Роман, Роман… Есть ли на свете человек, меньше созданный для семейных радостей, чем ты? А все ж – неужто так и не женишься? Четыре десятка разменял, сколько ж можно гулять? Плохой ты муж будешь, да только ты Сабуров.
Ох, и трудно с тобою было, Роман. Удалось бы сломать злую твою волю, когда б не помог случай, почти счастливый?
Накануне возвращения Платона в родительский дом Елена тщательнейшим образом перепрятала припас Кузьмичёвой травы, обыкновенно стоявший на видном месте в шкатулке. Слишком уж она перепугалась в последний денек предыдущих вакаций, случайно заставши сына сочиняющим что-то в гостиной, надо думать, вирши. Пестревшие зачеркиваньями и кляксами, разрисованные по полям, бумаги осыпали пол вокруг кресел и карточного столика, который мальчик отчего-то любил использовать в качестве письменного. Чернильница, во всяком случае, уже оставила свежие пятна на зеленом сукне. Одет он при том был, как обыкновенно, по глупейшей школярской моде: черный шейный платок под подбородок, на ногах вместо башмаков – черные бальные туфли. Закинувши одну нелепо обутую ногу на другую, Платон держал в одной руке очередной лист, а в другой перо, которое, как ей было показалось, в раздумьи грыз. Или нет? Рука с пером метнулась к бумаге, еще что-то усердно вымарала.
«Платошка, что это ты жуешь такое? – Елена Кирилловна терпеть не могла, когда дети лакомились между трапезами».
К ее изумлению, сын густо покраснел. Куда основательней, нежели б она поймала его на порче зубов какими-нибудь леденцами.
«Платон, что у тебя? – уже строже повторила она, с изумлением глядя, как сын не проглотил свое лакомство, а выплюнул в носовой платок, который тут же запихнул в карман жилета».
«Да право, ничего особенного, maman».
Охваченная непонятной тревогою, Елена выхватила платок и развернула. Какие-то измочаленные зубами волоконца. Щепка, что ли? Странно обострившееся обоняние уловило нечто знакомое.
«Да это же моя трава, Платон!!»
«Maman, я не хотел без спросу брать, так уж получилось».
«Ты ведь не в первый раз ее пробуешь? – Елена оперлась рукою о спинку кресла, с которого вскочил сын. – Не в первый? Говори, сколько раз ты ее брал?!»
«Не помню… Раз десять… Но это уж за все годы».
«Зачем? – Ноги не держали, и Елена села».
«Сперва из любопытства, помните, я в малолетстве думал, будто это – мандрагора? Ну та, что под виселицей растет».
«Я знаю, что такое мандрагора, Платон».
«А потом я заметил… Ну, от нее сердце так биться начинает… А главное дело, тревожно так делается, и страхи лучше в голову лезут. Я вот сейчас хотел балладу написать… В западнославянском духе… Ну, как девицу вампир сосватал… Вот и взял немножко, чтоб пострашней сочинялось».
Ох, и досталось же тогда Платон Филипповичу по первое число от обоих родителей. Филипп даже в школу ему с собою навязал какую-то французскую книжищу о прискорбных медицинских последствиях пристрастий к возбуждающим либо дурманящим веществам. Елена же сочла уместным поведать сыну о том, чего прежде отнюдь не намеревалась рассказывать: о мучительных бессонницах, что терзают ее по шесть дней на неделе, о том, как сила воли не всегда одолевает раздутые эфедрою тревоги и страхи, в коих нет ничего сколь либо романтического, о том, как счастлива б она была никогда не пить этих настоев, да без них не всегда умеет дышать. Платон вроде бы все понял и во всем обещался, однако ж, незадолго до его прибытия она не удержалась и перепрятала злое сено от греха. А как удачно получилось! Нужды нет, ради того, чтоб обуздать натуру брата, она б и притвориться больной не погнушалась бы. Да только из притворства настоящего проку бы не вышло. Поверить он бы поверил, а только чистая правда разит не в мозг, а в душу.
Сколь же причудливо тасуется колода воспоминаний! Черные плохие перемежаются с хорошими красными, козырные тузы идут вместе с незначительнейшими шестерками… Как не вспоминать подлого Бонапарта, первого в шеренге ничтожных гениев, на выпечку коих столь щедр новый век? Как забыть ей тот съезд гостей в бесснежном ноябре?
«Сын идет против отца и способен не остановиться перед убийством, – сказал Филипп тогда, в день, прояснивший ей окончательно, сколько высоко сделалось его место в Ордене. – Отец идет против Божественного установления и пропасть его падения трудно измерима. Никогда еще за двести лет мы не становились перед столь сложным выбором пути. Между тем надлежит срочно установить нашу позицию».
Мы за последние двести лет… Ах, Филипп, Филипп, эко же ты врос в сию землю! Пряча невольную улыбку, Нелли огляделась по сторонам. Сколь мирным представилось бы зрелище сие со стороны! Гости, расположившись в креслах и на диванах, попивают кофий либо чай. Малютка играет на полу в раскрашенные чурочки, мальчик ломает заводного турку, верно, подаренного только что кем из прибывших. Впрочем – случайный сосед немало удивился бы: а где меж гостями дамы? И что-то многонько средь собравшихся духовных лиц, в том числе и самого простого виду – однако нимало не смущенных роскошью модной гостиной.
«У дьявола два кулака, – отец Иларион резко поднялся. – Нельзя забывать, что когда он предлагает выбор, он обманет в любом случае».
«Мы никогда не оставались в стороне! – протестующе воскликнул Никита Сирин, уж три года, как воротившийся на жительство в Россию. И ты туда же, друг-приятель. Право слово, те, кто пришел в Белую Крепость сам, чаще говорят сие „мы“, нежели рожденные в ней».
Споры, жестокие споры длились так долго, что вид собрания из почти обыденного сделался вовсе странен. Ну кто, право слово, кушает кофей за полночь? Впрочем, еще несколько часов – и сия картина вновь обретет самый естественный вид. Елена самое не понимала, отчего иронизирует в мыслях, когда происходящее столь серьезно. Серьезность эту понимал даже маленький Платон, хотя в какой-то момент ему, поди, и могло показаться, что взрослые надумали сыграть в чепуху на бумаге. Каждому достался узенький клочок оной, и каждый, начертавши не более фразы, свернул его в трубочку.
Платону же пришлось по просьбе отца обойти всех с красивым малахитовым кубком. Едва ли он это забыл, едва ли. Хотя бы потому, что то была первая в его маленькой жизни ночь без сна.
«Решенье единогласное, – изрек наконец отец Иларион. – Белая Крепость впервые отводит руку свою от правителей России. Господи, помилуй!»
«Ах, отчего матушка Екатерина не могла прожить еще ста лет?! – горько усмехнулся Сирин, но тут же оборвал себя».
«Платошка, ты пойдешь со всеми в храм или все же спать хочешь? – спросила Елена тихо, почти шепотом, боясь потревожить мрачную свинцовую тишину, сошедшую на собрание».
«Пойду, – взгляд больших детских серых глаз был очень серьезен. Почудилось ли ей, что он понял все?»
Но вот содеялось все, чему было суждено, и жизнь, как ни странно, не остановилась. Панна училась складывать буквы, а Платон – слагать вирши. Все заботы и трудности, связанные с детской, были ровно такими же, каких можно ожидать и во времена, когда сыновья не убивают отцов своих на ступенях к трону. Тем Елена и успокаивала сердце, сосредоточивши все силы душевные на детях. Платон рос и модничал, отдавая дань меланхолии. Панна всячески бегала уроков и малевала соковыми красочками столь самозабвенно, что Филипп решил приставить к ней по билетам настоящего живописца из Академии. Младенческие трудности сменялись ребяческими, ребяческие – отроческими. Сердечные боли, начавшие посещать Филиппа с той осени, вроде бы отступили.
Судьба оказалась щедра, несказанно щедра. Она подарила Роскофым десяток покойных лет, исполненных любви и взаимного понимания. Даже чуть поболе десятка. А после пошла волна новой беды, беды общей, никого не миновавшей. Беды, оборотившей Елену Кирилловну Роскофу в монахиню Евдоксию. Нет, о том она не станет вспоминать даже сейчас, особенно сейчас, когда она не Евдоксия, а Елена. Евдоксия может молиться там, где Елена умерла бы от душевной муки.
И вот, едва перестала она тревожиться о брате, сыне и дочери, как ползут грозовым облаком новые смуты. Нет, не ползут. Летят по бледнеющему небосводу кровавою кометой. Говорят, ночь несет близким вести. Видите ли вы сейчас оную красную звезду, дорогие мои?
Глава IV
Платон Роскоф спешил, очень спешил. С карьера на рысь он переводил лошадь только на время, необходимое, чтоб ее не загнать – ни минутою больше. Однако ж к царскому поезду он присоединился уже на тракте, ранним, слишком ранним для выезда столь важных особ утром.
Умножение свиты, явленное в его лице, прошло незамеченным. Молодежь еще не веселилась и не шутила по обыкновению, а поклевывала носами в седлах. Шторки в окнах карет, в коих ехали дамы и штатские, были по большей частью задернуты, словно кое-кто был не прочь, хоть и с меньшими удобствами, добрать прерванный сон.
Однако же спалось не всем. Вниманье Роскофа привлекла высокая фигура человека, опередившего немного авангард. Верней сказать, всадник то чуть опережал спутников, словно бы в нетерпении, то, чуть отдалившись, поворачивал и возвращался. Высокий его тракен редкой для прусских лошадей соловой масти беспокойно вскидывал голову, верно, чуя волнение наездника.
Приближаясь в очередной раз, он заметил Роскофа и вновь поскакал прочь – даже еще дальше, нежели в прежние разы.
Роскоф, не колеблясь, пустился его догонять.
– Я тебя ждал раньше, – молвил всадник, когда Платон Филиппович поравнялся с ним.
– Дорога подготовлена, Ваше Величество, – ответил Роскоф. – Мы своротим на оную, не доезжая Новгорода.
– В котором часу это будет?
– Ласкаюсь, раньше полудня, – Роскоф окинул своего собеседника длинным и пристальным взглядом.
Наружность Александра Благословенного многое поведала бы внимательному, охочему до умозаключений наблюдателю. В годы молодости все счастливцы, щедро одаренные природой, всего лишь красивы. Трудно сказать, является ли гармония черт лживой маскою, либо напротив – крупными буквами повествует о красоте душевной. Но когда красавица либо красавец переступают тридцатилетний рубеж – справедливость берет реванш над легкомысленной щедростью упомянутой природы. Все, что невидимо кипело предыдущие годы в сердце и в голове – все выплескивается наружу. Истинная сущность человека начинает проступать в чертах лица. Воистину, лишь живущий в ладу со своею совестью умеет красиво стареть! Ко всем иным старость приходит глумливою художницей, потихоньку перерисовывающей портрет в карикатуру.
Нужды нет, и Цезарь был плешив, однако ж Александру Павловичу пролысина, которой не могла скрыть полностью даже треуголка, как-то уж очень не шла. Правильные черты лица, не подсвеченные величием, казались незначительны и мелки.
Или в сем впечатленье был повинен серый предрассветный сумрак, который мало кого красит? Бог весть. Да и время ли теперь рассуждать о физиогномике? Не время, Платон Роскоф. Никак не время.
– Так и представляю эту дыру, – вздохнул Император. – По главной улице свиньи бродят и на тротуарах отдыхать укладываются. Там, где они вообще есть, тротуары.
– В эдакой дыре, Ваше Величество, каждый человек на виду, а новый – вдвойне.
– Так что можно не страшиться никого. Кроме тех, разумеется, что приедут со мною вместе, – Александр Павлович горько усмехнулся.
– Девять из десяти, что предателя среди свитских нету, – твердо сказал Роскоф.
– Вспоминая арифметику ребяческую, следовательно, возможны два с половинкою предателя.
– Я не могу солгать Вашему Величеству, – лицо Роскофа странно напряглось. – Уповаю, что ни этих двух, ни половинки при вас теперь нету. Но вероятность вправду такова.
– Лучше б уж ты солгал немного, Роскоф, оно б покойнее было путешествовать.
– Меньше всего я теперь хотел бы вас успокоить, Государь.
– Твоя правда.
– Будут приложены все силы, чтоб отшельничество ваше не оказалось чрезмерно долгим, Ваше Величество. Но лучше пересидеть лишнего, пусть и скучая. Как только все нити заговора попадут в наши руки, вы будете безопасны.
– Так ты доверяешь своему Шервуду, Роскоф?
– Он не мой агент, но доверенный моего дяди, Сабурова, впрочем… – Роскоф удержал на языке бестактное замечание, что близким родственникам доверяешь иной раз больше, нежели самому себе. Воистину, при повешенном как-то не с руки говорить о веревке. – Впрочем, сие не существенно. Я полностью ему доверяю.
– Полностью нельзя доверять никому, – мрачно заметил венценосец. – Все люди – мерзавцы.
Роскоф промолчал. Ничего не выражающий прозрачный взор его столкнулся на мгновение со взором Александра. Император отвел глаза первым, с гримасою легкого разочарования.
«Хотел бы я знать, приказал бы ты немедля бросить меня в Алексеевский равелин, узнай вдруг, паче чаянья, то, чего тебе вовсе и не надобно знать? – думал Роскоф, пряча улыбку. – Вот бы встала пред тобою дилемма: с одной стороны, обидно было б тут же не заковать в кандалы. А с другой – превосходно ты понимаешь, что больше некому тебя защитить. Вот уж загадка, что бы перевесило – самолюбие или расчет? Только ставить подобных опытов над натурою твоей мы не будем».
Начинающийся день между тем наливался светом, потихоньку золотился, словно яблоки на ветвях плодового сада, что стоял по обеим сторонам от тракта. Далекий церковный купол заиграл с первыми алыми лучами, засеребрилась паутина на обочинах.
Экая особая жизненная сила таится в рассвете, воздух словно не вдыхаешь, а пьешь, столько свежести дарит каждый вдох! Все хорошее, что выпало в жизни, случалось с Платоном Филипповичем непременно в этот час, если, конечно, рассвет заставал его на ногах.
Незаметно приотстав от своего царственного собеседника, Роскоф позволил себе вместо отдыха, какового не получилось минувшей ночью, полюбоваться видами пробуждения природы. Приятно также и припомнить иные рассветы, хотя бы тот, весенний и самый давний в роскошном собрании воспоминаний.
В то утро ему было, сдается, не боле осьми годов. Изрядный любитель поколобродить ночью и поспать до полудня, он пробудился сам, без принуждения. Окно было с вечера растворено, поскольку отравляющая прелесть сельской жизни пора гнуса еще не наступила. Густые клочья тумана, окрашенные золотом, таяли на глазах. Еще немного, и обретут четкость размытые очертания кленовых ветвей, бесцеремонно норовящих влезть в горницу. Ветви казались еще голы: стояли те драгоценные первые майские дни, когда тепло почти по-летнему, проступает первая трава, но деревья еще не распустили почек. После будут еще заморозки, их принесут и черемуха, и дуб, но, опьянев от солнца и тепла, не веришь, что до лета еще далеко.
Платон улыбнулся рассвету и мыслям о прогулке после завтрака. Как же охота пересесть с круглобокого добряка-поньки на настоящую лошадь! Право, папенька вредничает! Стремена можно и подтянуть. Надобно ж выставить такое злое условье: сядешь на лошадь, когда поньку пора будет отдавать сестре. Это ж сто лет ждать!
«С хорошею улыбкой ты пробуждаешься, – негромко молвил кто-то, сидящий в изножье его кроватки. – Но больно скоро делаешься сердит».
Нет, это не был отец, как чуть было не показалось ему в первое мгновенье. Одетый скромней любого судейского, человек был много старше отца, сух и сед, с резкими морщинами, глубоко избороздившими лицо слишком волевое, чтоб казаться добрым. Однако теперь он улыбался, глядя на Платона.
«На что поспорим: догадаешься сразу кто я али нет? – спросил он».
«Дедушка!! – Платон подпрыгнул на тюфяке. – Дедушка де Роскоф!»
«Добро, – старик протянул жилистую руку и легко погладил мальчика по голове. – Я бы тоже признал тебя сразу, хоть бы и среди чужих. Мы оба с тобой похожи на одного и того же человека: он между нами как мост. Хороший ли ты сын, Платон? Помнишь ли, что никто, лучше отца, не знает твоей пользы?»
«Помню, – Платон покраснел. – Не всегда, но помню. Дедушка, как же случилось, что вы до нас добрались?! Везде ведь Буонапарте и война!»
«Война еще не везде, – невпопад, вослед каким-то своим мыслям, отозвался старик. – Это еще не пожар, но первые его языки. А я здесь потому, что завершил мою книгу, внук».
«Какую книгу? Интересную? Вы ее привезли нам?»
«К сожалению, этого я сделать не смог, – старик посмотрел на Платона, как смотрят на взрослого собеседника. – Но со временем ты прочтешь ее. Твоя мать знает, к кому обратиться за помощью, когда книга понадобится. А я рад, что труд мой подошел к концу. Вот и захотел повидаться с вами со всеми».
«Дедушка, а вы мне расскажете, как бивали санкюлотов?»
«Уж больно ты скор, меньшой де Роскоф, – дедушка Антуан поднялся. – Что тебе до вчерашних разбойников, на твой век достанет завтрашних».
«Дедушка, а вы к нам надолго? Навсегда?»
«Не надолго, внук, – с улыбкою обернулся в дверях старик. – Ну да сие тоже не суть важно».
Дверь затворилась, даже не скрипнув в петлях.
Казалось, Платон только на мгновение смежил веки, когда дед вышел из его горницы. Однако солнце за это мгновение успело подняться довольно высоко. Вот уж глупость – спать, когда происходят такие события!
На столике шла обыкновенная «война напитков»: серебряный кофейник и аглицкий фарфоровый чайник горделиво стояли визави. Без кофея не начинал дня папенька, между тем как маменька признавала только чай, каковой кушала без сливок и даже без сахару.
«Кого это сегодни не пришлось силой с постели стаскивать? – весело удивился отец, когда Платон сбежал вниз».
«Ты будешь с нами завтракать, Платошка? – спросила маменька, одетая во что-то светлое и легкое – впервой в этом году».
«Я буду завтракать с дедушкой! Он еще отдыхает, да? Дедушка ведь еще тоже не завтракал, я не вижу для него чашки!»
Сделалось вдруг очень тихо. В этой тишине звонко стукнула о фарфор ложечка, которую выронила маменька.
«Тебе что-то приснилось, Платон? – спросил наконец отец. Губы его дрожали».
Испуга родителей в свой черед напугала мальчика.
«Ничего мне не снилось! Да я и не спал… почти… после того как дедушка ко мне заходил».
«А… который дедушка, Платоша? – еле слышно шепнула маменька. – Дедушка Сабуров или дедушка де Роскоф?»
«Ну как мог ко мне заходить дедушка Сабуров, – Платон начал обижаться. – Он вить давно умер!»
Отец, быстро вышед из-за чайного столика, опустился на пол перед мальчиком и крепко притянул его к себе. Платон услышал, как сильно колотится отцовское сердце.
«Папенька, но где же дедушка? – Платон заплакал. – Где дедушка де Роскоф? Он же приехал нас повидать!»
«Нет, Платон, никто не приезжал. Все-таки тебе это приснилось».
«Дедушка зашел ко мне в комнату! – настаивал Платон сквозь слезы. – Верней, нет, он уже сидел на моей кровати, как я проснулся, а после вышел! Таковых снов не бывает! Он сказал, что здесь потому, что завершил книгу… какую-то книгу!»
«Филипп!! Вспомни, ты говорил когда-нибудь при Платоше о книге, о той, о „Бретонской Голгофе“? – воскликнула маменька».
«Я – нет, Нелли, а ты? – отец по-прежнему обнимал Платона, стоя перед мальчиком на коленях».
«И я – нет, – тихо сказала маменька. – Но может статься, Роман?»
«Не думаю, Нелли. А что еще сказал дедушка о книге, Платон?»
«Что маменька знает, кто поможет ее найти».
«Ну конечно, – Филипп поднялся. – Мартен и Прасковья. Вот что, друг мой. Помолчим-ка немного, а после и вправду позавтракаем. Главное, постарайся сейчас хорошенько запомнить все, о чем говорил дедушка. Что захочешь, можешь рассказать матери и мне, но главное, все запомни сам. Да, и вот еще что. С нонешнего дня поминай дедушку де Роскофа так же, как и дедушку Сабурова. За упокой».
Так и осталось неизвестным, верно ль было предположение о дне смерти деда. Да и как можно было б проверить? Война не пересыхала, Франция казалась дальше иных планет. Одно только наверное знал Платон: с Антуаном де Роскофом он повидался взаправду, а как сие проистекло – так ли уж важно?
Ах, воротиться б в те годы, когда жив был отец, а сестра весела, когда мать их звалась Еленою Кирилловной! Что с того, что было их у Елены Кирилловны не пятеро-шестеро, как у людей, а только двое – брат да сестра! Вдвоем им было лучше, нежели иным и вдесятером. Маменька улыбалась, читая записки с просьбою о прощении за очередную шалость – записки, подписанные двойным «П»: Платон и Прасковья. Так уж они придумали подписываться, и в школе мальчик не враз отстал от привычки, которую не хотел никому разъяснять. Все, вычитываемое в книгах, Платон на свой лад растолковывал малютке. Панне это нравилось, хотя иной раз она и не спала со страху. Например, когда братец прочел о Сократовом демонии, что никогда не подучал его что-либо сделать, но часто отговаривал от того либо иного поступка. А где он прячется, сей невидимый собеседник? Может, носит он шапку-невидимку? Тогда почему его не слышат другие люди? А главное, есть ли демоний у каждого человека, либо был только у Сократа? Платон не хотел спасовать перед Сократом, а Панна не хотела уступить брату. Дети с неделю соревновались друг перед дружкой общением с внутренними собеседниками – покуда девочка не проснулась ночью от собственных крика и слез. Утром Филипп призвал сына в свой рабочий кабинет и, выявив обстоятельными расспросами суть происшедшего, долго и терпеливо растолковывал ему, что античный мыслитель аллегорически подразумевал всего лишь нравственное начало, заложенное в человеческой природе, иначе – совесть. В заключение папенька все же запер некоторые из книжных шкапов.
«Из-за тебя, Платошка, Сократ был для меня в ребячестве хуже Бабы-Яги, – смеялась потом Панна. – Не помнишь, поди, как ты тер в ступке „цикуту“, пил ее и начинал объяснять, какие члены у тебя холодеют? Знаешь, каков мне представлялся тогда Сократ-то твой? Горбатым карлою с черной, как у арапа, кожей! А пальцы у него были по три вершка длиною!»
Ах, Панечка-Панна, что за странная судьба тебе выпала!
Платон Филиппович вздрогнул всем телом и приподнялся в стременах: надолго ль убаюкали душу воспоминания?
Пустое, получаса не прошло.
Император взглянул на него, оборотясь через плечо. Угадывая значенье взгляда, Роскоф поспешил вдогон. Его сопровождало ощутимое недовольство двоих флигель-адъютантов, уязвленных тем, что представлялось им неожиданным фавором.
Знали б вы, бедняги, какая сенная лихорадка причиняема ему одним моим видом. Поравнявшись с молодыми людьми, Роскоф столь внимательно поглядел на них, что оба смешались. Но бог с вами, ревность ваша свидетельствует о том, что едва ль вы замышляете против жизни миропомазанника. Иначе б было вам все равно, быть ли в случае.
Ах, где ж ты, тот, кто мне так надобен? Едва ль ты едешь в сей синей карете, скромной, без гербов, но отменной работы. Карета принадлежит медику Вилие. Был он, правда, в числе убийц императора Павла, но Александру предан неимоверно. Нет, Вилие не предатель и даже не половинка предателя. Недурное mot, кстати сказать. Что же, в каком-то смысле половинка предателя также едет с нами, и даже, быть может, не одна. Половинкою предателя назовем того, кто сам не решится на измену, но может быть вовлечен в нее стечением внешних обстоятельств. Но таких половинок средь нас явственно больше одной, вот только, по счастью, даже десяток их не сложится в предателя целого. Человеческая арифметика отлична от школьной.
– А ты, Роскоф, поди, вторые сутки без сна? – спросил Император, когда Платон Филиппович приблизился.
– Третьи, Ваше Императорское Величество. – Роскоф позволил себе улыбнуться.
– Так оккупировал бы эскулапову карету на час-другой. Он один едет, право, Роскоф, отдохни.
Платон Филиппович сумел скрыть изумление, лицо его сохранило непроницаемое выраженье. Неужто он говорит искренне, даже без намеренья как-либо по секрету употребить сие время? А ведь похоже на то.