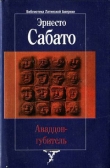Текст книги "Декабрь без Рождества"
Автор книги: Елена Чудинова
Жанр:
Ужасы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 25 страниц)
Глава XVI
Ладно обустроенное Грузино, что на правобережье Волхова, замерло под низким осенним небом, словно объятое чумой. Проезжего случайного удивило б то, что на улицах не играют дети, но для жителей в том уж давно не было необычного. Вечно напуганные матери первою мыслью своих чад внушали недопустимость производить какой-либо шум. Нечто иное, новое и по-новому жуткое, висело и над «помещениями» – так назывались выведенные в стройный ряд казарменные дома, и над нелепыми причальными башнями в форме пирамид, над строительством колокольни, над огромным парком и обоими барскими домами – зимним и летним. Что там, тихие дети, гиль! Взрослые, произнося самые необходимые в обиходе фразы, пугливо оборачивались по сторонам.
Диссонансом простучали в этой неживой тишине подковы лошади, подлетевшей к подъезду собранным галопом.
– Доложи, милейший: полковник Пестель, Павел Иванович, – довольно бойко обронил назвавшийся. Вся его кургузая «бонапартовская» наружность являла в это осеннее утро вид полного довольства, особо заметного рядом с выбежавшим лакеем, чье осунувшееся лицо было бледнее собственного парика.
– Их сиятельство граф Алексей Андреич, не изволят-с принимать, – сизыми губами прошелестел человек.
– Меня примет, – Пестель, соскочив, швырнул было лакею поводья, но тот не подумал их ловить. – Ты чего себе позволяешь, скот?
– Не принимают-с, – человек даже не отшатнулся при холостом взмахе хлыста в руке приезжего. – Хоть бейте, хоть убивайте, ваше благородие.
– А коли пришибу? – Пестель ощерился, не опуская хлыст.
– А хоть бы и так, ваше благородие, – в манере лакея проступило усталое спокойствие человека, чрезмерно утомленного долгим отчаяньем. – Дешевле отделаюсь.
– Что за ракалья?! – визгливый немолодой голос, донесшийся с самого верху лестницы, вынудил Пестеля поднять голову. – Филька, дрянь, почему не прогнал?! Запорю! Собак на него, живо!!
Высокий, худой как жердь, граф Аракчеев являл собою страшное зрелище. Немытые и нечесаные волоса свисали сосульками: мясистые уши выглядывали из них. Невыразимые и сюртук, казалось, не меньше недели заменяли ему ночную рубаху. Но безобразней всего выглядел платок на его тонкой шее – батистовый, некогда белый, покрытый какими-то бурыми пятнами, похожими на высохшую грязь.
– Повесить на меня всех собак вы еще успеете, Алексей Андреич, – отозвался Пестель вроде бы без испуги, но весьма громко, словно стремясь, чтоб явившийся из стеклянных дверей граф непременно узнал его голос.
– А, Павлушка! – граф, остановившийся в стеклянных дверях сделался из грозного каким-то расслабленным. – Не ждал тебя, но что уж, заходи. Решил, стало быть, навестить старика?
Взбежав по ступеням, Пестель проследовал за хозяином дома внутрь. Анфилада оказалась странно безлюдна. Была и другая странность: вопиющий беспорядок спорил с установлениями скрупулезнейшего порядка. В каждой из комнат висел на стене подробнейший перечень содержавшихся в ней предметов – от комода до салфетки на нем – а перечтенные предметы покрывала густая пыль.
– Все разбежались, сукины дети, кроме моих сыскарей, – аттестовал обозреваемую картину Аракчеев. – Хоронятся по своим углам, лешачихино отродье.
– И продвигается ль сыск? – спросил Пестель.
Оба вошли меж тем в кабинет. Хозяин сделал рукою вялый жест, приглашающий гостя сесть, и опустился в кресла сам.
– Без малого две дюжины мерзавцев взято, а толку нет. Как прижмешь посильнее, так показывать, понятно, начинают. Только так-то бестолково, один на второго говорит, третий на четвертого. Пятеро уж окачурились, а ни на синь пороху не яснее. Ты к обеду хотел остаться? Не стряпали у меня. Кушаю только мадеру с сухими бисквитами.
– Ну, уж здоровье-то надобно поберечь, – Пестель с интересом покосился на грязный платок. – Да никак это кровь, Алексей Андреич?
– Кровь, точно кровь – Настасьюшкина. Чтоб всяк знал, покуда всех злодеев не порешу – не успокоюсь, – уронил Аракчеев не без гордости. – Всегда чуяло сердце, что дура допрыгается. Крутенька была. А мужик, он, Павлушка, не любит, чтоб над ним не природный господин стоял, а свой брат. Даже собаку с умом бить надобно, не то что человечка. А бабу впрямь жаль, ох, как жаль-то… Тёплая была баба.
– Но весьма вовремя отчислилась, – Пестель хмыкнул. – Алексей Андреич, а не сами ль вы ее того, чикнули?
– Да ты что себе позволяешь, мальчишка?! – Хоть Аракчеев и вскинулся, но заметно было, что настоящей злости в нем теперь нет. Старик, похоже, устал ее демонстрировать, промелькнуло в голове у Пестеля. – Забыл, как я тебя за уши дирал? Нешто я похож на душегуба?! Выдумает же – сам чикнул.
– Простите великодушно, я уж так, к слову пришлось. – Пестель озабоченно нахмурился. – Не хотел ничего вверять бумаге, а чужой душе – еще больше не хотел. Вот сам и приехал, не обессудьте. Оно надежнее, самому. Всяк скажет – зачастил Пестель к благодетелю семейства – чинов ищет. Что удивительного?
– Ну, пошел тянуть кота… – Аракчеев поморщился. – Чего тебе, Павлушка, говори толком…
– Недели три еще продержитесь, Алексей Андреич? Очень надобно, чтоб не меньше…
– Ты из самого-то дурака не делай!
– Сам нездоров. Уж ему не до этого.
– Все одно не пройдет… Столица вторую неделю в безвластии… Еще денька четыре – и назначат мне замену.
– Алексей Андреич, благодетель, никак иначе нельзя! – проникновенно взмолился Пестель, прижимая к груди небольшую свою, приятно округлую руку. – Ну разве мне вас учить? Да я, вправду, в свистульки еще играл, когда вы уже и похитрее вольты выписывали… Ну придет запрос – а вы в ответ, мол, выезжаю завтра же! А назавтра главный злодей найдется, оно и не получилось выехать… Они вновь запрос – а вы опять – завтра незамедлительно! А назавтра – прихворнули от огорчений! Сильно ль больны? Уже лучше сделалось, встаёте – и в дорогу! Ан опять хуже! Станете, главное дело, все время грозить, что почти уж выехали – нипочем не дерзнут заместителя ставить!
– Шельма ты, Пашка, – Аракчеев одобрительно осклабился. – В мое время далеко бы пошел… Впрочем, гляжу я, друг ситный, во время нынешнее ты глядишь шагнуть еще дальше. Ладно, три недели не обещаю, но две проволочу как-нибудь. Управитесь?
– Да я-то слажу… – вид Пестеля остался озабоченным. – Кондрат может не поспеть. Алексей Андреич, Кондрату надобно изрядный груз в город завозить. Очень бы ваше отсутствие желательно. Ферт этот… Сабуров… Как пить дать будет людей просить, чтоб шерстить заставы. А вас нету – так кто ему людишек даст?
– А могу и сам отказать. – Аракчеев растянул губы в добродушной улыбке… – Кому отчет давать потом? Али ты не так-то уверен в успехе, как мне, старику, в уши дудишь?
– Да велика ль важность, уверен ли я?! – Пестеля словно вытолкнула из кресел какая-то сторонняя сила. Он в ажитации заходил по комнате. – Вы в этом уверены больше моего, Алексей Андреич! А знаете, отчего больше? Оттого, что не мне, а вам все эти Шервуды и Сабуровы вынуждены отчитываться в выявлении заговорщиков! Перед вами вся картина, как на ладони! Когда измена идет отовсюду, она перестает быть изменой! Она уже данность! Я знал, знал, что не ошибусь в вас, человеке высокого разума! Пусть дураки крепят мачты на тонущем корабле…
– Ты меня, никак, в крысы отрядил? – Аракчеев засмеялся. Настроение его улучшалось на глазах.
– Высокие словеса… Иной бы и рад шмыгнуть с тонущего корабля, да не умеет куда. Но мы-то с вами умеем, Алексей Андреич! Дело не в том, что мы нужны друг дружке сейчас – сие пустяк! Тут вопрос дальновзглядицы…
Аракчеев недовольно хмыкнул, и Пестель решился не мелочиться в серьезном разговоре.
– Вопрос перспективы, – с нажимом проговорил он. – Вам не дают развернуть свои дарования. Ваши поселения – прообраз всего будущего государства, каким оно предстает пред моим мысленным взором. Долой собственность, любую! Некоторые привилегии для тысячи примерно семейств, относящихся к, я придумал новое слово – управленцам! Без этого нельзя, но это будет каплею в море! А в остальном – полная свобода, свобода от собственности, полный порядок! Никаких унижающих человеческого естества сословий – все единственно граждане!
– Ладно, живы будем – поглядим, – рука Аракчеева в раздумчивости затеребила покрытый омерзительными пятнами платок. – Ты, Павлуша, вот что: больше ко мне не езди. Коли ваша возьмет – оно и ладно, а нет, так гибнуть будете без меня, старика. Сам понимаешь, в случае чего меня и оговаривать напрасно. Мне вера большая – будет и есть, мне, не вам, соплякам.
– И, как можно, Алексей Андреич, на свободе вы нам в любом случае нужней! – Пестель, отвесив краткий поклон, направился к дверям. – Три недели, ваше сиятельство, об одном прошу – не две, а три!
– Ступай себе, попробую проволочить, – Аракчеев слабо махнул рукою.
Лошади так никто и не подумал задать овса. Но даже эта досада не испортила настроения Павлу Ивановичу. По прекрасной грузинской дороге доскакал он до ворот, сменил аллюр на рысь. Эко здоров и свеж осенний воздух! Засиживается он в дому, надобно почаще делать прогулки. И фехтовать надо почаще, а то уж вон – одышка появилась. Надлежит получше себя беречь, есть для чего.
Хороша дорога, эх, хороша! В карете по такой – как по перине. Надо думать, старый черт умеет обустроиться. Эх, слыхал бы сей разговор Трубецкой! То-то бы глаза вытаращил. Куда Трубецкому! Аракчеев был лично его, Пестеля, победою, его Тулоном.
Никто б не поверил, что удастся его вовлечь, все до сих пор твердят об одном – Аракчеев, как пес, предан тирану. А надо бы глядеть в корень, как он, Павел Пестель, глянул на три аршина под землю. По настоящему не пригоден в заговор единственно сторонник монархического принципа, тьфу, убеждения. А личная преданность?! Ослы! Как один и тот же человек мог быть лично предан убитому и убийце, Павлу и Александру?! Вот то-то! Ему свет в окне только тот, кто сейчас силен. И покуда силен. А стало быть, ради более сильного, предаст не моргнув глазом!
Таскай, Шервуд, свои бумаги, таскай! Небось не знаешь, что все мне о тебе ведомо, что ради меня ты и старался, что от каждого доклада твоего граф делался все тоскливей и скучнее! И выше графа твои доклады не идут, тиран верит ему, как себе, да и нет никого еще, кому б мог он поверить!
Скольких усилий стоило одно – выждать нужный – ни на день раньше – момент… Э, минуту… Тьфу, да как это сказать на русском языке?! Выбрать час, чтоб затеять опасный разговор. И все срослось, все вышло!
Эх, бывает же в жизни полоса, когда черт ворожит, когда все само идет в руки! Старик хитрей хитрого, а поверил, будто он, Пестель, говорит с ним от лица всех заговорщиков! А они знать не знают… Дурак Якушкин, правда, подумал было, будто Пестель обезвредил старого хрыча, вовремя прирезав Миткову… Этим и объяснил, для чего были многочисленные поездки в Грузино. Дурак и есть! Кабы хрыч впрямь радел о вверенной ему столице, вверил бы сыск подручным и вся недолга!
Старик хитер – ни единою бумагою не связал себя в отношении заговора. И замечательно! Кому он после-то нужен, вовсе и незачем никому ничего знать! Дал образец общественного устройства – и спасибо на том, дальше без тебя сладим.
Свежий ветер уже не кружил листвы, деревья шевелили голыми ветвями. Превосходная дорога была пустынной. Нет, не вовсе пустынной: обернувшись на Грузино, Павел Иванович заметил двоих всадников.
Вот уж, всегда оно так: как по хорошей дороге – так непременно верхом, а как в экипаже – так ухабами!
Что ж, подводя итоги – поездка вышла удачная. Зря старик и тревожился – больше к нему выбираться незачем. Прощай, Грузино, ты уж теперь – вчерашний день, перевернутая страница!
Обернувшись второй раз, Пестель невольно приметил, что два других всадника изрядно сократили отделявшее его от них расстояние. И куда спешат? Оба вроде как в штатском платье. Или нет? Что это, вроде лисьей опушки, понизу головного убора? Ан не опушка, просто черный билликок на рыжих волосах.
Больше Павел Иванович решил не оборачиваться. Отчего-то, решительно ни с того ни с сего, сделалось ему жаль, что чалый его мерин Изюм, любимый за послушный нрав, хорош скорей в рассуждении безопасности, нежели скорости. Все ж-таки ударил он шенкелями в тучноватые бока, все-таки прибавил ходу. Да что за гиль, в самом деле? Кого бояться на дороге средь бела дня?
Показалось ли, что сзади тоже поспешают? Не надо оборачиваться, на таком расстоянии это уже заметно преследователям.
Преследователям? Тьфу, экие глупости. Вот уж слышен стук. Спешат, спешат. Догоняют. Надо только глядеть вперед, будто бы и дела ему нету до них, обгонят – и дело с концом. И дела никакого нет.
Двойной копытный стук поравнялся с Пестелем, разбился об него, потек с обеих боков. Обгоняют!
Вот уже впереди мотнулись конские хвосты, мелькнули спины и затылки всадников. Пестель невольно замедлил ход, норовя отстать побольше.
И тут неизвестные, словно на вольтижировке в манеже, выписали, отражая друг друга, полный разворот. Неизвестные?! Рыжий, как смутно угадалось Павлу Ивановичу с самого начала, оказался Василием Шервудом. А вот второму место было уж вовсе не тут, около царской свиты, далеко в Таганроге.
– Сирин?! – Павел Иванович поднялся в стременах. – Вы-то здесь какими судьбами?
– Да вот родитель мой просил передать вам поклон, – хмыкнул разрумянившийся от скачки Алексей Сирин.
– Я знать не знаю вашего родителя, вы что, Сирин, пьяны? – возмутился Пестель. Получалась какая-то дрянь. Лица же Сирина и Шервуда, чьи лошади танцевали на месте, преграждая ему дорогу, имели то выраженье, каковое бывает обыкновенно у бретёров, ищущих повода для вызова. Неужто Трубецкой пустился на какую-то хитрую интригу накануне дела? Или Рылеев? Что, если кто-то из дорогих товарищей решился его, Пестеля, устранить, чтоб не делиться лаврами?! Как бы вытащить пистолет?
Но другой пистолет был уж в руках Сирина.
– Не валяйте дурака, – надменно процедил он сквозь зубы. – Велика важность, что вы не знакомы с отцом моим! Зато он знает о вас куда лучше, чем вы можете себе вообразить! Коли угодно знать, я был всего лишь тем живцом, на который он ловил всю вашу масонскую шатию. Не зря ж он год спал на глазах у всей честной публики!
– Много подробностей, Алеша, – холодно улыбнулся русский шотландец. – Полковник Пестель, вы арестованы.
А, пожалуй что, рано было списывать старого гриба со счетов, пронеслось в голове Павла Ивановича. Вот когда он может пригодится, да еще как.
– Что ж, надо уметь проигрывать, – не без достоинства произнес он. – Не ждал от вас, Шервуд, никак не ждал предательства…
– Да неужто не ждали? – изумился собеседник. – А я-то думал, у вас, Павел Иванович, есть осведомитель близко к графу.
«Не знает, не знает главного… Ладно, оно еще ничего».
– Я как порядочный человек своего осведомителя ни в коем случае не выдам.
Странный, неправильный, веселый взгляд, которым обменялись через голову Пестеля его более рослые собеседники, сверх меры не понравился Павлу Ивановичу. «Не очень-то нам и интересно», – словно бы бросил Шервуду Сирин. «Да пусть хоть с кашей лопает все, что графишка знает», – словно бы ответил Сирину Шервуд.
Пустяк, гиль, примерещилось! Все расследованье заговора идет через Аракчеева, а значит, его, Пестеля, Аракчеев и вытащит. Вытащит скоро… Скоро? За три недели графу и не узнать про арест! Вот ведь нелегкая!
Дорожные свои пистолеты Павел Иванович уступил без тени недовольства. Надобно ж загнать себя в ловушку! Но никому из соратников не может он доверить свои расклады.
Пестель улыбнулся Шервуду, вкладывая в улыбку самое высокомерное бахвальство, на какое был способен. Все одно – томиться в заточении ему не более четырех недель.
Но тут-то неприятнейшая мысль пробежала струйкой холодного пота по позвоночнику. Если Рылеев впрямь Сирину доверил доставить яд, грозит ли что-нибудь Александру?! Неужто ему, Пестелю, расплачиваться теперь за ошибку Рылеева?
Пустое. Главное дело – не поддаться испуге. Сыграет тиран в дубовый ящик или нет, а самое большее через месяц Аракчеев поможет.
Глава XVII
– Чего б такого еще заказать, чтоб было не хуже мясного блюда?
– Матушка, уж полно бы ерундою тешиться, – несердито проворчала келейница. – Мать Игнатия даже баловство-то новомодное затеяла, молоко сладкое в лёд сбивать! Сейчас только в поварне миски серебряные мыла, что одна в другой вертятся. То-то ангины не занимать, свою учиним! А уж пирожков напекли – с капустой, с рисом, с яблоками! Белые грибы в волованах подадут, в сметане тушеные.
– А лука ни во что не добавляли? – осведомилась все же игуменья, хоть ответ знала наперед. – Маленькая Соломония лук на дух не выносит.
Шахматный столик у окна, за коим коротали час ожидания мать Евдоксия с матерью Наталией, являл вид середины битвы. Однако обей противницы то и дело забывали, чей теперь ход.
– Да уж все знают вас, привиред, – мать Наталия опустила рыжие ресницы, пряча весёлый взгляд. – Полно, в самом-то деле. Кельи готовы, все для дорогих гостей в полнейшем порядке. Матушка, что ж королевой-то моего коня едите, дайте-ка я ее ладьей сшибу! А вот теперь и конь мой безопасен.
– А разве не ты только что пешкой двинулась?
– Я – пешкой, а вы после того – другой пешкой, да королеву-то и открыли. За вами, матушка, сегодни ходы надобно записывать, как картежники делают.
– Картежники записывают не ходы, а ставки, – мать Евдоксия поднялась, прошлась по гостиной. – Что-то Лукерьи долго нет.
– Ну, Ольга-то Евгеньевна об один час не соберется. Надо думать, наша Лукерья им недели на сборы не даст, а все ж сколько-то провозились. Вот Прасковья Филипповна, та едва ли задержит. Прасковья Филипповна у нас – как солдат, лишней иголки в ранец не положит, а ничего нужного не забудет.
– Ну, не знаю, верно ль я Лукерье дело поручила, – игуменья подошла к окошку, словно намеревалась увидать в нем дорогу, а не нарядную осеннюю куртину, являвшую праздничное сочетание осеннего золота с темной хвоей подстриженных вечнозеленых кустарников. – Молода еще, хоть и пора уму быть, а все ж молода.
– Бог даст, сладит, – мать Наталия спрятала еще одну улыбку.
С трудницы Лукерьи игуменья взыскивала строже, чем со всех, обильнее всех осыпала ее тяжелыми послушаниями. Невдомек было матери Евдоксии, что по этому безошибочному признаку пожилые инокини, мать ли Неонила, мать ли Марфа, а уж тем паче мать Наталия, давно уж вычислили в девушке ее любимицу.
– Прости уж, мать Наталия, загоняла тебя вовсе, а пойди проверь, не напустили ли в кельи гостевые угару, когда топили.
Когда келейница вышла, мать Евдоксия отошла от окна и опустилась в покойное резное кресло, старое и скрипучее, помнившее не одну ее предшественницу. Право слово, не было в ней раньше этой склонности к волненьям по мелочам. Годы берут свое. А может статься и не в годах дело, просто она пытается растворить в хлопотах тревогу.
Довольно, путевые задержки неизбежны, но скоро все начнут прибывать. Луша справится – не надо лучше. Луша, духовная ее дочь, не меньше дорогая, чем кровная, незаменима в трудные минуты.
Ах, Луша-лучинка…
Как ясно запомнился ей ночной путь среди мертвецов! Правой рукою Елена Кирилловна со всех сил прижимала к себе дочь, левая же рука была мучительно праздной. Луша сидела совсем рядышком, и так хотелось привлечь ее к сердцу, согреть, но безошибочным материнским чутьем она понимала – нельзя, никак нельзя! Барыня не станет просто так обнимать деревенскую девчонку – а все должно быть обыкновенно, совсем обыкновенно, будто мертвецы и не ведут недвижного своего пляса по обеим колеям… Дитя не должно было понять, в какой мере оно достойно жалости – только что увидевшее лютую смерть отца и барина, бежавшее в одиночестве по дороге, которая страшней всех фантазий Данта! Сообразила бежать в Кленово Злато? Правильно! Прихватила от волков фонарь? Молодец! И все, и ничего больше, иначе детская душа утонет в ужасе.
Вроде бы пронесло, дитя не заболело, не повредилось рассудком… А все же не удивлена оказалась Елена Кирилловна, когда – уже в обитель – прибыла к ней девочка-подросток с письмом от Панны. Два года спустя это было.
«Ты так хочешь в монастырь? – мягко спросила она, вглядываясь в упрямое серьезное личико. Красивое бы было, кабы не суровая складка губ. – Разве плохо тебе в господском доме, при Прасковье Филипповне?»
«Плохо, – к ее удивлению, ответила девочка, сердито склонив голову – словно собиралась кого-то боднуть упрямым лбом. – Прасковью Филипповну никак нельзя не любить. А я не хочу любить ни барыню, ни малютку Сережиньку, ни замуж не хочу! Хочу любить только Господа – Его-то никто не может отобрать!»
«Что же, тогда будь по-твоему».
Ни разу не пожалела мать Евдоксия, что оставила при себе умную, исполнительную, охочую до учения девочку. А все же благословить на подрясник медлила. Призвание – дар, а не болезнь. Луша же была еще больна отвращением к человеческой природе. Обнаружится ли истинный дар, когда душа оттает? А оттает она неизбежно, в молодые годы горе смертно.
Молодые годы – да, молодые. Но между тем уже взрослые. Луше уж сровнялось двадцать четыре года, хотя по виду не скажешь. Но и это не странно: способность к мышлению замедляет телесную зрелость. А эту девчонку метлою станешь гнать из библиотеки – не выгонишь.
Библиотека. Экое странное слово. Когда так стали говорить вместо привычного слова вифлиофика? Вот уж и самое она произнесла на новый лад.
Четверть нового века прошла. Жизнь меняется. Елена Кирилловна невольно улыбнулась, вспомнив случайно услышанный разговор сына с кем-то из приятелей. Обрывок разговора, с чего он начался – неважно.
«Мы не такие, как поколенье родительское. Ты скажешь, у них не было нашей готики, нашего мистицизма, они были прозаичнее, стоит только взглянуть на их литературу, – взволнованно говорил Платон. – И верно, писали они прескучно. Все больше о морали да пользе государственной, сплошная тощища. Только я почти уверен, сие не оттого, что были они обыденны сами, как мы обыкновенно считаем по нашей заносчивости… Причина иная! Им некогда было писать. Что представляет для нас предмет праздных мечтаний, для них было – жизнью. Самой обыкновенной жизнью!»
«Ты хочешь сказать, что ундины плескались тогда в прудах, а саламандры так и прыгали в каминах?» – засмеялся приятель. Кто ж это был? Арсюша Медынцев? Нет, не он.
«Почти что это я и хочу сказать…» – не подхватил шутки Платон.
Ах, сын, ах умница, даже страшно, лучше б тебе быть поглупее. Странная тоска пронзила сердце Елены Кирилловны. Полно, та ли я самое, что игрывала в карты с демонами, меня ли спасали от упырей? Я ли собирала лилеи, чудесным образом выраставшие там, где шли святые мощи?
Теченье реки времен переменилось. Собственное прошлое кажется мне сном. Рассказывать бесполезно. О, одиночество перед собственными близкими! Мы уйдем, и никто не будет знать, какими были мы в самом деле.
А разговор, уязвивший ее сердце тревогой за сына, слишком чуткого и потому слишком уязвимого, случился на бале – за три недели до войны.
Что ж ей все вспоминается сегодни война? Будет грустить ни о чем, тайны не растворяются во времени, но лежат в нем до поры. Разве Соломония Роскофа не подает все наследственные признаки склонности к дактиломантии? И хорошо, что она, бабка Соломонии, еще жива – маленькой Нелли Сабуровой способность досталась раньше, чем было ей на пользу.
Скорей бы уж дождаться… Полно, тревоги ее зряшны. Можете, брат и сын, мудрить сколько вам угодно, а у нее, игуменьи древнего монастыря, тоже есть право действовать. И покуда Государь не воротился благополучен в столицу, со своей семьею она распорядится по своему… В давние времена по всему северному французскому краю строились особые храмы – «церкви укрепленные». Не шибко красивые, но зато все село могло переждать в их стенах вражий набег. В некоторых делалась даже специальная каморка для местных жидов. До таких крайностей мы еще не дошли, да и жидов поблизости нету, однако же стены монастырские ничем тем церковкам-крепостям не уступят.
– Матушка, матушка, едут! Карета в воротах!
– Одна карета? – Мать Евдоксия уж оглядывалась в поисках своей шали. – Что еще за новости, или отстали в пути? Сказано же было, держаться всем вместе!
Но шаль еще не была наброшена, когда надобность в ней отпала. Грохот мальчишеских шагов уж достиг передней.
– Бабушка! – радостно выпалил Егор.
– Матушка! – одновременно с ним воскликнул Сережа.
Не умея разобраться, чье обращение было правильнее, внуки переглянулись и прыснули смехом.
Не сдерживая улыбки, мать Евдоксия положила одну руку на золотую голову Егора, а другую – на каштановые кудри Сережи. Обрадованные столь великолепным приключением, как нежданные вакансы, мальчики сияли. Игуменью они не боялись нисколько.
Зато во взгляде матери Наталии, обращенном на мать Евдоксию, читалась неподдельная испуга и какая-то оторопь.
– Выросли, молодцы, – сдержав нетерпение, проговорила игуменья. – Вот что, бегите-ко к матери Игнатии. Скажете, я благословила попробовать, хорошо ли удалось мороженое.
– Ух ты, мороженое!!
– Мороженое, виват! Приказ атаковать!!!
Школьников и след простыл.
– Что случилось, мать Наталия? – ровным голосом спросила мать Евдоксия.
– Там… Молодой человек, что привез ребятишек… Просит принять…
– Так и что из того? – не поняла игуменья.
Словно отчаявшись объяснить что-либо словами, мать Наталия только махнула рукой.
– Ну, право слово… Проси!
Вошедший, возрастом лет тридцати с небольшим, не подошел за благословением, только почтительно склонил голову перед иконами. Серый сюртук, простой белый галстух…
– Да уж, – у матери Евдоксии отлегло от сердца. – Доложу я, сударь мой, всякое повидали эти стены, но вот иезуита в коротком платье лицезреют впервые.
– Не судите строго мадемуазель Лукерью, – вошедший мягко улыбнулся. – Я сумел ее убедить, что мне можно доверить дорожную безопасность моих учеников. Я понял по ее спешке, что вам было желательно как можно скорее увидеть всех родственников в стенах святой обители. Мадемуазель Лукерья направилась из столицы в Кленово Злато и Липовицы. Думаю, мы опередили их всего на полдня, ведь из ваших имений добираться сюда значительно ближе.
– Но что ж я, садитесь, отец мой, сестры хоть и перепуганы преизрядно, но кофей, думаю, сейчас будет. – Мать Евдоксия отметила про себя, что иезуит помнит, где расположены имения учеников. Да, верно говорят, что у них все на заметку. – Весьма любезно с вашей стороны было сделать себе такой труд. Давно ль изволите преподавать у Николя?
– Помилуйте, никакого труда. Кофей был бы верхом милосердия со стороны ваших сестер, в дороге порядочного не выпьешь. У Николя я менее полугода. Как и вообще в России.
– И так хорошо уже владеете русским языком, – заметила игуменья, усаживаясь визави.
– Благодарю, русский мой впрямь недурен, – широкая улыбка священника собрала морщинки в углах голубых глаз. Голубых глаз, смотревших с какой-то мягкой строгостью, или, напротив, строгой мягкостью. Чем-то знакомы, слишком знакомы были эти глаза. – За всеобщим замешательством я забыл представиться, простите великодушно. Я – аббат…
– Морван!! – Елена Кирилловна вскочила было, схватилась рукою за сердце, медленно опустилась вновь. – Ничего-ничего, Филипп, это от радости! Господи помилуй, такой радостью и убить можно в мои-то годы! Дай обниму тебя, покуда не видит никто!
Но не обняла, вместо этого стиснула обеими руками лицо молодого священника, опустившегося в тревоге на пол перед ее креслом. С жадностью вгляделась в знакомо-незнакомые черты.
– И мать, и отец, всего вперемешку! Сами-то как, говори скорей! Живы? Здоровы?
– Благодарение Богу! Мать уж тоже давно бабушка, шестеро внуков, – аббат Морван также казался взволнованным. Взгляд его, обращенный на мать Евдоксию, сиял каким-то совсем уж мальчишеским восхищением:
– Воистину, вас ли я вижу своими глазами – героическую молодую шуанку и девочку-демонобоицу?
– Полно, Филипп, полно… Как раз давеча я думала, что все сие было ровно и не со мною. Ты видишь игуменью сей обители – и только ее.
– Не знаю, каковое из трех обличий краше, но все сопряжены друг с дружкой неразделимо.
– Не попеняешь старухе, что называю тебя «на ты»? Ты мне почти что сын.
– Вы вправе меня так называть и по иной причине. Через обоих моих родителей я связан с вами двойными вассальными узами. Нужно ли добавлять, что вы вправе располагать мною?
– Благодарю тебя, друг мой. Ты явился кстати. Ну, наконец, и кофей прибыл!
Мать Наталия, вполне оправившаяся от изумления, внесла поднос с кофейником и чашками. Присутствовали также и сладкие пирожки, а сахар был наколот с ювелирным изяществом – надо думать, дабы не посрамить обитель в глазах чужестранца. Знали б сестры, что сей француз-иезуит – сын Прасковьи из села Сабурово!
– Зачем же ты теперь в России, Филипп? – спросила игуменья после того, как молодой священник несколько подкрепил силы. – Впрочем… можешь не говорить, догадалась.
– Не сомневался и мгновения, что догадаетесь. Конечно, я прибыл поклониться святому королю. О прошлый месяц мне уже довелось совершить сие пилигримство… паломничество в Москву. Ну и к тому же… – священник замялся. – Дела орденские в России не слишком хороши. Я был рад, когда представилась возможность послужить тут.
– Знаю, знаю… – игуменья сделала вид, что отпила еще глоток. Сердце еще частило от неосмотрительного сделанного предыдущего. – Екатерина Великая ценила опыт борьбы с каменщиками, накопленный Орденом Иисуса. Увы, при нынешнем помазаннике масонство вновь подняло головы. Ты, мнится мне, отче, здесь не вполне легален?
– Наполовину, – усмехнулся отец Филипп. – Как католический священник и преподаватель у Николя – вполне. Как коадъютор – тайно. После указа от 1820 года иначе и невозможно.
– Все наоборот делает против бабкиного! Ну да ладно.
– Могу ли я задать один вопрос?
– А можешь и не спрашивать, и так отвечу, – игуменья негромко рассмеялась. – Да, причина потаканья лености моих внуков тобою, отче, угадана. Боле двух десятков лет тому, как ты знаешь, французскими каменщиками был украден мальчик. Второй раз я такого не потерплю. По стране идет смута, и покуда оная не уляжется, все беззащитные члены семьи моей останутся здесь, в этих стенах, что не однажды укрывали Сабуровых и де Роскофов.
– Я буду в отпуску сколько потребуется. – Отец Филипп улыбнулся. – Заодно позанимаюсь немного с мальчиками, чтоб жизнь им не казалась вовсе уж мёдом. Точнее – мороженым. Быть может, коль скоро я сейчас единственный мужчина, мне имеет смысл патрулировать ночами стены? Оружия я с собою прихватил. Стрелок я меткий и вполне могу лишить боеспособности, не лишая при этом жизни.