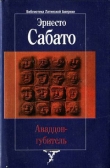Текст книги "Декабрь без Рождества"
Автор книги: Елена Чудинова
Жанр:
Ужасы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 25 страниц)
– Ну, мы с сестрами, положим, тоже не лыком шиты, – игуменья никак не могла знать, что лицо ее сделалось моложе лет на десять. – Арсенал и свой имеется. А все ж благодарю. Обсудим вечером, много у меня к тебе вопросов, и праздных, и дельных. Хотя думаю, часть из них ты оставишь без ответа. Впрочем, я их тебе и не задам, маленькой Филипп. А теперь ступай, расположись, где мать Неонила благословила. Чай, устал с дороги-то.
Но откланяться священник не успел. Снаружи вновь сделалось шумно, шум достиг двери, растворил ее, проникая уже в покои.
Первыми вошли Ольга Евгеньевна с маленьким Антошей на руках и Соломонией, наряженной в синюю тальмочку и синий капор, необыкновенно шедшим к ее золотым волосам. За ними следовала Прасковья Филипповна. А за Прасковьей Филипповной, с видом равно смущенным и счастливым – Арсений Медынцев.
Глава XVIII
Куда ж запропастилась эта книга авторства сэра Вальтера Скотта? Луша стояла почти под потолком монастырской библиотеки – на шаткой лесенке. Оно и понятно, в монастыре, хочешь не хочешь, а мирские книги забираются на самые дальние полки. Но она готова была поручиться, что знает, где искать два темных кожаных томика, напечатанных в осьмушку листа. «История Шотландии», превосходное чтение для школьников. Ага, вот она, голубушка! Нет, сие только первый волюм. Кто тут самоуправствовал, кто разъединил книгу? В ее, Луши, отсутствие что-нибудь искали, как пить дать.
На широком столе внизу книги уже лежали стопками. По просьбе аббата Морвана Луша насобирала всего, что могло бы сгодиться для занятий с Сережей, Егором и Соломинкой. Прежде всего, конечно, лексиконы.
Как оно все устроилось за какие-то сутки, лучше и не надо. Впрочем, обычное дело в обители. Иной раз столько паломников наедет, что голова кругом. А так ли иначе всё утрясается. Так и теперь. Всем нашлось место: и обеим дамам, и детям, и Медынцеву, и иезуиту, и няньке, и четверым чрезмерно бравым молодцам из дворни, коих привезла с собою Ольга Евгеньевна. Дворовые устроили нечто вроде караула на стенах – по двое. Иногда к ним подключаются то Медынцев, то иезуит. Так, стало быть, надобно. Прасковья Филипповна помогает матери Игнатии, Ольга Евгеньевна собирает последние яблоки с матерью Неонилой. Малютка Соломка не вылезает из покоев игуменьи. Осталось только засадить мальчиков за книги, чтоб не начали ходить на головах.
Хорошая книга – «История Шотландии»! По привычке, о которой не подозревала самое, Луша раскрыла томик, чтоб проглотить, не слезая со стремянки, пару страниц.
«А жена коменданта крепости укачивала ребенка и пела ему песенку.
„Спи, дитя мое усни,
Глазки сонные сомкни!
Черный Дуглас не придет,
Сон малютки не прервет!“
„Ошибаешься, женщина“, – сказал невысокий темноволосый человек, шагнув из оконной амбразуры в комнату».
– Прошу прощения, mademoiselle Прохорова.
Книга, вылетевшая из дрогнувших рук, падала долго, трепеща, словно бабочка, плотными лиловыми страницами.
Роман Кириллович, одетый по-дорожному, поймал ее на лету.
– Я рассчитывал застать тут мать игуменью. У меня не больше полутора часов, я заехал по дороге в Таганрог. Пришлось изрядный крюк сделать. Мне сказали, она шла сюда.
– Матушка здесь была. – В горле вдруг пересохло. Луша попыталась сообразить, насколько покажутся ноги, если она будет спускаться. Принесла же нелегкая! Вот уж без кого легко можно бы тут обойтись. – Но в ближайший час ее нельзя беспокоить. Мать Марфа опять больна, у них с матушкой сериозный разговор в ее келье.
– Се-ри-оз-ный, – Роман Сабуров улыбался, протягивая кверху книгу. – Эко ж вы старомодны, mademoiselle Прохорова.
– Не гонюсь за модами, – Луша все же начала сходить вниз. – И отчего вы, Роман Кириллович, меня так величаете? Я просто Лукерья, Прохорова дочь, что превосходно вам известно.
– Мне известно, что вы – решительная и образованная особа, вполне доверенное лицо моей сестры. – Роман Кириллович протянул свободную руку, чтобы помочь девушке сойти с лесенки. Луша отшатнулась. – Вот только не пойму, отчего вы так не жалуете меня. Уж не влюбились ли ненароком?
– Боже упаси!! – выпалила Луша со столь неподдельной искренностью, что озадаченный Роман Кириллович даже отступил от нее на шаг. Впрочем, быть может, он сделал это единственно затем, чтоб полюбоваться, как залились румянцем ее щеки.
Но Луша уж успела взять себя в руки.
– Простите великодушно, не хотела сказать ничего обидного. Но и шутка ваша не уместна, Роман Кирилыч. Я живу в обители, мечтаю о подряснике, вам сие, поди, не в новость. Какие уж тут влюбленности?
– То есть противу меня лично вы ничего не держите?
– Ни в коей мере.
– Позволено ль мне будет спросить, отчего тогда при моем появлении все у вас валится из рук? Теперь вот книгу уронили, в Сабурове, куда сестра вас посылала поработать в архив, расколотили чашку. Помните, три месяца тому? Понимаю, что не должен был появляться в собственном дому без предупреждения, однако вы не производите впечатления пугливой особы. Влюбленность вы отвергли…
– Роман Кирилыч, пристойно ли шутить о влюбленностях с девицей, которая вам никак не ровня? – Луша наконец решилась вырвать книгу из руки Сабурова.
– Если в шутке нет правды, в ней нет и обиды. Куда вы, mademoiselle Прохорова? Спасаетесь бегством?
– Я иду за игуменьей.
– Вы только что сказали – она занята. Не будьте невежливы, займите гостя. Вы по-прежнему хотите уйти?
– Я принесу вам кофею. Или вы предпочитаете чай?
– Я предпочитаю чай, но мне его не нужно. Mademoiselle Прохорова, я не помню, когда высыпался в последний раз. Быть может, от этого я не вполне человеколюбив. Но, коль скоро игуменья еще не освободилась, я хотел бы дознаться, почему вы демонстрируете мне всю мыслимую для воспитанной особы неприязнь? Если вы, благодарение Богу, не влюблены в меня, отчего шарахаетесь, как ангел от серы?
– Экое роскошное mot! Приберегите его для тех, кто способен оценить! – Луша изо всех сил пыталась сдержать себя, но слова рвались, яростно рвались наружу. – Хотите правду?! Вы мне отвратительны! До того отвратительны, что я не могу с вами в одной комнате находиться, меня трясет! Да от вас разит войной, Роман Кирилыч! Уж я-то эту вонь знаю… Французы дважды шли через Липовицы – летом и зимою!
– Mademoiselle Прохорова, я французов, между прочим, воевал. – Сабуров тем не менее не казался обиженным. Вид глубокого внимания чуть смягчил черты его лица. – Вы, я чаю, азы логической науки проходили. Ну и где у вас хоть житейская логика? Отрадно, что вы не валите грехи республиканской шатии на весь народ французский и говорите на его наречии не без успехов, но и все же: шли враги, а я свой. Объяснитесь.
– Попробую. И простите меня, – Луше сделалось слегка не по себе, то ли из-за ярости своих выплеснувшихся чувств, то ли из-за странного терпения Сабурова. – Вправду простите, я не шучу. Вы не виноваты в себе самом. Просто… Просто я чую всегда в вас это… Я несправедлива, я знаю, что ваши войны всегда на правой стороне, но война вам – как рыбе вода…
– Начинаю понимать… «Повсюду мир, а все ж со мною еще немножечко войны, Пусть тот ослепнет, чьей виною Мы были с ней разлучены!» Так?
– Да.
Оба стояли под переносною лесенкой, словно гобеленные пастушки – под деревом. Луша пыталась укрыться за нею, словно ценя хоть какую-то преграду между собой и собеседником.
– Я не похож на Бертрана де Борна, дитя, – по-прежнему мягко произнес Роман Кириллович. – Он наслаждается войной. Больше, нежели женщиной или вином.
– А вы? – Луша отступила еще на шаг вокруг лесенки и теперь глядела на него как из-под арки.
– Я отнюдь не испытываю радости, когда убиваю врагов.
– Да вы вообще ничего не чувствуете, а это еще хуже. – Луша зачем-то прижала к груди «Историю Шотландии». – Хотя не совсем. Разве не обращаетесь вы с орудьями человекоубийства как с домашними любимцами? Разве не гладите вы пушки, не похлопываете по прикладу ружья? Не разговариваете с ножом?
– Откуда ты знаешь? – с удивлением спросил Сабуров. Не без удивления смотрел он на девушку, столь безыскусно признающуюся ему в своей неприязни. Необычайно хороша была она в этом оживлении чувств. Одетая более чем просто, в серую юбку и серую же блузу, пошитые из какой-то невзрачной ткани, названия коей Роман Кириллович, понятное дело, не знал, обута она тем не менее была прекрасно: в легкие башмачки по последней моде – из подметки проклевывался небольшой каблук. Серый плат нестрого покрывал ее льняные волосы, собранные в простую толстую косу. Как же красиво оттенял унылый наряд ее разгулявшийся румянец!
– Не знаю, откуда знаю, – продолжала между тем Луша. – Чую. Вы гладите какую-нибудь пушку рукой, как борзую… А приятно ль поглядеть на нее со стороны жерла? Того, что выплевывает ядро, способное превратить прекрасное тело человеческое, творение Божье, в безобразное кровавое месиво?! Роман Кирилыч, поймите, я не говорю, что вы плохи, что вы неправы, я помню, что вы – защитник Отечества, превосходно я это помню, да и не мог бы быть родной брат нашей матушки чем-то иным?! Но в вас – слишком много смерти. Той смерти, которую несут в мир мужчины… В вас ее – больше, чем в ком бы то ни было.
– Так я, стало быть, кажусь вам чудовищем? – как-то невесело усмехнулся Сабуров.
– Нет, – Луша стиснула свободную руку в кулачок. – Вы и есть чудовище, Роман Кирилыч.
– И чудовища иной раз стерегут красавиц, mademoiselle Прохорова, – в чертах Сабурова проступило странное волнение. – То, чему служу я, – красиво и истинно. Неужто это меня нимало в ваших глазах не делает привлекательней?
– Роман Кирилыч, простите, Христа ради, – Луша опустила глаза. – Я не имела права сейчас так говорить с вами. Ни по летам моим, ни из того, что сестра ваша – моя драгоценная благодетельница.
– А вы любите мою сестру, mademoiselle Прохорова? – какая-то новая мысль затеплилась в глазах Романа Кирилловича.
– Она лучше всех на свете! – пылко воскликнула девушка. – Как бы я хотела на нее походить, только походить на нее – невозможно, потому что другой такой не может быть в Натуре! Да я умерла бы за нее десять раз!
– Я бы тоже, – тихо сказал Сабуров.
– Ан вот ты где, Роман, – произнесла мать Евдоксия, входя.
Она словно бы не заметила смущенного вида Сабурова и Луши.
Вид же о обоих между тем отчего-то был таков, будто их застали на чем-то решительно неподобающем. Впрочем, Роман Кириллович бы в последнем случае смутился куда менее.
– Вы прежде меня побеспокоились, матушка, – наконец заговорил он. – Я и сам хотел всех отправить сюда, только вы опередили. Но из чего здесь Медынцев? Увивается за Панной? Я ему не доверяю.
– Доверься мне: он здесь не только поэтому, Роман. Ты, я слышала, ненадолго?
– На полчаса по моему брегету. Лена, а что ты так сияешь? Простите, матушка, случайно сорвалось.
– Бог простит. – Игуменья улыбалась. – А причина радости у меня есть. Отсудила я, Роман, рощицу, что еще в осьмидесятых годов от нас в казну отрезали. Теперь сестры не будут мерзнуть зимой-то. Вот и веселюсь.
– Хорошее дело.
– Я, матушка, отнесу учебники мальчикам, – Луша, подхватив несколько книг, выскользнула из библиотеки.
– Мне нужны все мыслимые противоядия, – Роман Кириллович принял обычный свой сосредоточенный вид.
– Тотчас же распоряжусь. Но только вот что, Роман… Не так уж и много противоядий, что помогают, когда уж организм отравлен. Да и вообще противоядий не так много, и они слабее ядов. Не обольщайся на сей счет.
– Без того всё делаем, чтобы яд ему не достался. Что случилось? – вертикальные морщины на лбу Романа Кирилловича проступили четче. – Лена, я вижу, что-то не так?
На сей раз он даже не заметил своей оговорки.
– Арсений был перед нами у Платоши, – медленно проговорила мать Евдоксия. – Государь уже болен. Болен не по-хорошему.
– Где Медынцев? – тут же спросил Роман Кириллович.
– На стене, дежурит.
– Ясно. Прости, распорядись, чтоб все лекарства были собраны побыстрей.
Через мгновение Романа Кирилловича уже не было. Вопреки его просьбе игуменья немного промедлила, глядя на свежие завалы выбранных Лушей книг.
– Хоть и грех средь таких волнений думать о собственной родне, – наконец проговорила она тихонько, улыбаясь, – а все ж я рада. Наконец-то нашлась, братец, на тебя управа. Ты ведь попался, теперь не убежишь.
Глава XIX
– У нас, венгерцев, отвращение к католичеству дается от рождения, ведь католическая вера связана с проклятыми Габсбургами…
Под окнами гостиничного нумера шумел Невский проспект. Не спасали даже зимние рамы. Впрочем, троим собеседникам, сидевшим в покойных креслах, шум сей, видимо, не слишком докучал. Темноволосый иностранец лет тридцати, изъяснявшийся по-французски с легким акцентом, впрочем, нисколько не вульгарным, курил сигару. Кондратий Рылеев и третий участник разговора – невысокий мужчина лет пятидесяти, отдавали предпочтение трубкам.
– Воистину, достойно восхищения, как герой ваш Ракоци, с малолетства отданный на воспитание иезуитам, остался в душе протестантом и ненавистником Габсбургов, – вежливо изрек Рылеев.
– Э, бросьте! К чему церемонии между братьями! – молодой венгерец, чьи черные кудри были модно приподняты над челом и приглажены с боков, с наслаждением прополоскал рот ароматным дымом и выпустил его. – Ракоци был премерзкий тип, честно-то говоря. Так перетрусил, когда крестьяне молили его возглавить восстание против австрияков, что бежал от собственных рабов сломя голову до Вены. А в Вене валялся у тирана в ногах, сам просил забрать в казну все родовые земли взамен любых других… На месте тирана я б так с ним и поступил. Когда же восстание поднялось, во главе его Ракоци поставили две вещи – обстоятельства и, конечно, происхождение из известной мятежной фамилии. Народ любит мятежных феодалов, и всегда готов подставлять за них лоб и бока. Что, собственно, ему и осталось, когда вождь со свитой прохлаждался при чужеземных дворах. «Князя Ракоци не кину, уезжаю на чужбину…» Еще бы кинуть, кто меняет пирог на кнут, а сало на топор?
– Представляется мне, я читал труд ваш о Ракоци, где в несколько ином ключе цитировали вы сии строки, – с сомнением произнес Рылеев.
Дребезжащий смех, слетевший с уст третьего собеседника, казался немного высоковат для мужчины. Как и голос, что, однако, не производило неприятного впечатления. Сам он казался столь сухощав, что и голос словно бы усох немного. Русые волоса его, подстриженные довольно коротко и вовсе не на модный лад, были жидки, но проплешины еще не прятали. Глаза, выцветшие с годами, некогда голубые, теперь казались прозрачными, цвета горного хрусталя. Взор их был доброжелателен и кроток. Был он из тех людей, что, нимало не имея в наружности женственного в молодых годах, старея, обретают нечто старушечье.
– И память вас не подвела, – произнес он, отсмеявшись. (Его французский не вызывал никаких сомнений – так изъясняются только германцы.) – Для восстаний необходимы герои. Своя ль окраска перьев ярка, пришлось ли поработать кистями и красками – не суть важно. Брат наш Ференц, понятное дело, всячески своего теску расхваливает.
– Увы, лично мне лицемерие претит, но признаю его необходимость… – пробормотал Рылеев.
– Ни мгновения не сомневаюсь, что вы умеете, когда необходимо, склониться пред суровостью необходимости, – венгерец доброжелательно рассмеялся, показав сверкнувшие под темными подвитыми усиками великолепные зубы, нимало не потемневшие от пристрастия к сигарам. Видимо, они подвергались наитщательнейшему модному уходу. – Как оно, бишь?..
Румянцев, Миних и Суворов,
Волнуют в нем и кровь и ум,
И искрится из юных взоров
Огонь славолюбивых дум.
Проникнут силою рассказа
Он за Ермоловым вослед
Летит на снежный верх Кавказа
И жаждет славы и побед.
Я не спутался? Экое славословие в адрес романовского волчонка!
– Вы знаете русский язык? – неприятно изумился Рылеев.
Напротив того, молодой венгерец сделал наиприятнейшую мину.
– О, я вообще легко схватываю языки! Ну что, брат Кондратий, удалось мне вас смутить?
– Нимало, – огрызнулся Рылеев. – Общий смысл виршей – гуманистическое наставление.
– Адресованное к сопляку, которому не судьба даже повзрослеть, – фыркнул венгерец.
– Признаюсь, я ничего не смыслю в поэзии, но, уж коли читать стихи, так обязательно было бы перевести для понимания всех присутствующих лиц, – тонко улыбнулся немец.
– Прошу великодушно прощения, дело того не стоит, – еще раз блеснул зубами венгерец. – Я всего лишь отдал дань восхищения пиитическому дару нашего брата.
– Увы, я вынужден тогда перевести беседу нашу в иное русло, – с мягкой укоризной заметил немец. – Хотя нимало не сомневаюсь, что таланты нашего дорогого русского брата превосходны. Брат Кондратий, я должен говорить с вами. Брат Ференц уполномочен при сем присутствовать, я доверяю ему, как самому себе. Это разговор не с членом «Пламенеющей Звезды» либо ложи «Трех Добродетелей», но как с главою Северного общества, занимающего в обеих ложах весьма подчиненное положение. Ласкаюсь надеждою, вы понимаете меня?
– Я понимаю Рыцаря Медного Змея, – холодно отвечал Рылеев, глядя не на собеседника, а через голову его – на Невский проспект в раме оконных стекол.
– О нет, мой друг, вы не вполне понимаете… – Немец зачем-то вытянул левую руку: на ее мизинце красовалось широкое кольцо с привычным изображением Адамовой головы. Рылеев проследил направление его взгляда – и недоуменно пожал плечами.
– Позвольте, у меня, кажется, есть то, что вам необходимо, – венгерец принялся искать что-то по карманам. Искомое, обнаружившееся во внутреннем кармане сюртука после нескольких минут поисков, во время коих все трое хранили молчание, приобретающее всё большую многозначительность, оказалось вещицей несколько неожиданной, но никак не таинственной – ювелирными щипчиками.
– Благодарю, – немец стянул кольцо с пальца. – А ведь вы, брат Кондратий, слишком молоды, дабы помнить, как за оное украшение в вашей стране можно было угодить под расследование.
– Память о том довольно сильна, я разумею общественную память. – Рылеев не отрывал взгляда от рук собрата.
Немец отогнул щипчиками лапки, сжимавшие крупный черный гагат с серебряным черепом. Под камнем в кольце оказалось эмалевое украшение, изящное по выполнению, но не по замыслу. Черно-белый рисунок являл собою розетку, вписанную в треугольник, вписанный в свой черед в усеченный круг, обрамленный какими-то башенками и флажками. С внутренней стороны круга тоже шли какие-то асимметричные изображения – совсем уж мелкие.
– Вот так, – германец, сложив камень и щипчики в собственный карман, вновь надел кольцо. – Так разговор пойдет веселее.
Рылеев невольно прижал ладонью запрыгавшую челюсть. Лицо его сделалось землистым.
– Не может быть… – почти шепотом произнес он. – Превосходный Князь Царской Тайны!
Тонкие губы старого масона едва дрогнули в улыбке. Он казался человеком, слишком привыкшим к неограниченной власти, чтобы получать от нее тщеславное удовольствие.
– Что вас удивило, брат? – вмешался венгерец непринужденно. – Разве мы не на пороге великого общественного сотрясения? Разве оно не заслуживает самого высокого внимания?
– Да… – Рылеев словно бы справился с собою. – Вы здесь, дабы не повторить французских ошибок. Опыт Франции нас многому научил. У России не будет своего аббата Баррюэля, чтобы изобличить нас, и своего Наполеона, дабы вернуть стране попов.
– Вы говорите как профан! – немец недовольным жестом бросил курительную трубку и поднялся.
– Слово графа Тёкёли, я бы под сими словами подписался. – Венгерец нахмурился. – Просветите, брат.
– Ищущий свет находит. – Пожилой масон в задумчивости прошелся по гостиной. – Ладно, по счастью, у нас есть немного времени. Речь, понятное дело, не об Огюстене Баррюэле. Нужды нет, сей слишком многое разузнал. А все ж не всё. Молодые мои братья, наша сила в том, что о нас говорят. Чем больше противуречий между говорящими, тем мы безопасней. Все профаны заметили, что обряд Непостижимого Божества, жрецом коего выступил Максимилиан Робеспьер, скроен был из масонской материи. Но главное прошло мимо их внимания. В период якобинского террора страна не была нами контролируема. Какие бы обряды ни практиковал Робеспьер, машина истребления при нем не слушалась, по сути, никого. Это был выпущенный из бутылки джинн, вы знаете арабские сказки, в коих собрана мудрость великого Востока… Гильотина хватала кого ни попадя, пострадали многие наши братья, увы. По счастью, когда гильотине был скормлен нами сам Максимилиан, положение начало налаживаться.
Рылеев слушал внимательно, но, сам не зная отчего, наблюдал краем глаза за Ференцем Тёкёли. Венгерец не был ему симпатичен. Хочет казаться повесою, но отчего сопровождает столь важную особу? И взгляд этих черных глаз, слишком пристальный, по-змеиному неподвижный… Должен бы вызывать недоверие, но отчего-то под взором этим, напротив, тянет говорить лишнее… И кое-что из сказанного весьма охотно Кондратий Федорович взял бы обратно.
– Таким вот образом, непременно нужно было выводить на доску новую фигуру… – продолжил между тем немец.
– Каковая забрала потом слишком много власти? – быстро спросил Тёкёли.
– Полноте. – Старый каменщик жестко усмехнулся. – Кто б ему дал?
Кондратий Федорович торопливо перебрал в памяти известных ему масонов в окружении Наполеона Бонапарта. Выходило изрядно. Жером и Луи Бонапарты – оба брата Наполеона. Жером так и вовсе стоял во главе Великого Востока Франции… Все его маршалы – Ней, Мюрат, Ожеро, Мортье… Да, пожалуй что неизвестно, кто кого направлял. [11]11
Количество лож Великого Востока Франции при Н. Бонапарте увеличилось с 300 (на 1804 г.) до 1219 (на 1812 г.).
[Закрыть]Но зачем тогда эти игры с Папой?
– Пусть профаны называет Наполеона спасителем католичества, – словно угадав мысли Рылеева, продолжил немец. – В добрый час! Суть-то дела всего лишь в том, что невозможно перебить всех попов без изъятья. Нужны были другие методы. Во Франции Наполеон преловко стравил их меж собою! Друзья мои, молодые мои братья – когда католическая Церковь благословила культ человека, это было худшим из ее поражений! А Наполеон между тем двинулся куда? – на Испанию да на Россию. В дикие страны, набитые монастырями. Жаль, что все так закончилось, ну да нового отца народов благословят православные попы.
– У старших братьев есть какие-либо волеизъявления о том, кому быть русским Наполеоном? – Рылеев помрачнел. Похоже, что большой ожидаемый денежный перевод на счет Русско-Американской компании будет с ложкою дегтя.
– Ни малейших, друг мой, ни малейших! – немец вновь засмеялся своим чуть дребезжащим смехом. – К чему вмешиваться в естественный ход вещей? Наполеон Бонапарт поднялся действительно сам.
– Восхищаюсь русскими братьями, – Тёкёли принялся выбирать новую сигару. – Оглядываясь на Францию, скажу по чести – сам бы предпочел заварить такую кашу не на родине, а у австрияков.
– Лес рубят, щепки летят, – Рылеев нахмурился, но тут же отворотился от венгерца к немцу. – Верно ли я понял, брат, что мое нетерпение знать, для чего вы изволили прибыть лично, может быть удовлетворено?
– Ни с властью, ни с политикой, ни с интересом денежным сие не связано. – Масон поднялся из кресел. – Не тревожьте себя напрасно, брат. В свое время вы все узнаете – если, конечно, раньше не поймете сами.
Вид главы Северного общества сделался мрачен.
– На вашем месте и в ваши годы я б тоже мне не поверил, – смех германца прозвучал куда как мягко. – Как бы мне убедить вас, брат Кондратий, что высочайшие из братьев уже не ищут суетных благ? Послушайте, молодые друзья мои, старую нашу притчу. Некий брат с младых лет посвятил себя поиску Истины. Много дорог прошел он в поисках дороги в ее чертог, и ничто ни единого раза не отвлекло его от поисков. Он проходил сквозь дремучие леса, проходил горными кряжами, морскими побережьями и болотами. Власы его поседели в пути, а он все искал. И вот поиски его увенчались успехом. Он дошел до чертога, где на сияющем троне сидела Истина. В нетерпении путник бросился к ней, дабы узреть ее лицо. Но в ужасе остановился на пороге. Лицо Истины было отвратительно и неимоверно безобразно. Любое человеческое безобразие уступало ему. В отчаянье путник упал на пол, раздирая на себе одежды. «Я нашел тебя! – крикнул он наконец, обращаясь к Истине. – Но как смогу я рассказать людям о том, какова ты на самом деле?!» Истина посмотрела на него и улыбнулась безобразною улыбкой. «А ты солги», – сказала она.
Кондратий Рылеев, давно уж оставивший свою трубку, собрал все силы, дабы придать лицу выражение вежливого внимания. Присутствие верховного каменщика продолжало оставаться для него неприятною загадкой. Чего такого могут потребовать верхи иерархии, чего нельзя было бы получить через вторых, третьих, десятых лиц? Зачем, подвергая свою, что уж говорить, весьма ценную особу ненужному риску, въезжать в страну накануне мятежа? Пусть даже под видом незначительного частного лица, но ведь никто не может быть совершенно безопасен в сем городе, когда вступит в действие его, Рылеева, план, а уж тем паче – план Якубовича! Да еще травит эти дурацкие мистические байки! Нашел время, не в ложе ведь выкаблучиваемся, а делом заняты.
– Я запомню сию историю навсегда, – с неожиданной серьезностью произнес Тёкёли. Стоя у окна, он щелкнул крышкою часов, не брегетом, а какой-то неизвестной Рылееву работы. Кондратий едва не поморщился, так вульгарно сверкнули при этом движении крупные бриллианты. Хорошо, что Рылееву с его места не оказалась видна внутренняя рамка из сапфиров с рубинами, обрамлявшая миниатюру, вправленную в испод крышки. Как и следовало бы предположить, это был портрет женщины. Женщина казалась лет двадцати пяти. Темные, как вороново крыло, волоса ее были собраны в изысканно простую прическу, карие глаза смотрели властно, чувственные губы хранили надменную складку. Редкая красавица, женщина нимало не наводила своим видом на мысли о кротости, доброте и милосердии, присущим ее полу. Впрочем, и недоброй она тоже не казалась – просто надменной.
– Между тем, брат Кондратий, уже третий час пополудни, – произнес он, еле скользнув по миниатюре взглядом. – Вы б не были недовольны, коли мы заедем теперь в Русско-Американскую компанию, не так ли?