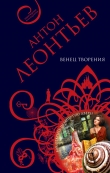Текст книги "Не все мы умрем"
Автор книги: Елена Гордеева
Соавторы: Валерий Гордеев
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 25 страниц)
А вечером вдруг пропадает, возвращается под утро. На следующий день уголовная хроника: убит председатель правления Банка развития столицы Горчаков.
Евгения решила, что телевизор выключать нельзя даже на ночь. С последним выпуском новостей ложилась, с первым вставала. Когда выходила в сад, увеличивала громкость, чтобы чего-нибудь не пропустить. На сообщение об убийстве главного бухгалтера Банка развития столицы выскочила из ванной в мыльной пене. Лентяй испугался и тяфкнул.
Еще через несколько дней Герман дарит ей вечернее платье. Евгения открыла коробку и вынула оттуда черный струящийся шелк от Кензо. Платье было до пола, спина открыта. Очень элегантное платье. К нему прилагалось и меховое манто из норки. Евгения гладила мех и вертелась перед зеркалом, заглядывая себе за спину.
Герман осмотрел свою даму и остался доволен.
– Тренировки пока отменяются, я приглашаю вас завтра в ресторан. Почистите перышки, приведите себя в порядок – вы должны быть неотразимы. Едем в «Метрополь».
Евгения не спросила: зачем? – хотя как женщина умирала от любопытства. Просто так в ресторан он не ходит. После этого что-то должно случиться.
Осенним вечером, ежась от холодного ветра, Евгения шла по саду в длинном платье, в накинутом на плечи меховом манто, одной рукой приподняв подол, а другой держась за Германа, который был в смокинге и при бабочке – строен, высок, в лаковых туфлях, но по колена в жухлой крапиве. Евгения искоса на него поглядывала и думала, что определяющим в его облике является не приятность черт, не мужская красота, а порода. Явно за ним стоят несколько поколений родовитых предков. И в смокинге эта порода настолько бросалась в глаза, что Евгения притихла.
Впервые ее посетили мысли, что в Москве у него может быть семья: жена, дети. Наверное, он иногда с ними видится, когда бывает здесь. Евгения представила себе, как раздается звонок в дверь, женщина смотрит в глазок, ахает, дверь открывается, на пороге стоит Ежик. Жена бросается ему на шею.
Евгения опустила глаза на Лентяя, который провожал их, и подумала: он-то точно знает, есть ли у него жена или нет, он бы ее унюхал…
А если жена вообще не в курсе, что он бывает здесь? Если ей знать это не положено? Как тогда? Евгения вдруг улыбнулась и прыснула. Герман повернул голову и всмотрелся в ее лицо: о чем она мечтает?
А она просто вспомнила эпизод из фильма «Семнадцать мгновений весны», когда Штирлицу показывают в кафе его жену. Осталось только Штирлица заменить на Германа. Ежик мужественно, с непроницаемым выражением лица пьет у стойки бара спиртные напитки, а жена на него любуется: красивый, высокий, породистый, но, можно сказать, не ее. Вот здесь Евгения и прыснула, а Ежик так и не догадался почему.
Он открыл гараж; Евгения увидела старый, облупленный «Москвич» и прыснула вторично.
– Мы на нем поедем в «Метрополь»?
– Да, остановимся прямо у столика. Я помогу вам выйти.
Евгения ехала молча до тех пор, пока они не пересели в «Линкольн». Она озиралась в салоне шикарной машины, нажимала какие-то кнопочки, на панели мигали какие-то лампочки; Герман с трудом сдерживал улыбку. Ну ничем его не прошибешь! А Евгению вдруг прорвало:
– Хорошо, я была не права. «Линкольн» для «Метрополя» вполне подходит. Но все-таки объясните мне, что я должна в ресторане делать? Четко поставьте передо мной задачу.
– Странная вы все-таки женщина: не можете жить без четко поставленной задачи. От вас требуется только одно: непрерывно говорить, глядя на меня влюбленными глазами. Сможете?
– О чем говорить?
– Ну представьте себе: зал, огромные зеркала, хрусталь, шампанское, музыка, танцуют пары. О чем еще могут говорить мужчина и женщина в такой обстановке? О любви, конечно. Только не называйте меня по имени. Например, дорогой, любимый, единственный или что-нибудь в этом роде. Что вам подсказывает сердце.
Евгения закусила губу и задумалась.
– Вас устроит «Метафизика любви» Артура Шопенгауэра?
– Безусловно! Там такого еще не слышали.
Они остановились у гостиницы. Сердце Евгении трепетно билось, когда швейцар открывал перед ними стеклянные двери, билось, когда Герман снимал с ее плеч меховое манто; она смотрела на себя в зеркало, сзади стоял высокий мужчина в смокинге, и руки его лежали на ее плечах, он улыбался ей, а она думала, что Михаил Анатольевич никогда не вызывал в ней таких эмоций: восхищения, трепета и желания нравиться. С восхищением и трепетом Евгении все более или менее было ясно, да и как такой человек мог вызвать другие чувства, если он защищает тебя, спасает от смерти да еще предлагает услуги по устройству новой жизни? Как тут не восхищаться и не трепетать? От Михаила Анатольевича такого ждать по крайней мере странно; это за пределами его возможностей.
А вот как быть с желанием нравиться? Евгения решила, что это связано с той задачей, которую Герман перед ней только что поставил, и к мужчине, отражающемуся в зеркале за ее спиной, никакого отношения не имеет.
Когда она поднималась по лестнице, а Герман поддерживал ее за локоть, когда усаживал ее за столик в сверкающем зале, когда делал заказ официанту, называя какие-то блюда, ей незнакомые, а смотрел при этом на Евгению, она больше и больше утверждалась в том, что это лишь проявления той игры, которую он здесь ведет. А когда он попросил, глядя куда-то ей за спину: «Дорогая, подвиньтесь, пожалуйста, чуть левее. Свет люстры чудесно золотит ваши прекрасные волосы, но мне бы хотелось видеть и восхитительные изгибы ваших плеч», – она еще больше уверилась в этом.
И хоть все это было не всерьез, а все равно приятно. Евгения вздохнула и подвинулась. Весь вечер он будет смотреть не на нее, а скорее всего, на какого-то члена преступной организации, а потом этим членом станет меньше. Ее, конечно, подмывало оглянуться, но она понимала, что ни в коем случае этого делать нельзя.
За дальним столиком у окна во всю стену сидели двое мужчин: один, похожий на хорька с мелкими чертами лица и суетливыми движениями, и другой, уже в возрасте, при бородке клинышком, усах и баках; он сидел лицом к Герману, а хорек отражался в зеркале. Вокруг них за соседними столиками расположились охранники; перед тем как состояться этой встрече, они внимательно осмотрели столы и, естественно, никаких подслушивающих устройств под ними не обнаружили. Герман расшифровывал беседу мужчин по их артикуляции и, чтобы это было незаметно, делал вид, что беседует с дамой.
Принесли серебряное ведерко с шампанским, официант наполнил вином бокалы. Герман поднял фужер за прозрачную длинную ножку, хрустальные грани сошлись, раздался тихий звон.
– За нашу любовь, дорогая.
Евгения порозовела и необыкновенно похорошела; официант понимающе улыбнулся и отошел.
Она выпила для храбрости шампанское и слегка воспарила над столом.
«Теперь, мне кажется, я готова, – сказала она про себя. – Начнем».
– На первый взгляд наши чувства не поддаются анализу, – ее голова закружилась под вальс Штрауса, – однако это не так, любимый, – выдала она первую фразу.
Герман бросил на нее быстрый взгляд.
– Те быстрые взгляды, которыми обмениваются мужчина и женщина, таят в себе один-единственный смысл: преодолеть недостатки своей природы, исправив их в потомстве. Так говорит Шопенгауэр. Каждый человек в чем-то несовершенен: один слишком слаб, другой слишком глуп. Вы не замечали, что худым нравятся полные, а высоким – маленькие?
Герман смотрел поверх ее плеч, рассеянно кивая. На его лице опять блуждала улыбка Будды. Он был полностью погружен в созерцание и, казалось, Евгению не слышал. Тогда она хлебнула еще шампанского и перешла на конкретику:
– Вот возьмем вас, любимый. Исходя из вашей конституции, какие женщины, по Шопенгауэру, должны вам нравиться? Вы высокого роста, значит, женщина, которая вам подойдет, должна чуть возвышаться над этим столом, чтобы поверх нее было удобно смотреть.
На лице Германа не дрогнул ни один мускул. Евгения осмелела окончательно:
– Вы стройны, прекрасно физически развиты, у вас нет ни унции лишнего веса. Следовательно, женщина, которая может привлечь ваш взгляд, должна сойти с полотен Рубенса или Кустодиева. Я имею в виду «Чаепитие в Мытищах». Прямо с самоваром.
Никакой реакции.
– Теперь мы коснемся отдельных деталей. Вы должны подыскать себе круглолицую, черноокую, кривоногую и необыкновенно глупую женщину. С ней, и только с ней, вы будете абсолютно счастливы. Надеюсь, вы ничего не имеете против Шопенгауэра, любимый? Помните, как писала Шоу одна актриса, начитавшись, вероятно, «Метафизики любви»: моя красота и ваш ум дадут такое необыкновенное потомство, что нам надо срочно пожениться.
Евгения была настолько увлечена игрой, что не замечала никого вокруг, кроме Германа, – а между тем мужчина с повадками хорька поднялся и пошел к выходу, за ним покинула ресторан его охрана; через некоторое время ушел и его собеседник. И тут Герман полностью переключил свое внимание на Евгению.
– Поженились? – вдруг спросил он.
Евгения смутилась, но тут же пришла в себя.
– Нет, Шоу слегка испугался. Он ей ответил так: сударыня, а если в наших детях сойдутся моя красота и ваш ум, что тогда?
– А что бы ответили вы, если бы я написал вам такое письмо? – Герман коварно подлил ей еще шампанского.
– А что вы хотите исправить? – Сейчас она смотрела на него во все глаза, как женщина смотрит на мужчину, а не философ на объект познания.
– Может быть, глаза? – спросил Герман. – Что-то я им не верю.
Такими глазами Евгения действительно смотрела на него впервые.
– Глаза? – удивилась она и пригубила шампанское, отчего голова ее совершила еще один виток над столом. – Ни в коем случае! Редко у кого бывают такие глаза! Обычно глаза только называют голубыми, а на самом деле они какие-то блеклые, выцветшие. А у вас – другое дело. Если голубые, то как небо, а если синие, то как васильки.
Герман дотронулся до мочки уха и вопросительно поднял бровь.
– Нет, и с ушами у вас все в порядке! Мочка неприросшая – значит, признаков вырождения тоже нет.
– Дорогая, вы меня обескуражили. По Шопенгауэру выходит – жениться мне просто противопоказано, чтобы не испортить свои очевидные достоинства, которые вы так любезно отметили. Что же мне делать? Оставаться всю жизнь холостым?
«Вот оно что! Значит, Ежик не женат. – Она мгновенно протрезвела: – Сколько же ему лет? Тридцать, как ей? Нет, он, конечно, старше. Но ненамного».
– Тридцать семь, – сказал Герман и пожал плечами. – Увы! Чтобы вы мне посоветовали?
– Безусловно, ваш случай в чем-то уникален. Но у Шопенгауэра есть еще одна замечательная работа: «Мир как воля и представление». Любовь – это тоже волевой акт. Дайте себе приказ – и вы влюбитесь!
– В купчиху из Мытищ? – спросил Герман. – В круглолицую, черноокую, кривоногую и необыкновенно глупую женщину, как вы мне напророчили?
– Я думаю, – трезво сказала Евгения, – при вашей воле вы можете влюбиться в кого угодно. Или не влюбляться вообще.
А Герман-то думал, что она опьянела! Как на человека непьющего, шампанское должно было подействовать на нее слишком сильно, и оно подействовало, и это было видно: по замедленным, осторожным движениям, когда она поднимала фужер, по ее расширившимся зрачкам, по повышенной говорливости и по тому, что голова у нее кружилась, – но способность мыслить не покидала Евгению Юрьевну ни в какой ситуации. Небольшое усилие – и она опять трезва, хотя все вокруг кружится под «Венский вальс» Штрауса, и она, выгнув спину, скользит вместе с ним по паркету.
Герман крепко прижимал ее к себе. Голова у нее и вправду кружилась, только в другую сторону от вальса. Щеки Евгении горели; ей нравилось обниматься с Ежиком. Его горячая ладонь снова лежала на ее голой спине, и его пальцы неторопливо считали родинки – раз-два-три-четыре-пять, вышел зайчик погулять, – ей было невыразимо приятно, и она благодарно подняла на него сияющие глаза. Герман вдруг наклонился и поцеловал ее.
– Что вы делаете? – продолжала кружиться Евгения, закрыв от удовольствия глаза.
– Думаю.
– О чем? – беспечно поинтересовалась она, пребывая в расслабленном состоянии.
– О том, что при вашей воле вы тоже могли бы влюбиться в кого угодно. Почему бы не в меня?
От удивления глаза Евгении открылись:
– Я об этом не думала.
– Что вам мешает об этом подумать?
Глава пятая
Евгения думала всю дорогу домой: от ресторана до дачи.
«Нравится ли мне Ежик? Да, конечно. Как человек очень нравится. Но я не позволяла себе смотреть на него глазами женщины.
После того что случилось, я была уверена, что новую жизнь буду строить в одиночестве. В самом деле, кому можно признаться и кто выдержит подобное признание и не сломается, если я скрыла это даже от мужа?»
Из всех, кого она знала, выдержать мог только Герман, и без всяких усилий. Более того, еще месяц назад он предложил ей фиктивный брак.
«А почему, собственно говоря, фиктивный? Это я подумала, что фиктивный, а он просто говорил тогда о браке.
Вот почему я ошиблась: он предлагал мне на выбор Антона или себя. И я решила, что таким образом он предлагает мне работу. Работу он мне предлагал действительно: «Банк в Германии – это серьезно», – сказал тогда он.
Банк – это настолько серьезно, что я и помыслить не могла об обычном браке. Догадываюсь, чем этот банк занимается. Брак я приняла за предложение работать в разведывательной структуре. При чем же здесь муж, жена, дети?
И Германа я выбрала тогда по здравому смыслу, а не по принципу симпатии, поскольку главная роль принадлежала ему, а не Антону. Герман главный, банк его. Промежуточное звено в виде Антона я просто исключила.
Выходит, я ничего не поняла? Господи, какая же я дура! Он за мной ухаживает и ухаживает, гладит, родинки считает, а я с умным видом принимаю это за тренировки. При чем здесь самооборона? Но с другой стороны, какой странный способ ухаживать он выбрал!
А что ему еще оставалось делать с этой дурочкой из Зачатьевского переулочка? Мужчина ей, можно сказать, признается в своих чувствах, а она ему в ответ сует Канта или Шопенгауэра. «Метафизика любви», видишь ли! Есть от чего сойти с ума! Вот он и сошел, стал кидать меня на маты и садиться сверху, а я и тут ничего не поняла!»
И она вслух проговорилась:
– Бедный Ежик!
Но Герману почему-то послышалось: «Бедный Йорик». И он действительно перестал что-либо понимать, хотя до этого вел машину спокойно: раз она думает, значит, это очень хорошо, мысль у нее всегда конструктивна и движется в правильном направлении. Только Йорик в нужное направление не вписывался.
За думами Евгения даже не заметила, как они пересели из «Линкольна» в старенький «Москвич», как приехали в Томилино, как вошли в дом, как Герман снимал с нее манто; она перестала думать, только когда Герман опять ее поцеловал – и ради удовольствия, и ради проверки: что она там надумала? – классический немецкий идеализм в действии.
Ее руки взметнулись и обняли его за шею…
На односпальной кровати лежать вдвоем можно лишь тесно прижавшись друг к другу. Герман устроился на спине, а она на боку, спиной ощущая стену, но ей так было даже удобней. Евгения разглядывала Ежика не стесняясь, потому что он прикрыл веки; она смотрела на него глазами влюбленной женщины и недоумевала, почему он до сих пор не женат.
Если рассуждать так: разведка наша, а родился он там. Что из этого можно извлечь? Что родители его тоже там? Похоже. Но он не немец. Или немец? Не немец, решила Евгения, у него другой характер мышления, уж здесь ее провести трудно, почти невозможно. Но внешне на немца похож, даже очень, ярко выраженный нордический тип белой расы: Ежик не только высокий и голубоглазый, но и нос у него узкий, и голова удлиненной формы, и здоровье дай бог каждому, и зубы свои, а ему тридцать семь, хотя выглядит моложе. Выходит, фенотип подбирали специально, и не у него, а у его родителей. Бывает ли такое? Евгения колебалась с ответом. Разведывательная структура по родственному принципу? Такая структура должна быть более законспирирована, чем любая другая. Какой самый секретный отдел в спецслужбах? Евгения была уверена, что отдел кадров. А таким кадрам цены нет!
Она смотрела на Германа, и ее разбирало любопытство и жалость. Любопытство – понятно, а жалость… А как не пожалеть человека, если даже жену ему подбирают сверху по принципу: подходит или не подходит?
– Бедный Ежик! – прошептала Евгения, полностью поглощенная своими мыслями.
Герман открыл глаза.
– Который раз вы называете меня бедным Йориком. Неужели я так похож на череп?
Евгения растерялась:
– Какой Йорик?
– Вы только что назвали меня Йориком.
– Ежиком, – поправила она. – У вас стрижка ежиком. Мне казалось, я говорила не вслух, а про себя.
– Вы, моя любовь, говорите про себя, но выводы делаете всегда вслух.
В темноте он не видел, как она зарделась от смущения, но почувствовал и притянул ее голову к себе:
– Скажите мне шепотом на ушко, почему я бедный?
Что оставалось Евгении делать? Рассказывать.
Герман захохотал как сумасшедший и хохотал до тех пор, пока челюсти у него не свело.
Евгении сначала хотелось обидеться, но обидеться на такой открытый, заливистый смех не получилось, и она сама рассмеялась.
– О удивительная из женщин! Нет, о самая удивительная из всех удивительных женщин! Хочу вас успокоить. Предложение я вам сделал по той простой причине, что вы мне нравитесь, и никакой другой. Выбор я сделал сам, мне его никто не навязывал.
– А все остальное правильно?
Герман издал звук скорее похожий на всхлип:
– Что вы еще хотите узнать?
Нагнувшись к его уху, Евгения опять зашептала:
– Это СВР?
Тишина.
– Если ГРУ, то у меня к вам вопросов еще больше.
Герман перевернулся на бок, обхватил ее покрепче, подмял под себя и поцеловал:
– Нет. Это ГМН.
Евгения затихла только потому, что он целовал ее губы. Но стоило ему оторваться, как она тут же сказала:
– Странная аббревиатура. Хм! Что-то гуманитарное?
– Некоторым образом. – Герман осторожно вошел в нее, она засмеялась. – Разве это смешно? – опешил Герман.
– А по-вашему, это трагедия? – И тут же вцепилась в него: – Ой! Так это Герман!
Герман замер, а затем прыснул:
– Я, конечно, польщен, что в такой момент вы думаете только обо мне. Но…
– Нет? Ой!
– Я умоляю, наслаждайтесь молча…
На Евгению накатилось такое же блаженное состояние, как бывало после массажа; она полностью расслабилась, глаза ее сами собой закрылись, а по всему телу разлилась такая истома, что все вокруг замерло: ночь, ветер за окном, деревья… Она боялась шевельнуться, чтобы не спугнуть очарования момента, которое тут же унесет быстротечное время.
«Вот если бы он меня сейчас сбросил с кровати, – подумала Евгения, – то я упала бы на пол по всем правилам, как пьяная, и не зашиблась – и никаких синяков. Лежишь в полубессознательном состоянии и падаешь в полубессознательном состоянии; ни удивления, ни страха, поэтому и не концентрируешься, не сжимаешься вся, а плюх – и сливаешься с вечностью! Вот это тренировка!» – Мысль Евгению развеселила.
Герман повернул к ней голову.
– Если вы не скажете, что такое ГМН, – взмолилась Евгения, – я не смогу заснуть. Буду думать, думать…
Герман застонал от ее настойчивости:
– Группа МН.
– Неужто это так секретно, что вы будете выдавать мне по буквам? Хорошо, что такое «М»?
– Спи! Узнаешь в Германии.
Через пять минут она уснула.
Герман осторожно, чтобы не потревожить Евгению, поднялся с постели, бережно накрыл ее одеялом и вышел из комнаты. Ему предстояло работать. Включая компьютер, он еще продолжал думать о женщине в комнате рядом; о том, что она догадалась обо всем совершенно правильно, кроме его чувств к ней, что его отец вздохнет наконец с облегчением (ГМН уже вздохнула), а бабка – та просто возрадуется. Разведка разведкой, а внуки внуками. Одно другому не помеха, скорее даже наоборот – помощь.
«Что же касается Германии, – Герман улыбнулся, – про Канта, Гегеля и Шопенгауэра там уже практически забыли. Когда она им заявит, что понятие разума суть только идеи и для них нет предмета ни в каком опыте, однако отсюда вовсе не следует, что они обозначают предметы вымышленные и вместе с тем признаваемые возможными, то Германия вздрогнет. Потому что из того, что какое-то событие в жизни не происходило, для Евгении Юрьевны еще не следует, что оно не могло бы произойти. Скучным добропорядочным немцам вымышленное ею покажется невозможным. А для нее ничего невозможного нет. Бедные, бедные немцы!» – закачал головою Герман и опять улыбнулся.
Когда экран засветился и Система потребовала пароль, он отбросил все посторонние мысли.
В тот день Евгения проснулась поздно. Пошарила рукой по подушке – никого. Открыла глаза – одна. Спустилась вниз: чайник на плите стоял еле теплый, а Германа и след простыл.
– Вот и вся любовь! – хмыкнула Евгения, зажигая конфорку, и тут же спохватилась: раз исчез – надо включить телевизор.
Связав свою судьбу с Германом, она, естественно, хотела знать все: и чем занимается он, и чем придется заниматься ей самой. А если не знать, то хотя бы догадываться.
На экране телевизора возник Владимир Бережной. Журналист, стоя перед особняком, где Евгения когда-то работала, нагонял на зрителей страх:
– В центре Москвы! на Гоголевском бульваре!! Средь бела дня!!! в своем кабинете выстрелом в упор убит известный предприниматель и акционер Банка развития столицы Сергей Павлович Барсуков. – Журналист втянул голову в плечи, затравленно оглядываясь по сторонам.
Евгения вздрогнула. «Ах, Сергей Павлович, Сергей Павлович! – покачала она головой. – Вы слишком много знали. Хоть и были большим негодяем, все равно вас немножко жаль…»
– Остается загадкой, кто его убил, – перебил ее мысли голос журналиста.
– Тоже мне загадка, – фыркнула Евгения. – О Таечке не сказано ни слова. Значит, там ее не было. Барсуков сам открывал дверь. Дверь мог открыть только своим, потому что трус он большой. Кто свои? Люди Соколова. Вот и вся загадка.
– Но загадка даже не в том, кто его убил, – не унимался Бережной, – а в том, кому нужно, чтобы Банк развития столицы перестал существовать? В самом деле, уничтожена вся верхушка, а активы банка оказались за границей.
– Этого и добивался Ежик, – пожала плечами Евгения, прихлебывая чай. – Герман Генрихович, я не ошибаюсь, активы перевели вы? – спросила она вслух в пустой кухне.
И тут же представила себе его ответ. Левая бровь, нет, правая бровь выгнется, приподнимется правый уголок рта, и Ежик уронит:
– Возможно.
– Интуиция мне подсказывает, – подхватил корреспондент, – что укрупнение, о котором так долго говорили в Центробанке, началось.
– Да ерунда все это! – отмахнулась Евгения, посыпая бутерброд зеленым сыром. – Тогда при чем тут Мокрухтин? Федор Степанович, что вы на это ответите?
И вообразила: покойный, «с ее легкой руки», садится в углу кухни и криво улыбается, показывая Евгении золотую фиксу.
– За что вас пытался убить Герман Генрихович?
– Да обычное дело, – осклабился Мокрухтин. – Узнал. От братвы. О Буланове. «Крыши» нет. Предложил помощь. Он отказался. А этот. Меня застрелил.
– Но вас же предупреждали, – напомнила Евгения, – что вы залезли не туда, Буланов всю колонию держит, и если вы не повернете оглобли, то братва вас обует в ящик.
– Не понял, – сказал Мокрухтин.
– А что тут не понять? Буланов построил мужской монастырь и помогает бывшим уголовникам устроиться в новой жизнь. По воровским законом он неприкосновенен. А вы на него наехали. О чем вам кричал Леха по телефону? Вспомнили?
– Поздно, – вздохнул Мокрухтин.
– Тогда следующий свидетель: Орехов Сергей Борисович. Прошу.
И в кухне у холодильника возникла фигура депутата Государственной думы, каким его запомнила Евгения в квартире Зинаиды Ивановны: в широких трусах, дебелым, с пузом и подагрой.
– А вас, Сергей Борисович, за что убил Герман Генрихович?
Депутат нахмурился.
– Шантажировал Буланова.
– Расскажите подробней.
– Что рассказывать? С пятидесяти метров, из ТТ, в середину лба… – И Орехов ткнул пальцем в телевизор. – Этот стервятник вам все показал!
Бережной с экрана отозвался:
– …Естественно, начался отстрел. Судя по почерку, работал профессионал…
Евгения усмехнулась: как странно устроен мир! Бережной говорит совершенно о другом, а все совпадает с ее мыслями. Может, это не случайно, а закономерно? Ведь случайность – это язык Бога.
– Итак, господа, – встрепенулась она, – что мы имеем? Как только над Булановым сгущаются тучи – появляется Герман Генрихович, – Евгения представила себе его смеющиеся глаза. – Вас, любимый, недаром заинтересовали финансовые операции Банка развития столицы через Лихтенштейн. Почему? Потому что между банком Буланова и вашим банком в Германии есть промежуточное звено – тот же Лихтенштейн.
«Брови Германа на этом месте должны поползти вверх, – подумала Евгения, – а сам он превратится в изваяние. Такая гранитная глыба».
– Соколов проверял банк Буланова, – вмешался Орехов, – но выхода на офшор не обнаружил.
– Наличка, – безошибочно определил Мокрухтин.
– Правильно, – пропела лиса Алиса. – Границ для вас, Герман Генрихович, конечно, нет. Деньги в Лихтенштейн переправлялись в чемоданах. В офшоре они отмывались, а потом попадали в ваш банк в Германии.
Тут Евгения задумалась и прикрыла глаза:
– Но при чем здесь разведка? – спросила она вслух.
В кухне висела тишина. Пел только чайник на плите. Женщина не заметила, как Лентяй, до этого спокойно лежавший под столом, выполз, к чему-то прислушался, направился к двери и исчез.
– Через банк в Германии, – догадалась Евгения, – осуществляется финансирование всей нашей разведывательной сети за рубежом. Структура зовется ГМН и строится по родственному принципу. То есть банк частный и переходит по наследству.
– Допустим, – послышался голос, который Евгения приняла за собственные мысли. – Но вот со мной ничего не понятно.
– А, это вы, любимый. Не знаю, как это правильно назвать, но вы руководите службой безопасности в Группе мобилизационного назначения. Или ГМН. Абракадабра, конечно, но точно. – Евгения открыла глаза и обомлела: перед ней сидел Герман.
Как он вошел, когда? – она не слышала, не видела и не почувствовала. Но в его глазах прочла свой приговор: слишком много знает.
Евгения вздохнула.
– Значит, в деревню, в глушь, в Германию?
– Увы!
– Хорошо, любимый. Но у меня к вам последняя просьба…
Герман остановил машину у заросшей плющом стены Зачатьевского монастыря. Было около трех часов ночи. Где-то над монастырем висела полная луна, от стены на дорогу падала густая тень, и в этой тени Герман спрятал машину.
– У нас час, не больше, – сказал он, поцеловав Евгению.
На шестой этаж она поднялась пешком, как когда-то, вынула из кармана ключи, осторожно открыла входную дверь и прислушалась.
В квартире ее встретила мертвая тишина. Неужели все на даче? Не может быть. У Сашки школа, свекровь не допустит пропуска занятий.
Глаза Евгении привыкли к темноте, и она разглядела, что кожаной куртки Михаила Анатольевича в прихожей нет, как и его ботинок. На вешалке сиротливо висело лишь Сашкино коротенькое пальтишко с капюшоном и плащ боярыни Морозовой.
На кухне включился холодильник, и Евгения под этот шум прошла в детскую, хотя и знала, что свекровь всегда спит крепко, ибо совесть ее чиста: Ельцина она не выбирала, Советский Союз не разваливала, народ не обворовывала, сына с женой не разводила (невестка сама себе шею сломала) – отчего же не спать спокойно?
А Сашка спала тревожно: часто металась во сне, что-то бормотала, иногда садилась в кровати, хлопая глазами и ничего не видя, снова падала на подушку и засыпала, – что ей снилось в этот момент, утром внятно рассказать не могла.
Евгения присела к ней на постель. Некоторое время смотрела на спящую падчерицу, которая стала ей ближе мужа. Во тьме из широкого эркера лился лунный свет, и Евгения глазами обвела комнату.
В детской стало много книжных полок. У нее мелькнула догадка, она поднялась, чтобы ее проверить. Да, это были ее книги по философии, социологии и психологии. Вот ее любимый Кант. Евгения протянула руку и нежно погладила золоченый корешок.
В это мгновение Сашка вдруг дернулась и села в кровати. Бессмысленно хлопая глазами, она смотрела прямо на мачеху.
Евгения замерла, а потом быстро подошла к девочке:
– Спи. Я пришла попрощаться с тобой.
Сашка в изнеможении откинулась на подушку, но продолжала во все глаза глядеть на темный силуэт.
– А если я проснусь?
– Тогда я исчезну. Спи.
– А можно тебя обнять?
Они обнялись. Евгения почувствовала, как падчерица сначала робко, потом все смелее и смелее стала ее гладить и наконец воскликнула:
– Ты живая! Я знала, что ты живая! Они все плакали, а я говорила, что ты умереть не можешь. Ты хитрая!
Евгения улыбнулась:
– Я живая, но только по-другому.
– А как ты пришла?
– По лунному лучику.
Сашка повернула голову к эркеру. Маленькие пылинки, попавшие в серебристые лучики, переливались и как бы звенели, только перезвона слышно не было, он стоял не в комнате, а у Сашки в ушах, и она замотала головой от их какофонии. Вдруг тучка набежала на луну, лучики поблекли, почти исчезнув; Сашка испугалась, что вместе с ними исчезнет и Евгения, и в страхе обернулась.
– Тебя надолго отпустили с того света?
– На час. Утром я улетаю.
– Куда?
– В Германию.
– Все мертвецы живут там?
– В некотором роде.
– А на том свете хорошо кормят? Что дают?
– В основном сосиски с тушеной капустой.
– В Германии жить можно, – вздохнула Сашка.
Евгения только усмехнулась, падчерица же ласково погладила ее руку и вкрадчиво спросила:
– А умирать было страшно?
Евгения успокаивающе похлопала ее по маленькой ладошке:
– Это не смерть, это тайна. Помнишь, я читала тебе Евангелие: не все мы умрем, все изменимся.
– Но ты же не изменилась! – живо возразила Сашка. – Я тебя щупала.
Евгения переключила внимание падчерицы с того света на этот:
– Как ты живешь?
– Скучно. – Девочка зевнула. – Бабушка все рассказывает про чертей, а папа носится с Зинаидой Ивановной.
– Ты ее видела?
– Приводил, – хмыкнула Сашка. – Бабушка закрылась у себя в комнате и кричала из-за двери, что у нее давление. А я вышла посмотреть: ничего особенного.
– Но она же красивая!
– Знаешь что? – И Сашка выдала любимую фразу боярыни Морозовой: – Мне от ее красоты ни жарко ни холодно!
Евгения чуть не засмеялась:
– Я думаю, она добрая и хорошо готовит.
– Мне-то это зачем? – взвилась Сашка. – Она мне: Сашенька, Сашенька! Что тебе сделать на завтрак? Может быть, сырнички? Противно слушать.
– Сашка, но ты не права! Если ты не любишь сырники, это не значит еще, что и папа их не любит!
Но Сашка как будто не слышала и продолжала гнуть свою линию:
– Он ей: «Зиночка, Зиночка!», а она ему: «Мишенька, Мишенька!» – и по головке друг друга гладят. Смотреть противно!