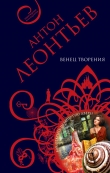Текст книги "Не все мы умрем"
Автор книги: Елена Гордеева
Соавторы: Валерий Гордеев
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 25 страниц)
Кем?
Гинекологом!
Вот оно что! Значит, вина господина Авдеева настолько тяжкая, что возмездие наступит неотвратимо.
Глава четвертая
Малиныч, сидя в кресле, смотрел телевизор. Периодически охал, иногда стонал, хлопал себя по коленям и вскакивал.
– Надо бить! Бить! – орал он. – Ты видел? – обращался он к псу, развалившемуся в другом кресле и тоже неотрывно смотревшему телевизор. – Как-кой маз-зила!
Рекс одобрительно рявкал, то бишь соглашался. Пес был в этой квартире хозяином, а Малиныч – прислугой. Но в отсутствие Барсукова Малиныч позволял себе забывать об этом, манкировал своими обязанностями, удобно устроившись в хозяйском кресле, а Рекс себе этого позволить не мог, часто бегал по комнатам, нюхал, проверял, все ли на месте, выключен ли газ, заперта ли входная дверь, и опять возвращался к телевизору. Шел матч «Барселона» – «Спартак» одной четвертой финала Кубка чемпионов.
– Ты не можешь сидеть тихо, как нормальный пес? – возмутился Малиныч. – Ты мне мешаешь смотреть!
Рекс повернул голову к входной двери, оскалил клыки и зарычал. Слуга это понял по-своему.
– А потерпеть нельзя? Десять минут осталось! – показал ему Малиныч на часы. – А потом пойдем гулять.
Пес опять спрыгнул с кресла и побежал нюхать дверь. Он втягивал носом воздух, дующий из щели, и пытался представить: что же там все-таки делается? Встал на задние лапы – здоровая немецкая овчарка – и понюхал – как пахнет сверху? Как сверху, так и снизу воняло отвратительно: мужским потом, табаком и водочным перегаром. Причем запахов было так же много, как в трамвае, на котором он недавно ездил в ветеринарную лечебницу. Пес недовольно фыркнул: сам он пах гораздо нежнее, потому что купали его дважды в день после утренней и вечерней прогулки, и к тому же с шампунем; слуга добавлял в воду разные ароматизаторы, правда, и сам ими пользовался, сволочь. А те, которые в трамвае, не мылись, наверное, уже целый месяц.
Рекс вернулся досматривать футбольный матч. Слуга, развалясь в кресле, курил хозяйскую сигару. Пес недовольно покосился на него, но ничего не сказал.
В это время матч кончился, Малиныч встал и потянулся:
– Ну? Тащи свой поводок. Гулять, понял?
Дрожа, Рекс ждал, когда откроется стальная дверь и он ринется смотреть на людей в трамвае. Малиныч придерживал его за поводок, пока возился с ключами. И вот наконец щель разошлась, пахнуло вонью, пес высунул голову, и тут же раздался хлопок; Рекс вдохнул сладкий запах бездымного пороха и повалился на пороге, не дав Малинычу захлопнуть дверь.
Четверо или пятеро в масках ворвались в квартиру, швырнули Малиныча на пол, тот упал навзничь, прикрывая голову руками. Один из нападавших два-три раза пнул его и заорал:
– Где деньги?
Малиныч сообразил, что это не по его душу, это по душу Барсукова, и сразу заскулил:
– Я не хозяин, я здесь с собакой.
Последовал пинок.
– Я не знаю, где он!
Второй пинок.
– Он где-то снимает квартиру!
Третий пинок.
– У него офис на Гоголевском бульваре.
Еще пинок.
– Не понял? – попытался взглянуть на мучителя Малиныч.
– Телефон! – зарычала маска.
– Прямой?
Маска поставила тяжелый ботинок на шею Малиныча и надавила. Все! Сейчас треснут позвонки! Изо рта Малиныча посыпались цифры и застучали по полу, как горох:
– Девять два пять ноль ноль девять ноль девять один девять два девять три девять четыре девять пять мобильный семь ноль семь два три один пять факс девять два пять два пять два пять. Все.
Маска сняла с шеи ботинок, зато поставила на затылок что-то холодное.
– Кислота, – сказала маска. – Шелохнешься – пеняй на себя.
Малиныч лежал в центре гостиной, боясь вдохнуть полной грудью. Он дышал теперь, как йоги: медленный вдох – пятнадцать секунд, медленный выдох – пятнадцать секунд. Итого за минуту два вдоха, два выдоха. Как утверждают йоги, это необыкновенно просветляет ум. Малиныч слышал, как в квартире творят бедлам: рушатся вещи, разбрасываются книги, отодвигаются шкафы. Ясно, что ищут сейф. Если найдут, ему конец. Но его не найдут, потому что его нет: Малиныч сам проверял, лично. А чего зря сидеть одному в квартире дальнего родственника? А вдруг чего-нибудь найдешь? Тогда можно и слинять – ищи ветра в поле. Вот такие мысли носились в голове Малиныча под влиянием дыхания по системе йогов.
Вдруг наступило затишье. Закрыли входную дверь. Малиныч полежал-полежал, подышал-подышал, и голова его просветлела настолько, что он сообразил: какая кислота? Откуда у Барсукова в квартире кислота? У него даже уксуса нет. А если с собой принесли? Ну да, в одном кармане пистолет, а в другом – серная кислота? Бред! Малиныч осторожно завел руку за спину и нащупал на затылке стакан. Теперь нужно его снять так, чтоб ничего не вылилось. Но стакан опрокинулся, Малиныч зажмурился – и ничего не произошло. Вода.
Он поднялся, отряхнул с себя пыль и огляделся.
«Разгром» Фадеева.
Учитель труда из Грозного читал еще «Молодую гвардию», «Последний из Удэге» и «Алитет уходит в горы», правда, это уже другого автора.
Мертвый пес лежал в прихожей.
«Гулять с ним больше не надо. А вообще, стоит ли жить после этого у Барсукова? Нет, вопрос поставлен неправильно. Стоит ли после этого у Барсукова работать? Ведь пристрелят, как Рекса! Тогда что, так просто взять и уйти, по-английски?»
Малиныч озирался: «Что можно отсюда прихватить по-русски? Ну, два телевизора, это – две подмышки. Видеомагнитофон? Если его упаковать, можно взять в зубы. А позолоченные ложки неужели оставить? Нет уж! Надо найти рюкзак! Откуда у Барсукова рюкзак? Он что, Алитет? Что делать, Малиныч, что делать? Евгения говорила, что у меня смелое и нестандартное мышление».
И Малиныча осенило!
Малиныч посмотрел в окно, за окном была ночь, но на востоке уже брезжил рассвет. Он размазал кровь пса по всей квартире, волоча его за хвост из комнаты в комнату, подобно тому как художник широкими мазками набрасывает картину, а потом зашвырнул пса на хозяйскую кровать. Такое впечатление, что пострадал не только Рекс, но и Малиныч, которого пытали, потом убили, а труп куда-то зачем-то увезли. Волосы встают дыбом от такой картины!
Он достал из хозяйского шкафа белоснежную сорочку – немного великовата, но если лишнее убрать за спину и сверху надеть пиджак, то никто ничего не заметит. Галстук, слава богу, безразмерный. Зато свой костюм надо почистить и выгладить.
И до рассвета Малиныч мылся, терся, брился, чистился, гладился, и, когда наконец все пошли на работу, он тоже пошел. Осторожно переступил через лужу крови в прихожей, чтобы не запачкаться, прикрыл дверь, но не захлопнул ее и спустился вниз. Из нагрудного кармана пиджака торчала антенна детского игрушечного телефона – только кто же знает, что он игрушечный? По антенне-то не определишь, все думают, что мобильный.
С папочкой в руках Малиныч стоял на углу и ловил машину, но не такси, а частника. «Москвичи» и «жигуленки» Малиныч пропускал, махал им – проезжай! – а вот на черной «Волге» он остановился. Солидно, подойдет.
К Банку развития столицы он подъехал с бьющимся сердцем ровно в девять часов утра, к моменту его открытия. В девять часов пять минут Малиныч был уже у менеджера по работе с юридическими лицами.
Барсуков большинство своих сделок проводил через подставные фирмы, в частности, и последнюю сделку с канамицином. Малиныч знал это доподлинно, сам подписывался на документах. А раз сам подписывался, это значит, что деньги упали на счет той фирмы, которая значилась на его имя. Он был главным бухгалтером фирмы, генеральным директором фирмы и единственным ее сотрудником. Что здесь подозрительного, если он решил эти деньги перевести на другой счет? Подозрительного ничего. И Малиныч благополучно провел операцию. Вернее, ее провел менеджер банка, а он только подпись поставил.
Денежки Барсукова перешли на личные счета Малиныча, а Малиныч исчез бесследно, растворившись в теплой летней дымке.
Барсуков иногда заезжал на машине за Малинычем, а заодно проверить квартиру, потрепать по холке пса и расспросить, кто звонил и чего хотел.
Хозяин поднялся на третий этаж, позвонил – никто не открывает. Вынул ключи – может, Малиныч с собакой гуляет? – и стал открывать. Дверь сама пошла на него. Похолодев от страха, он заглянул в коридор. От вида и запаха крови его затошнило. Но Барсуков был смел, если дело касалось его имущества. Поэтому, вынув из кармана газовый пистолет, он перешагнул порог и мелкими шажками, держа обеими руками пистолет, заглянул в одну комнату – пусто, в другую – Рекс мертвый лежит на кровати, а в гостиной на столе записка: «Где деньги?»
Малиныч написал ее собственноручно, только не правой рукой, а левой. На то он и прошел школу в Грозном – поживешь там, не такому научишься. Но про левую руку он никому не рассказывал, это был его резерв.
Барсуков что подумал? Что Малиныча убили, как Рекса, но труп вывезли. Кто это был? Барсуков ответил для себя однозначно: люди Мокрухтина. После смерти пахана идет дележка наследства, и тот, кто забрал деньги у Евгении, не поделился с остальными.
Если бы у Барсукова были на голове волосы, они бы встали дыбом, но лысина дыбом не встает – лысина вспотела и заблестела.
Барсуков опрометью вылетел из квартиры, защелкнул замок и помчался за помощью.
В кабинете Евгении сидел Виктор Петрович Кошкин, и шла неторопливая светская беседа о Достоевском. Кошкин был в очень дорогом костюме, возможно, даже не купленном в магазине, а сшитом на заказ, при галстуке в тон, строгом, но элегантном (не пальма с обезьяной, как у Мокрухтина), и говорит Виктор Петрович свободно, слова льются сами собой, одно из другого вытекает, складываются в мысли, и мысли-то, в общем, правильные. А Евгения не могла отделаться от видения другого Кошкина – в квартире Зинаиды Ивановны: в трусах и с портфелем под мышкой. В общем, она видела Кошкина из Минфина, как охарактеризовал своего лучшего друга господин Сморчков.
Все дело в том, что Евгения не собиралась приглашать Кошкина. Да, она не принадлежала к спецслужбам, о Системе не слышала, но у Евгении была своя система.
Ее система – всего-навсего один человек, всегда улыбающийся и симпатизировавший ей мужчина. Познакомилась она с ним на нефтяных сделках. Сделка у них не вышла, потому что Барсуков не смог его обмануть. А вот с Евгенией они с тех пор поддерживали отношения. И если Евгении было что-то непонятно в нефтяном бизнесе, она звонила ему. Он приходил к ней; тихо, незаметно просачивался в кабинет и начинал всегда с одной и той же фразы:
– Ах, Евгения Юрьевна, Евгения Юрьевна! – и замолкал. Дальше, судя по интонации, должна была следовать реплика: «И почему вы замужем, а я женат?!» – но он ее опускал. И лишь однажды не выдержал и предложил: – И что вы здесь делаете? Переходите ко мне…
Евгения лишь неопределенно улыбнулась и ничего не ответила.
– Я не обиделся, – помолчав, сказал гость, – но если вам что-нибудь понадобится, всегда к вашим услугам.
Вот такой у них был роман.
Схемы нефтепроводов в компьютере, вся таможня (кто, куда, что и сколько вывез, почем продал и почем купил) – все предоставлял он. И не только по нефти. Когда к ней запросился Кошкин из Минфина, Евгения тут же обратилась к своему поклоннику.
Открылась дверь ее кабинета, и появилось улыбающееся лицо человека, который знал больше, чем вся Советская энциклопедия, что и позволяло ее знакомому пребывать всегда в хорошем настроении. Как говорил Монтень? Самым лучшим доказательством мудрости является непрерывно хорошее расположение духа. Но с другой стороны, знание увеличивает скорбь. Что выбрать? Ее гость выбрал Большое Знание.
– Ах, Евгения Юрьевна… Как я рад вас приветствовать!
Без всякого приглашения он сел в кресло и сразу же перешел к делу:
– Вас интересует, кто такой Виктор Петрович Кошкин? – взглянул сквозь очки на Евгению гость. – Виктор Петрович Кошкин обыкновенный бухгалтер, долгое время работал директором картины на «Мосфильме». А вот его бывшая жена – личность приметная, Райская – помните такую?
– Актриса? – уточнила Евгения.
– Да-да, актриса. С нее-то и начался взлет. Виктора Петровича кое-кто кое-куда пригласил и кое-что предложил. – Гость весело блеснул дымчатыми стеклами очков на Евгению: поняла ли она, о чем идет речь? Евгения глаза прикрыла и чуть заметно кивнула. Поняла: кое-кто кое-куда всуе не упоминается. А гость продолжал: – И вроде как у самого Кошкина возникла гениальная идея: организовать акционерное общество «Очарование». Естественно, во главе общества с таким названием должна была маячить отнюдь не физиономия какого-то занюханного Виктора Петровича, а его красавицы жены. Сам он оставался в незаметной роли главного бухгалтера АО.
Сияя ослепительной улыбкой, красавица Райская обещала выстроившимся в очередь драматургам, режиссерам, писателям и артистам огромные дивиденды и райские кущи. Ее муж принимал у них денежки, а те с радостью их отдавали, переговариваясь между собой, что теперь, слава богу, можно будет и фильмы не снимать, и спектакли не ставить, а жить на проценты от капитала, как порядочные рантье.
Райскую все знали, все ей доверяли – естественно, до определенного момента, пока не закрылись двери акционерного общества. Тут очарование кончилось, и все почувствовали себя обманутыми и ринулись вызволять денежки. Толпы московских интеллигентов осаждали особнячок, в котором красавица Райская лежала в джакузи с перерезанными венами. Вокруг бегал муж, театрально заламывал руки, закатывал глаза, причитал, плакал и прилюдно голосил, зачем она его оставила. Но вены себе не резал.
«Точнее, не резали ему», – подумала Евгения.
– Более того, через некоторое время Виктор Петрович был приглашен на работу в Минфин. Он снова женился, только теперь не на красавице, а на незаметной серой мышке, обзавелся детьми… – Гость замолчал, предлагая Евгении Юрьевне додумать все остальное самой.
«И над его головой появился нимб, как от денег под ультрафиолетом, – продолжила про себя Евгения, – но Кошкина по-прежнему тянет к красивым мышкам. Работа на Мосфильме сказывается. Поэтому он иногда и позволяет себе побаловаться с Зинаидой Ивановной».
– Вот, собственно, и все. – Улыбающийся поклонник встал. – Я вам помог?
Евгения тоже встала:
– Спасибо, и даже очень.
И он исчез так же тихо и незаметно, как и появился, в качестве гонорара поцеловав на прощанье ей руку.
Вы, наверное, себе представили круглого, толстенького, лысенького очкарика за пятьдесят – и ошиблись. Ему было около сорока, не больше, был он худ, строен, с седыми волосами (она отметила это странное совпадение), очень порывист и вместе с тем сдержан. Когда только начинался их роман, Евгения рискнула задать ему всего один вопрос, касающийся его самого:
– Откуда вы все это знаете?
Он ответил честно, потому что его взволновал ее интерес к его особе:
– Когда-то я работал в ГРУ…
Больше Евгения лично о нем ничего никогда не спрашивала.
После ухода гостя Евгения, посидев некоторое время в кресле, пришла к выводу, что Виктор Петрович Кошкин не тот человек, которого можно просто кинуть и не оказаться в джакузи с перерезанными венами.
Поэтому Кошкину она не звонила, Кошкин сам позвонил ей и настоял на встрече. Что оставалось Евгении? Не будешь же говорить, что ставить памятник Достоевскому передумали?
– Но почему именно в Люблинском парке? – недоумевал Кошкин. – Не лучше ли где-нибудь в центре, хотя бы на той же Тверской? С одной стороны – поэт, с другой – писатель. За разрешением дело не встанет, хлопоты я беру на себя.
– Мысль интересная, если учесть, что Достоевский принимал самое активное участие в открытии памятника Пушкину. Но все дело в том, что именно в Люблино Федор Михайлович писал знаменитый роман «Преступление и наказание».
– Когда я работал на «Мосфильме», – закатил глаза Кошкин, – мы снимали ленту «Месяц из жизни Достоевского». Это история любви писателя к Сниткиной. – Он усмехнулся. – Чудак женился знаете на ком? На своей стенографистке, которой диктовал роман «Игрок». Впрочем, чего я спрашиваю? Конечно, знаете. Любовь, как видите, зла. – И он засмеялся.
Евгения опустила глаза, почувствовав раздражение. «Интересно, а что он думает про свою красавицу Райскую, которую спокойно сдал, когда настало время? Не мог же он не знать, чем такое «Очарование» кончится? Вероятно, знал, что кончится плохо, но не для него. Любовь зла… Нет, кинуть его сам бог велел. Даже если маячит джакузи. – Евгения улыбнулась и подняла глаза.
– Действительно странно, – полились из нее отравленные слова, – казалось, такой человек, дворянин, гений, а женится на какой-то Сниткиной. Это почти прислуга, не так ли? И современники не понимают, и потомки смеются, а Федору Михайловичу хоть бы хны.
– Да-да, – подхватил Виктор Петрович, – что значит человек не от мира сего! Вот нормальный человек от помощи откажется?
– Нет. Нормальный не откажется, – охотно согласилась Евгения, имея в виду деньги Кошкина на памятник писателю.
– А этот чудак отказался! – обрадовался поддержке господин Кошкин, хотя где-то внутренне он от Евгении ежился. Будто знал, что она говорит не совсем то, что думает, но у нее такие безмятежные глаза… – Ну попал ты в долговую яму, – развивал свою мысль Кошкин. – Но у тебя же есть друзья! И эти друзья предлагают: давай мы скинемся, и каждый напишет по главе. А ты подправь, где надо, отредактируй, и роман готов! Чудак не согласился, представляете? – И Кошкин самодовольно откинулся на спинку кресла, в котором так хорошо сиделось.
– Воистину, каждый сам выбирает свою судьбу, – сказала Евгения.
– Как это понимать? – насторожился Кошкин. И как только он это спросил, джакузи исчезла, он оказался перед Евгенией один на один, беззащитный, почти в трусах, и она поспешила этим воспользоваться.
– Как понимает Ле-цзы. Начинаю с воспитания привычек и взращиваю характер, а в конечном счете получаю судьбу.
Кошкин не понял, что Евгения имела в виду его, а не Достоевского, но на всякий случай четыре раза кивнул:
– Ну да. Конечно. Ле-цзы. Так оно и есть.
Кошкин был в полной уверенности, что, как богатый и обаятельный мужчина, он ей нравится, отсюда и Ле-цзы. А Евгения поняла совсем другое. Если человек не один и не понимает, о чем идет речь, то никогда не спрашивает. Просто в кармане у него включен диктофон, и тот, кто за Кошкиным стоит, смысл слов расшифрует. Значит, Виктор Петрович один и денежки принес свои, а не государственные.
В это время в предбаннике раздался звонок.
– Вы к кому? – зычно крикнула Таечка.
Из-за металлической двери зарычал Барсуков:
– Евгения Юрьевна у себя?
Таечка мигом открыла дверь в офис, и в холл вошли Барсуков и незнакомый ей мужчина с худым и острым, как топор, лицом. При его появлении молодой человек по прозвищу Джомолунгма встал, узнав шефа. Соколов смерил его взглядом, задрав голову под потолок, и махнул рукой – садись.
Барсуков все сообразил: раз молодой человек здесь – значит, деньги принес, а если деньги принес – значит, дело серьезное.
– Кто у нее? – кивнул он на дверь Евгении.
– Господин Кошкин из Минфина, – сказала Таечка. – Сказать, что вы пришли?
– Не надо. Сделай нам лучше кофе. – И, обращаясь к Соколову: – Михаил Михайлович, пройдемте в мой кабинет. Придется немного подождать. – И Таечке: – Он давно у нее?
– Минут сорок.
Значит, пьеса кончается. Скоро будет финал, и неплохо было бы его послушать. Вместе с гостем Барсуков прошел в кабинет и плотно закрыл за собою дверь.
Барсуков был настолько занят своей бедой, что не придал значения тому, что слишком уж часто молодой человек баскетбольного роста сидит у секретарши. Раньше приносил деньги и уходил, а теперь пьет кофе и покупает Таечке ее любимые миндальные пирожные.
Женщина – существо удивительное. Природа ее двойственна, как у электрона: с одной стороны – это частица, а с другой стороны – волна. Вот Таечка, она ведь ничего не знает ни о смерти Мокрухтина, ни о ста тысячах долларов, отданных якобы его людям, ни о том, что Барсуков не живет у себя дома (Таечка с шефом общалась исключительно в массажном кабинете подвала особняка на Гоголевском бульваре, и свидетелями свиданий были только пираньи в аквариуме), ни о том, что случилось с Рексом, ни о Малиныче, но второе «я», жившее где-то внутри ее, все знало и все чувствовало. Таечка как бы просачивалась сквозь все преграды, для нее не существовало барьеров и тайн. Шестое чувство, имевшее явно волновую природу, подсказывало Таечке, что надо делать. А подсказывало оно вот что: с Барсуковым надо кончать, потому что Барсукову скоро будет крышка. Но ведь женщина не уходит в никуда. Она просто переходит из одного качества в другое, как электрон. А электрон, как говорил классик, так же неисчерпаем, как и атом, природа бесконечна.
И вот теперь перед ней возвышалась снежная вершина Джомолунгмы, которую хрупкой девушке предстояло покорить без всякого альпинистского снаряжения.
Барсуков вошел в кабинет, включил селектор, и Соколов услышал женский голос:
– Виктор Петрович, я с вами согласна: с точки зрения здравого смысла Достоевский – человек странный. Конечно, странный – он гений. Это реальность другого, высшего порядка, и здравый человеческий смысл здесь ни при чем. Со стороны друзей это был искренний акт: предложить написать роман скопом. Но Достоевский увидел в этом искушение. Федора Михайловича искушали друзья, и, заметьте, из лучших побуждений. Как Христа в пустыне. Если ты сын Божий, преврати эти камни в хлеба, и миллионы страждущих пойдут за тобой, и возлюбят тебя, и уверуют… но не в тебя, а в падшего ангела, который стоит за тобой. Понимаете? Вот почему он отказался. Он каждый день падал в обморок, но на следующий день опять писал. Двадцать шесть дней. Это как восхождение на Голгофу. Но не было бы этой Голгофы, не было бы и «Братьев Карамазовых», потому что не было бы Великого инквизитора (в образе любящих друзей), которого Христос поцеловал, уходя.
Кошкин завозился, поглядывая на кейс, прикованный наручниками к батарее центрального отопления.
– Вы меня убедили, – сказал он, – Достоевский – это гений. – Виктор Петрович положил на колени свой дипломат и открыл его.
Евгения распечатывала договор на пожертвование.
«Как слаб человек! – жужжал принтер. – Покажи нашей интеллигенции красивую мордашку Райской, посули превращение камней в хлеба без всяких усилий, – и вот тебе миллионы и миллионы сходят с ума, как будто опились сумасшедшей воды. И даже свой собственный опыт ничему не учит. Замени красивую мордашку Райской рассуждениями о Достоевском и Христе – и результат тот же! Тебе выкладывают денежки – безвозмездно и безвозвратно. И пусть пройдет еще пятнадцать веков, Великий инквизитор сможет сказать все ту же фразу: «Зачем ты пришел?»
Кошкин ушел.
И тут же из селектора раздался голос Барсукова:
– Евгения Юрьевна, зайдите, пожалуйста, ко мне.
Евгения открыла дверь – в кабинете Барсукова сидел Великий инквизитор.
Она внутренне похолодела.
Соколов с интересом рассматривал молодую женщину. Его поразило уже то, что деньги людям Мокрухтина передавала она. Она рисовалась ему этаким маленьким капралом в юбке с мужеподобными ухватками – коня на скаку остановит, в горящую избу войдет. Он никогда не расспрашивал Ивана о Смоляниновой и теперь жалел, считая это своим проколом. Потому что то, что он сейчас слышал по селектору, не имело ничего общего с нарисованным его воображением образом, а резкое мышление совершенно контрастировало с хрупкой конституцией, лицом мадонны и безмятежным взглядом зеленых глаз. Женщина была привлекательна – она выделялась из общего ряда даже внешностью, а мышлением – тем более.
– Женя, Рекса убили. – У Барсукова дрогнул голос. – Малиныч исчез. Может, тоже убили. – И он протянул ей записку, оставленную Малинычем на столе.
«Где деньги?» – прочитала Евгения и сообразила, почему здесь Соколов; и она уже знала, что сделает.
– Евгения Юрьевна, – сказал Соколов, – расскажите подробно, как было дело.
– Я взяла кейс с деньгами и села на ту скамейку, куда он должен был подойти. Он подошел не сразу, я ждала минут двадцать. Он сел, вынул из кармана договор и передал его мне. Я передала ему дипломат. Он его приоткрыл и тут же захлопнул. Все.
– Как он выглядел?
– Среднего роста, лет пятьдесят, седой, желчный субъект, обычный костюм, галстук. Я старалась не смотреть ему в лицо.
– Боялись?
– Боялась. Я смотрела на его руки. На левой нет двух пальцев: мизинца и безымянного.
– Какие еще приметы?
Евгения могла рассказать многое: и про группу крови, и про резус-фактор, и кем работал, и про белую «Вольво», – но не могла. И она сосредоточенно думала: как помочь Соколову безошибочно выйти на господина Авдеева? И придумала:
– Мне тогда показалось, что он врач.
Соколов насторожился. Это было уже сверх!
– На чем основывается ваше предположение?
– Вы не замечали, как от некоторых людей в метро пахнет их профессией? Стоит человек, а от него пахнет карболкой. Это врач. Вот так же пахло и от него: врачом. И руки у него аккуратные, чистые, ухоженные, ногти обстрижены до предела. Так бывает – особенно у хирургов.
– А вы наблюдательны.
Евгения испугалась, но лишь на секунду: не перестаралась ли она? Но тут же нашлась:
– Со страху и не такое бывает.
– Еще что можете сказать?
– Он ждал, когда я уйду. Я встала и краем глаза видела, как он опустил руку в левый карман пиджака. Вот здесь я действительно очень испугалась, подумала, что там оружие и он выстрелит мне в спину. Но, уже отходя, я слышала, что в кармане что-то звякнуло – может, ключи от машины? – Евгения беспомощно взглянула на Соколова. – Но это только мое предположение.
– Покажите договоры, – попросил Соколов. И когда Евгения их принесла, он стал внимательно рассматривать бумаги. Один экземпляр был как новенький, чувствовалось – лежал в папке, а вот второй, сложенный несколько раз, был на сгибах потерт и чуть помят.
– Этот ваш?
Ну, совсем простая задачка для Евгении.
– Нет – этот. – Она показала на аккуратный экземпляр.
Соколов посмотрел на Барсукова, Барсуков кивнул, и сомнений у Великого инквизитора больше не осталось: архив у беспалого врача.
– Спасибо, Евгения Юрьевна. Вы можете идти.
Выходя, Евгения обернулась.
– Сергей Павлович, уже двенадцать, – взглянула она на часы, – я, с вашего разрешения, пройдусь по магазинам, а то дома есть нечего, а потом к бухгалтеру поеду. – Она неторопливо вышла, закрыла за собой дверь, подумав при этом, что навсегда, что никогда уже не увидит Таечку, которая подняла на нее счастливые глаза (Джомолунгмы рядом не было, он на кухне заваривал чай для Таечки, потому что время Барсукова, впрочем, как и ее, кончилось), и спросила шепотом:
– Как твои дела?
Так же шепотом Таечка ответила:
– Он мне сделал предложение.
– И очень вовремя, – кивнула одобрительно Евгения. – Главное – не задерживайся здесь. – И стала спускаться по лестнице вниз.
У георгиевского кавалера остановилась:
– Матвей Иванович!
Старик поднялся со стула.
– Спасибо вам большое за все. – Она поцеловала его на прощанье. – Сохраните нашу маленькую тайну.
Матвей Иванович по-военному отдал честь. Евгения не сомневалась: кто-кто, а уж он останется кавалером до конца.
«В наше время таких мужчин не бывает», – стучали каблучки Евгении, и в такт им в ее руке раскачивался дипломат Кошкина.
За Евгенией шла наружка Соколова, а уже за ними – наружка Германа. Евгения, конечно, помнила про сопровождающих, про то, что их двое, а нужен ей был один – Ежик. Как связаться с человеком, если вы о нем почти ничего не знаете – ни как зовут, ни где живет, ни телефона, – да так, чтобы второй соглядатай не догадался?
Евгения остановилась у витрины охотничьего магазина. Человек Соколова стал покупать мороженое, а человек Германа заволновался, когда взгляд Евгении уперся в ружье, висящее в витрине.
– Остановилась у витрины охотничьего магазина и выбирает оружие, – по мобильному телефону доложил Герману мужчина с руками-граблями.
– На Арбате?
– Так точно. Отошла к молочному. Рассматривает сыры. Подходит к букинистическому.
– Она одна?
– За ней наблюдение.
– Прикрой, если понадобится. Я выезжаю.
Вслед за Евгенией в букинистический магазин зашел человек Соколова, и агент Германа растерялся: а если он ее сейчас там прикончит? И поэтому мужчина с руками-граблями тоже проник в магазинчик, сунув правую ладонь в карман.
Евгения стояла у кассы и выбивала чек на немыслимую сумму. Продавщицы застыли на своих рабочих местах по стойке «смирно», и лишь одна трясущимися от волнения руками пробовала завернуть том в бумагу.
– Благодарю вас, не надо, – остановила ее Евгения, взяла книгу, повернулась к выходу и, встретившись глазами с мужчиной, которого видела ночью на даче с Ежиком, просияла, но человек Соколова, стоящий у другого прилавка к ней спиной, сияния этого не заметил.
Евгения, проходя мимо, гордо показала ему обложку, и мужчина обомлел: «Kant. Kritik der reinen Vernunft. 1781».
«Ну надо же!» – И как только он оказался на улице, тут же связался с Германом:
– Она купила Канта. «Критика чистого разума». Прижизненное издание.
– Я знаю, держи меня в курсе, куда она идет.
Евгения пересекла улицу и, оглядевшись по сторонам, побрела по аллее Гоголевского бульвара. Ее высокие каблуки утопали в острых обломках битого кирпича, которым была усыпана аллея, и женщине было досадно, что она портит обувь.
«А впрочем, какая чепуха лезет в голову! Нужны ей будут эти каблуки уже через несколько дней? Странно устроен человек: даже перед лицом вечности он остается мелочным. Мать умирала от рака и просила дочь, чтобы в гробу она лежала с накрашенными губами».
Об этом думала Евгения, неспешно бредя по красной аллее.
«Красная аллея. Кровавый след». – Она про себя усмехнулась.
Увидев свободную скамейку, села, положила ногу на ногу, сняла темные очки и сощурилась на яркое солнце, висящее в листьях старой липы.
Евгения пришла на то самое место на Гоголевском бульваре, где встретила Германа в первый раз. Открыла том. Птички щебетали над ней, под ногами крутились голуби, но она не читала Канта, а сосредоточенно думала, глядя на первую страницу: поймет ли Ежик, что она зовет его? Должен понять! Ведь нашел он у нее в квартире дискету с Болотовой – догадался! И сейчас догадается. Он же сообразительный. Ей надоело смотреть в книгу, она откинулась на спинку скамейки и стала искать глазами наружку Соколова.
За ней можно наблюдать отовсюду. Евгения сидела спиной к «Пентагону» – и оттуда можно вести наблюдение, из бокового переулочка. А возможно – прямо из домов напротив. Зашел в подъезд – и смотри в окно сколько душе угодно. От метро, пожалуй, далековато будет, а вот из-за памятника Гоголю очень даже удобно.
Из-за памятника, решила Евгения. Да и сам памятник словно поставлен здесь надзирать. Стоит, высматривает что-то. И вообще, он не столько на Гоголя похож, сколько на Отца народов. Когда его поставили? То ли в пятьдесят втором, то ли в пятьдесят третьем году? Все правильно: генералиссимус Гоголь. И пусть он не на нее смотрит, но Евгении казалось, что генералиссимус и затылком, и с того света все видит, что на этом делается.