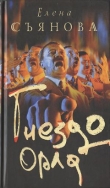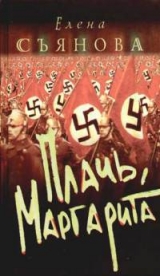
Текст книги "Плачь, Маргарита"
Автор книги: Елена Съянова
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Борман не нашелся, что ответить.
– У меня был друг, – тихо продолжал Гесс, все так же поглаживая голову собаки. – Мы с ним учились в летной школе. Его сбили над Нейвиллем, в Бельгии, в первом же бою. Иногда мне кажется, что Берта смотрит на меня… его глазами.
Мартин боялся дохнуть. Он действительно испугался. Замкнутый, со всеми кроме Лея и Пуци державший дистанцию, Рудольф Гесс, эта вещь в себе, вдруг раскрылся, да так неожиданно… Но что это сулит ему, Мартину? Гесс потом, когда вернется его хваленое хладнокровие, может пожалеть о том, что сегодня опять встал не с той ноги, и мимоходом задвинуть Бормана куда-нибудь на партийные задворки. Хотя эти несколько минут могут сделаться и первым шагом к их сближению, а значит, послужить карьере Мартина, его судьбе.
Борман, страшившийся моргнуть, по наитию тоже присел на корточки и робко погладил Берту между ушами. Его рука на мгновение коснулась руки Гесса. Тот как будто очнулся. Выпрямившись, он быстро кивнул Мартину и вышел прочь. Борман продолжал машинально гладить собаку.
…В доме не спали еще двое. Приехавший ночью вслед за фюрером штатный фотограф партии, непревзойденный «создатель исторических образов» Генрих Гоффман бегал под окнами первого этажа и ругал последними словами своего извечного врага погоду, а заодно – свою ассистентку Еву Браун, которую взял с собою, чтобы та составила необходимый «живой компонент», а эта дуреха ничего не понимала и еле шевелилась.
– Двигайся, двигайся, – шипел он на Еву, которая ходила вдоль стен, вздыхала и бросала на шустрого коротышку томные, жалобные взгляды. – Возьми галку, – приказывал он. – Не бойся, она ручная. Посади на плечо. Так. Теперь повернись правым боком. Вот. Вот так я хочу снять фюрера.
Ева замерла. Галка тоже позировала какое-то время, потом вдруг взяла и клюнула крохотную сережку, да так, что блестящий камешек оказался в клюве вместе с мочкой девичьего ушка. Ева не завизжала, как поступила бы любая другая на ее месте, а только закрыла глаза от ужаса. Гоффман тотчас сделал снимок, а затем уж обругал обеих;.
Увидев спускающегося по лестнице Гесса, фотограф трижды присел, повертел своей «лейкой» и щелкнул три раза. Рудольф считал себя нефотогеничным, сниматься не любил, и присутствие поблизости Гоффмана его раздражало, как раздражало оно и фюрера, который запретил «создателю исторических образов» устраивать охоту на себя.
Гитлер предпочитал позировать. Гоффман же, проявляя недюжинную волю, добивался от вождей импровизации и экспрессии, считая «случайные» снимки своими шедеврами.
Рудольф, чтобы отделаться от Гоффмана, обычно придумывал что-нибудь, например, говорил, что у него болят зубы, и Генриху, заявлявшему, что фотография способна извлечь из человека его глубинные чувства, приходилось на время оставлять его в покое.
Сейчас у Рудольфа болела душа. Фюрер просидел с ним часа три и говорил, говорил без умолку. Он приводил десятки доводов и контрдоводов, задавал вопросы и сам отвечал на них.
– Зачем ты пытаешься убеждать, если можешь и должен приказывать, – упрекнул его однажды Гесс.
– Я борюсь со своими сомнениями, – был ответ. – Убеждая других, я убеждаю себя.
Рудольф тогда пришел в ужас от подобного откровения. Еще больше – оттого, что кто-то кроме них двоих мог это услышать. Вождь и сомнение – как огонь и вода! – несовместимы. Сколько раз потом он боролся с собственным искушением спорить с фюрером, говоря себе, что нельзя лить воду в костер, который должен разгореться и осветить Германию. Сколько раз он внушал себе: пусть наконец замолчит истина и заговорит вера! И если он не покажет пример другим, то кто это сделает? Геринг? Геббельс? Розенберг? Нет!
«Это мой крест, и мне его нести», – внушал себе Гесс.
Весь прошлый год в партии шли дискуссии. В Берлин прибыл младший Штрассер, Отто, социалист и беспочвенный мечтатель. Ох, и задал Адольф ему жару! Великий Ницше аплодировал бы в гробу. Гитлер нарисовал тогда картину экономической экспансии, создания мировых рыночных структур, подчиненных воле нордической расы, говорил о тысячелетиях процветания…
В перерыве между дебатами Отто Штрассер отыскал Гесса, вышедшего подышать в садик при гостинице «Сан-Суси», где проводились дискуссии, и спросил с обычной грубоватой прямотой:
– Скажи, Рудольф, сколько лет ты знаешь этого человека? Уже десять? Странно, что с тобой до сих пор можно разговаривать. Но пройдет еще столько же, и твой мозг превратится в развалины.
– Через десять лет наши армии войдут в Париж, Мадрид и Москву, и в развалины превратится все, что стояло у нас на пути, – не задумываясь, отчеканил Гесс. Но, искоса взглянув на Штрассера, дружески усмехнулся. – Мы это сами выбрали… Что бы там ни было, мы знаем, на что идем.
– Но во имя чего? – почти закричал Штрассер.
– Это эксперимент.
– И ты понимаешь, какой ценой?
– Мы отвергаем этику жалости. Штрассера передернуло.
– Ты можешь хотя бы раз сказать «я»?!
– Нет. У меня больше нет «я», Отто! Мое «я» – alter ego фюрера.
– И сколько ты так выдержишь? Почему этот кровосос тебя не отпустит! Он мог бы найти тысячу жаждущих ходить за ним и повторять его бредни. При чем здесь ты?
– Отто, ты просто разучился верить…
– В кого, Руди?! В «гения», которого ты в тюрьме обучал немецкой стилистике? В «мыслителя», который во всем додумывается до ненависти к жидам? В «пророка», который…
И так далее. Это была обычная песня Отто Штрассера.
Гесс прервал разговор.
Но, очевидно, росли где-то в садике «Сан-Суси» невидимые уши, потому что уже неделю спустя Гитлер бросил мимоходом, что двух вещей не простит Отто Штрассеру – во-первых, обвинения в его, Гитлера, отступничестве от идеалов партии, а во-вторых, подлых штрассеровских уговоров, чтобы Рудольф бросил своего лучшего друга.
Через месяц Отто вышел из партии, рассорился – очень формально – с братом, и оба до сих пор продолжали мутить воду, каждый на свой лад.
…В это утро, стоя на веранде бергхофского дома, заливаемой водою, с тяжелыми мыслями об Эльзе и собственной грубости, Рудольф опять находил себя в том же тупике – снова промолчать, тем самым поддержав фюрера, означало бы в очередной раз внутренне отбросить себя от искренней веры, от сложных, но живых головоломок борьбы и, в конечном счете, от Адольфа. Протестовать же против возвращения Рема в СА, то есть новой волны авантюризма и дискредитации партии в глазах здравомыслящих людей, значило лить воду в костер. Как оставаться собою, жить, дышать и при этом действовать?
Ночью Адольф говорил без умолку три часа: опять боролся с сомненьями. Три часа его лучший друг Рудольф Гесс поощрял фюрера заниматься саморазрушением.
Видимо, от дождя, у Рудольфа разболелась голова. В больную голову всегда лезут несуразные мысли… И одну такую он не отшвырнул от себя, как сделал бы прежде, а позволил себе задержаться на ней. Что если Отто, а вместе с ним и Карл Хаусхофер, любимый наставник, правы и он попросту взялся не за свое дело?
В начале двадцатых, когда Адольф был, в сущности, очень одинок и когда он лишь набирал воздуху, закаляя волю, шлифуя свой природный дар, ему нужна была бессловесная тень, вера, абсолютная преданность. Тогда он, Рудольф Гесс, первым из всех обратился к нащупывающему свой путь лидеру с божественным словом «фюрер», сделав для движения больше, чем тысяча самых горластых поклонников. Тогда он поднял свой крест и нес его честно все это время. Тогда он начал свой путь и шел по нему, пока были силы…
«Все это вздор, конечно! – отмахнулся от назойливых мыслей Рудольф. – Неуместная патетика, интеллигентский бред, как говорит Геббельс. Но… почему бы мне и в самом деле не поработать с Карлом не пару дней, а пару лет?»
Это простое и счастливое решение ударило ему в голову так физически ощутимо, что он стиснул ее обеими руками. Вспышкой возникло лицо Адольфа, которому он излагает свои аргументы. «Ты ведь сам всегда сожалел о том, что мало разбираешься в этой области, которую тем не менее считаешь основополагающей! Тебя всегда приводили в восторг термины Карла, такие как «жизненное пространство» или «Пруссия Востока» (основатель геополитики Карл Хаусхофер (1869–1946) ввел эти понятия в лексикон нацистских руководителей, выдвинув идею о том, что расширение жизненного пространства для немцев неизбежно приведет к территориальной экспансии, прежде всего на восток, «Пруссией Востока» Хаусхофер называл Японию, видя в ней союзницу Германии в будущей мировой политике, в 30-е годы территория Хаусхофера стала частью официальной доктрины нацистской Германии.)! Ты всегда сожалел о том, что геополитические идеи сложны для понимания масс, а Хаусхофер высокомерен с недоучками… Так почему бы мне не заставить научные абстракции говорить языком лозунгов, твоим языком? Ты всегда утверждал, что для экспансии потребуется теоретическая база. Нет, нет же, черт подери, как раз теория, вызрев в гениальных умах, рано или поздно потребует экспансии!»
Рудольф не заметил, как вышел под хлещущий дождь. Он не чувствовал ничего, когда, подняв голову, с изумлением смотрел в ровное, без единого просвета, бледно-серое небо, перечеркнутое одинокой свинцовой полосой, застывшей посередине.
Дамы пили кофе в «фонарной» гостиной. Мужчины еще не просыпались. Чуткая Ангелика сразу увидела на лице вошедшей Эльзы какую-то тень. «Что? – спросили ее глаза. – Что случилось?» Эльза вошла с маленьким томиком, который протянула Ангелике. Это были «Сонеты» Шекспира. Гели нервно листала книжку, точно что-то искала в ней. Вдруг она вскинула голову, будто ее осенило. «Ты… из-за меня?» – спросили ее глаза, но не получили ответа.
Теперь их было четверо – в избранный круг попала и юная Ева Браун, которую Эльза, пожалев, забрала у Гоффмана и устроила так, чтобы девушка, не имевшая возможности даже переодеться с дороги, смогла прийти в себя и отдохнуть. Потом пригласила ее к завтраку.
Елена сперва ревниво изучала восемнадцатилетнюю глупую мордашку, по прихоти Эльзы появившуюся в их интимном кружке, точеную фигуру с высокой грудью и узкими бедрами. Но ревность быстро растаяла. От присутствия Евы ничего не менялось, как будто в гостиную внесли лишний стул.
Зашел поздороваться Геббельс и, увидев томик Шекспира, собрался что-то сказать, но Елена бросила на него такой зверский взгляд, что он только развел руками.
Давние любовники, неутомимые и нежные наедине, они при посторонних постоянно конфликтовали, часто из-за несносной манеры Йозефа (которого Елена называла Полем, от его первого имени Пауль) постоянно цитировать кого-либо из известных или малоизвестных авторов, а затем невинно вопрошать окружающих: «Откуда цитата?» Почему-то, несмотря на то что все изречения приходились к месту и помогали выявить суть дела, эта привычка Йозефа была всем неприятна и вносила хаос в умы. Собеседники, не желая прослыть невеждами, начинали судорожно рыться в памяти, перетряхивать школьные познания, затем выдавались версии одна нелепей другой, и в конце концов Геббельс, устыдив всех, давал правильный ответ. Все сразу же заявляли, что именно это они и имели в виду. Но если мужчины всякий раз попадались на удочку, то фрау Елена просто зубами скрежетала, стоило Геббельсу собраться что-либо процитировать.
– Только посмей, Поль, сдуть при мне пыль с какого-нибудь мумифицированного Овидия, и я тебя укушу!
У Поля тоже имелись претензии к Хелен (он, конечно, догадался, как она развлекалась эти дни), и чтобы случайно не попасть под перекрестный огонь, Эльза и Гели отправились почитать в тепле библиотеки. В доме и в самом деле становилось прохладно, а в «фонарной» и вовсе свежо. Еву они позвали с собой. Девушка тотчас же удалилась в другой конец зала и принялась исследовать содержимое огромных шкафов. Наконец-то им удалось уединиться, и Гели, мерцая глазами из-под рассыпавшихся кудрей, напряглась в ожидании.
– Мы немного отложим наши планы, Гели. Мне придется вернуться в Мюнхен, – сказала Эльза. – Мне очень жаль.
– Это все? – Гели глядела не мигая, словно ждала чего-то еще.
– В каком смысле?
– Мне показалось, ты расстроена.
– Мне хотелось поехать с тобой.
– Только из-за этого?
– Ты так радовалась.
Гели, сияя, держала ее руку. Вдруг ее опять что-то встревожило.
– Ты говоришь мне правду?
– Конечно. Я, пожалуй, провожу Еву в ее комнату. По-моему, бедняжка совсем измучилась и ненавидит нас всех.
– Да, – согласилась Гели. – Она какая-то жалкая. Хоть и красивая.
Она проводила глазами стройную ассистентку Гоффмана, а потом, открыв «Сонеты», еще долго глядела поверх книги в одну точку.
«Мы станем депутатами рейхстага для того, чтобы изменить веймарские умонастроения! Мы придем как враги! Мы придем как волк, вламывающийся в овчарню!»
Таковы были лозунги избирательной кампании 1928 года, предложенные Геббельсом.
Гитлер нервничал:
– Эта кампания длится уже три недели! Впереди еще три. Мы стоим посредине пути. Но где, где настоящие лозунги? Я спрашиваю вас, где хотя бы одна стоящая фраза? Хотя бы слово! Я желаю услышать его, если здесь еще не разучились думать!
Берлинская склока вырвала шесть драгоценных дней, и хотя кампания уже катилась лавиною, он нутром чувствовал разброд и шатанья. Да еще проклятое горло, вечный внутренний враг, опять подвело. Какая-то журналистская мразь из скверной берлинской газетенки написала о фюрере: «Этот человек не существует, он лишь производит шум».
– Если так пойдет дальше, я и шума производить не смогу, – мрачно шутил Адольф по поводу своего голоса, все более напоминавшего шуршание автомобильных шин.
Итак, хорошего лозунга у кампании не будет – это становилось ясно. Три недели до финиша, а все выглядели будто выжатыми. Даже суточный отдых не восстановил силы. Сегодня приехали Эссер, Шварц и Лей, но что проку! Герман Эссер – великий говорун, но по части новых мыслей обычно помалкивает. Ксавье Шварц, партийный казначей, горазд только убытки подсчитывать. А Роберт Лей, гауляйтер Кельна, хоть и умница, но до общего сбора вечером двадцать третьего вообще не показывался фюреру на глаза, а когда явился, сразу навел того на подозрения. Лей был возбужден и заикался больше обычного – первый признак того, что он опять «перебрал». Ну, соратники! Ну, сукины дети! Вождь, однако, приберег критику на послевыборное время, а пока глазами постоянно цеплялся за Геринга, который, кажется, один оставался в форме и был, как всегда, достаточно продуктивен.
– Я полагаю, – говорил Геринг, – лозунг о волке можно оставить, задвинув его внутрь, поскольку вместо волка теперь придет стая.
– Да, да, Герман, я рассчитываю на пятьдесят мест.
– Я убежден, что мы получим в два раза больше… Тем не менее – никаких парламентских реверансов! Никакой пропаганды легальности! Наши молодые ораторы в последнее время сбавили пафос. Следует разослать директивы начальникам школ.
– Директива не метод, – возразил Гесс. – Наглядный пример может произвести тройной эффект, особенно на молодых.
– Согласен, – кивнул фюрер. – Выпускников ораторских школ нужно сориентировать примером. Пусть присутствуют на ключевых митингах во вторник и среду.
– Кому-то надо остаться в Берлине, – сказал Геббельс, – чтобы держать под контролем Штрассера.
– Что значит «кому-то»? А тебя там мало? – хмыкнул Лей.
– Меня там из двадцати дней не будет четырнадцать! К тому же к моей манере уже привыкли. В интересах дела там нужен иной стиль.
– Что значит «иной стиль»? – не унимался Роберт. – Когда ты вопишь: «Прочь, подонки! Бей их в толстые животы!», это всегда нравится.
Геббельс сердито покраснел.
– В Берлине мог бы остаться Альфред Розенберг. Его академический стиль – достаточный противовес, – сказал Рудольф.
– Ты не знаешь, Отто встречается с братом? – обратился Геббельс к Гессу. – У меня данных нет.
– Думаю, братья общаются.
– Мне этот альянс как кость в горле, – заметил Гитлер. – Но до каких пределов способно простираться лицемерие?! Публично отмежевываться от брата, объявлять себя борцом за чистоту партийных рядов, клясться мне в любви чуть не ежедневно, как будто я без этого не усну, а после мирно обниматься с братцем и обсуждать здоровье тетушки! Не понимаю!
– Иные люди разделяют себя как бы на две сущности и тем самым поддерживают внутренний баланс, – заметил Геринг.
– Вот это я и называю лицемерием!
– Опять Штрассер. Все время Штрассер, – проворчал Пуци. – Страшнее Отто зверя нет! А может, у кого-то другое что в горле застряло.
Гитлер сделал протестующее движение. Любого из присутствующих это остановило бы, но не Пуци.
– Среди нас, конечно, лицемеров нет, но есть чересчур принципиальные, – продолжал тот, прищурившись на Гесса. – Вместо того чтобы открыто заявить о недоверии кому-либо, они начинают проталкивать своих людей.
– Это едва ли в твоей компетенции, Эрнст, – сказал Геринг.
– У нас с тобой по десять лет партийного стажа, Герман, так что едва ли существуют вопросы, которые вне нашей компетенции.
– Если своя гвардия есть у партии, то она должна быть и у фюрера! – прямо заявил Лей.
– А это не лицемерие?
– Почему лицемерие?.. – Лей был сильно раздражен и с трудом сдержался, отчасти из-за присутствия фюрера, отчасти благодаря руке Гесса, которую тот мягко положил на его руку. – Вообще, речь теперь не о том!
– Нет, о том, Роберт! – не унимался Ганфштенгль. – Если уж тут заговорили о двух сущностях… Официальным заместителем фюрера по партии является Грегор Штрассер, но фактическим – Рудольф. Официально нас охраняют штурмовики Рема, но фактически… я все более ощущаю присутствие некоей мистической силы… – Он снова уставился на Гесса. – Может быть, ты объяснишь мне, кто дал Гиммлеру столько полномочий?
– Я! – отрезал фюрер. – Я целиком доверяю присутствующим и потому скажу прямо – мое доверие к штурмовикам уменьшается обратно пропорционально полномочиям Гиммлера.
– Ну, тогда кое у кого есть все основания утопить моего тезку Рема в ведре, – усмехнулся Пуци в сторону Лея, подтолкнувшего фюрера к подобной прямоте, – а коричневых переодеть в черное. Хотя, конечно, коричневый кое-кому больше идет – к цвету глаз.
– Глупо, Эрнст, – проворчал Лей.
– Я могу задать неофициальный вопрос?
– Какой вопрос, черт тебя подери? – рявкнул Гитлер.
– Может быть, у меня как у шефа зарубежного агентства печати и твоего пресс-секретаря тоже появился дублер, некая параллельная структура? А я хлопаю ушами, как какой-нибудь Штрассер или наивный Рем, которого выманили из Боливии…
– Спи спокойно, Эрнст! Если бы у тебя появился дублер, он заявил бы о себе, как всякий новорожденный, – громким криком, – усмехнулся Геббельс.
– Адольф, позволь ответить мне, – сдержанно обратился Гесс к Гитлеру, который начал тяжело дышать, – поскольку пафос нашего товарища с десятилетним стажем направлен против меня. Создание любых структур – параллельных, перпендикулярных или пересекающихся – есть право фюрера или того лица, которому он это право передаст. Моя обязанность состоит прежде всего в скучной необходимости об этом напоминать.
– Ну, тут тебе дублер не нужен, Руди! Тут ты ас!
– Тогда чего ты ко мне цепляешься?
– А к кому мне цепляться? К тому, кто первым упомянул здесь о лицемерии?
– Если для тебя это красная тряпка, Эрнст, то разберись прежде с самим собой.
– Я так и сделаю, – буркнул Ганфштенгль.
– Вернемся к нашим баранам, – предложил невозмутимый Геринг, ясно видевший напряжение Гитлера. – Мой фюрер, сегодня, как мы и планировали, я должен подвергнуть стилистической корректировке некоторые пункты программы, которые следует передать в печать – в частности, и через наше зарубежное агентство. Итак?
Гитлер кивнул. Геринг начал излагать. Стилистическую правку вносили Геббельс и Розенберг. Гесс и Лей молчали. Потому, должно быть, дело продвигалось быстро.
– Голова болит до тошноты, – пожаловался Гесс перед поздним ужином. – Я, пожалуй, пойду спать.
– Может быть, прогуляемся? – предложил Гитлер. – Дождь перестал.
Они не свернули на тропинку, ведущую в сосновую рощицу, а пошли вниз по склону. Терпкий смолистый дух доносился и сюда. Сквозь прореху на небе подмигивала одинокая звезда.
Адольф молчал, поглядывая на друга, который кутался в теплый плащ. Он хотел уже предложить вернуться, как вдруг Гесс прервал молчание:
– Почему ты допускаешь эти пингвиньи базары?
– Меня и так упрекают, что я один не закрываю рта, – усмехнулся Гитлер.
– Необходим четкий регламент. Позволь, я этим займусь.
Они спустились немного по холму туда, где расчищали участок для сада, вместо которого пока торчало три десятка хворостин. Берта унеслась еще ниже и исчезла, слышно было только ее довольное фырканье.
– Что она там? – поинтересовался Адольф.
– Да натирается какой-нибудь дрянью. Берта, ко мне! – позвал Гесс. – Берта! Купаться!
Через несколько секунд из темноты показалась овчарка – она ползла на брюхе и поскуливала.
– Что это с ней? – испугался за любимицу Адольф.
– А это она мыться не любит. Эльза, если унюхает что-нибудь, сразу берется ее мыть своими эссенциями. Ладно, девочка, гулять! Мы никому не скажем.
Берта снова унеслась в темноту.
– Эльза тебе не говорила, согласилась она взять с собой Ангелику? – спросил Адольф.
– Куда? Ах, это… Не знаю. Я спрошу.
– Руди, а почему ты… меня никогда не спросишь… – Он запнулся, но Рудольф понял:
– Я не считал себя вправе.
– Какое право?! Я бы мог спросить тебя о чем угодно.
– Я прочитал твою записку… Неужели так серьезно?
– Что? Наши ссоры или мои чувства?
– Я бы не спрашивал о ссорах, если бы не догадывался о чувствах.
– Это какое-то безумие… Почему ты не спросишь, что я собираюсь делать с ним?
– Что ты собираешься делать с ним?
– А что ты посоветуешь?
– Адольф, разве можно…
– Можно, можно, черт подери! Если я сам решить не в состоянии! А результат, как ты его назвал, – пингвиньи базары!
– Но чего ты сам хочешь?
– Хочу, чтоб была моею! Хочу жениться на ней. Вспомни всех дур, которые ко мне липли! В первый раз хочу жениться! Хочу. – Он тяжело дышал, ожидая ответа.
Прошла минута, еще…
– Что же ты молчишь? Гесс сильно потер виски.
– Я не знаю, чего ты ждешь от меня…
– Нет, знаешь! – Адольф внезапно так стиснул его локоть, что тот едва терпел боль. – Говори!
– Ты… не можешь жениться на ней. Гитлер опустил руки. Дыхание его прерывалось, лицо взмокло от пота.
– Почему?
– Вы родственники. Это повредило бы… в глазах…
Гесс чувствовал, что его опять начинает му-тить. В какой-то миг он едва не крикнул: «Не слушай меня! Не слушай никого! Делай как знаешь!». Но не крикнул, молча смотрел себе под ноги. Теперь озноб бил обоих – одного от резкой боли в висках, другого от мокрой травы, холодного ветра, темноты вокруг.
Они повернули назад. Как легко было спускаться и как тяжело давался каждый шаг назад, вверх по холму! Уже у веранды Адольф присел на ступеньку и, обхватив голову подбежавшей Берты, стал смотреть в немигающие собачьи глаза.
– Руди, я давно хотел тебя спросить. Почему тогда, в двадцать четвертом, ты ко мне вернулся? Я ведь стал ничем, меня вычеркнули. Почему ты снова поверил?
– Я поверил раз и навсегда, и это случилось не тогда. – Гесс сел рядом и достал сигареты. – Я закурю, ничего?
Адольф поглядел на него, точно не понимая.
– А если бы сейчас – снова с нуля? Ты остался бы со мною?
– Конечно. И не я один. А это значит – уже не с нуля. Как и в двадцать четвертом.
– Нет, не то. Я про другое. Если бы я остался совсем один… Просто голый болван на необитаемом острове?..
– Построили бы плот и добрались куда-нибудь.
– А если бы я стал тонуть и потащил тебя за собою?
– Я отлично плаваю. Мы справились бы.
– И все-таки – почему?
– Да потому! – Гесс рассердился. Чувства друга к Ангел икс были понятны ему и вызывали ответную боль, но все эти аллегории с тонущими болванами… Что на него находит? В любви мне ему объясняться, что ли? Он не видел, что Адольф улыбается. Гесс не понял бы этой улыбки, и если б заметил, то рассердился бы окончательно.
Они вернулись в дом и сразу прошли наверх, минуя гостиную, где в этот час расположилось досужее общество. Туда забежала Берта, оповестив о возвращении с прогулки хозяина, и Эльза, извинившись, поднялась в спальню. Она была еще сердита на мужа и ждала объяснений, но он, казалось, уже обо всем забыл. Он даже не повернулся к ней, а продолжал стоять спиною, упершись руками в подоконник.
– Если я тебе не нужна, я вернусь в гостиную, – сказала она.
– Эльза, я хотел спросить… Если со мной что-нибудь случится, ты не уйдешь от меня?
У нее в первый момент округлились глаза, потом закипело возмущение. Ну что это, в самом деле? Как можно задавать такие вопросы? Но она вспомнила, что он вернулся после прогулки с Адольфом, и кто знает, о чем они говорили.
– Я не уйду, – отвечала она сдержанно. – А в каком случае ты бы ушла? Просто черт знает что такое.
– Только если бы ты прогнал меня. Возможно, у меня хватило бы гордости.
Он молчал.
– Хотя, возможно, и тогда я бы осталась. Он наконец повернулся и посмотрел ей в глаза.
– Руди, если допрос окончен, я пойду. Роберт опять пьян, а Гели взяла с него слово, что он научит ее стрелять в темноту.
– Ты что, решила ее удочерить?
В шумной гостиной царствовала Елена в окружении шести мужчин. Пуци дразнил жену откровенным флиртом с хорошенькою Евой, которая своей молодостью заняла здесь больше места, чем ей полагалось; к тому же девушка оказалась наделена способностью к мимикрии, и их оживленный разговор привлекал всеобщее вниманье.
Еще одна пара расположилась у окон, и непонятно было, что они там высматривают. Роберт Лей указывал в темноту, а Гели, самовольно явившаяся в гостиную и уже проглотившая две рюмки коньяка, вглядывалась туда блестящими от приятного возбуждения глазами.
Эльза вошла впереди мужа и возвратилась к многочисленной компании, оживленно обсуждавшей проблему дуэлей, а Рудольф, налив себе коньяку, уселся неподалеку от Роберта и Ангелики, которые тотчас изъявили желание к нему присоединиться.
Гели всегда робела в присутствии Гесса, но, чувствуя опору в лице Лея, решилась все же поднять на него глаза. И тотчас их опустила. Роберт, поняв, что фюрер лег спать, окончательно расслабился. Влив в себя громадную, чуть не в пол-литра рюмку (она так и называлась «рюмка Лея»), он потянул Гесса к окну, чтобы в очередной раз поведать историю о том, как во время войны «эти сволочи» сбили его аэроплан, как он падал с ночного неба – «из тьмы во мрак» – и прощался сам с собой.
– Ты летчик, Руди, и ты меня поймешь. Мне кажется, что тот Роберт Лей так и остался там и все еще летает. Если бы был Бог…
– Бог умер, старина, и небо пусто. Но даже такое, оно всегда будет призывать нас. Мы выпьем за тех, кто уже не откликнется.
Они представляли собой физическую противоположность – высокий, прекрасно сложенный, с неуловимым изяществом в движениях и мягким взглядом ярких глаз Рудольф Гесс и крепко сбитый, резкий, нервный Роберт Лей, два бывших летчика, каждого из которых по-своему обласкала война.
Они выпили еще. Потом втроем вышли на веранду. Рудольф взял из рук Лея его именной браунинг и взвел курок.
– Теперь смотри, – сказал Гесс Ангелике. – Вот так он заряжается. Теперь возьми его в руку. Ты можешь выстрелить.
– Куда? – спросила возбужденная Ангелика.
– Думай сама. В этой стороне охранники. В той тоже. Справа дорога, там стоят машины и работают механики. Они часто работают по ночам. Прямо – кусты; в них местные кобели обычно караулят Берту. Впрочем, сейчас их нет. Ты можешь выстрелить туда.
– А если они там? – растерянно спросила она.
– Ты можешь выстрелить в небо.
– В небе Бог.
– Там пусто. Наконец, ты можешь выстрелить в меня.
Она взяла пистолет и, странно улыбнувшись, прикоснулась дулом к левой груди.
– Я поняла… Всегда есть куда выстрелить. Рудольф отобрал у нее пистолет и вернул Лею.
– Только больше не думай, что можно стрелять в темноту.
– Верно, девочка! – воскликнул Роберт, не задумываясь о логике. – Темнота, она здесь!
Он ударил себя в грудь и покачнулся. Гесс увел его, обняв за плечи.
Гели осталась одна. Ей было жарко и почему-то казалось, что Рудольф сейчас вернется к ней. Она долго ждала, уже понимая, что возвращаться ему незачем, потому что он все сказал. Она прокралась наверх, стыдясь своего головокруженья. Она была пьяна и возбуждена приятным ожиданием. Но Адольф крепко спал, одетый, ничком на диване. Видимо, как вошел, так и рухнул – он часто засыпал так, и ей часто бывало его жалко.
Утро следующего дня неожиданно порадовало всех. Мужчин – важной информацией из Берлина, которая вмиг привела их в боевое настроение; женщин – потоками солнечного света, которые снова пролились на Бергхоф.
Только Эльза, по обыкновению, была сдержанна, хотя ночью Рудольф, предварительно извинившись за глупую сцену, поведал ей нечто такое, что заставило сильно биться ее сердце.
– Если мы пройдем в рейхстаг с не менее чем пятьюдесятью мандатами, я попрошу отпуск на полгода. Хочу поработать с Карлом в Немецкой академии. – Увидав выражение ее лица, он поморщился. – Почему ты так смотришь на меня?
– Руди! Но он не отпустит тебя!
– Ты говоришь вздор!
Она продолжала смотреть с тем же выражением.
– Он не отпустит тебя! Ни за что не отпустит! Вспомни, пять лет назад, когда ты уже начал работать на кафедре…
– Тогда было другое. Мы только вышли из тюрьмы, и…
– И ты сразу отправился к своему возлюбленному Карлу…
– Ты забыла, малыш, – он поцеловал ее в нежное запястье, – никуда я не отправлялся. Вы с Адольфом ждали меня в машине у ворот, потом мы поехали в «Баварию» и порядком там напились.
– Это ты все забыл! Или себя обманываешь! Я-то помню. Ты сказал ему, что начинаешь работать в университете, и он сначала ничего не ответил. Потом прошла неделя. Ровно семь дней. Мы шли по Принцрегентплац – и я это точно помню, – шел мелкий дождь, он говорил о строительных панелях, а потом вдруг, без перехода сказал: «Это невозможно, Руди. Ты не сумеешь раздвоиться. Ты должен выбрать». А ты очень весело ответил, что тебя на все хватит.
– И на этом разговор был окончен.
– Разговор – да, но не остальное. «Остальное» заключалось в поведении Адольфа в последующие несколько недель. На фюрера нашла апатия, выматывавшая всех, кто находился рядом. Он почти все время молчал, надолго запирался один и соглашался впускать к себе одного Рудольфа, и тот все чаще вынужден был оставаться с ним. Было это спектаклем, разыгранным с определенной целью, или чем-то другим, трудно сказать, однако все закончилось естественным образом, а именно – Рудольф почти перестал бывать у Хаусхофера.
– Я не понимаю, о чем ты говоришь, – прервал Гесс жену. – Пять лет назад мы были пустым местом, а теперь – через год-два Адольф станет канцлером.
Эльза даже руками всплеснула.