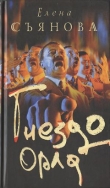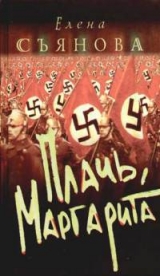
Текст книги "Плачь, Маргарита"
Автор книги: Елена Съянова
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
«Но что ему я, мартышка, дурочка?» – не раз в унынии задавала себе вопрос Ангелика.
– Вот Адольф вернется, и я поговорю с ним, – сказала она вслух, подавив вздох, и солгала: – Я ведь еще не пробовала.
– Если ничего не получится, скажешь мне? – попросила подруга.
– Скажу.
После восемнадцатого наступили чудесные, солнечные дни. Кажется, все обитатели Бергхофа переживали умиротворенье.
«Бергхоф – это чудо, – писал Геринг умирающей от чахотки жене. – Здесь снова начинаешь чувствовать жизнь. Фюрер в Берлине, Гесс улетел в Австрию, а Борман оказался славным малым. Мы работаем по три часа в день, но все успеваем. У меня впервые за несколько лет появилось свободное время, и я… похудел. Большой привет тебе от наших милых, брошенных мужьями дам, как они сами себя называют, – от Эльзы, Хелен и Ангелики. Они, однако, ничуть не скучают и почти не расстаются. Дни стоят солнечные, сегодня термометр показал плюс двадцать пять».
Геринг лукавил. Не расставались лишь Эльза и Ангелика, Елена же присоединялась к ним только в утренние часы во время прогулок верхом или спонтанных пикничков в компании местных ребятишек, которые часто наведывались в усадьбу, еще не обнесенную по указанию Бормана двухметровой стеной.
Мужчины в это время занимались делами. По всему дому трещали телефоны, маячили адъютанты Геринга, которые, пока шеф работал, не решались сбежать на пляж или покататься на велосипедах.
Поразительно было, как легко двое мужчин делили лукавую любовницу. Геринг казался совершенно довольным – ни одного косого взгляда или тени неприязни по отношению к Мартину, который будто бы тоже несколько расслабился и последние два дня даже стал появляться на теннисном корте, причем выигрывал у Эльзы сет за сетом.
«Затишье перед бурей» – так охарактеризовал ситуацию в оберзальцбергской резиденции вечером 19 августа Геринг, и он знал, что говорил.
21 августа возвратился из своей поездки Гесс, двадцать второго ждали фюрера. В Берлине проблему решили – блондины Гиммлера (СС – Охранные отряды – вооруженные элитные формирования НСДАП, их начали формировать с 1923 года в качестве личной охраны фюрера в составе Штурмовых отрядов – СА, С 1929 по 1932 год под руководством Гиммлера численность СС выросла с 280 человек до 30 тысяч, в начале 30-х годов СС начинают играть все более важную роль противовеса стихийно растущим и плохо управляемым штурмовым отрядам Эрнеста Рема) загнали бунтарей в казармы и убедили сдаться. Их командира фон Пфеффера фюрер сместил, себя объявил командующим силами СА, а Рема – начальником штаба.
Не так легко дела шли у Гесса. Он вернулся в Бергхоф двадцатого днем таким раздраженным, что даже его любимая Берта поджала хвост.
Когда Рудольф был зол, он молчал. Это знали все, и никто, конечно, его ни о чем не расспрашивал. Только Елена поинтересовалась, какая в Праге погода, поскольку он и там успел побывать.
– Такая же мерзкая, как все остальное, – был ответ.
Эльза знала, что мужа в конце концов прорвет и он выскажется. Обычно он делал это только при ней, за плотно закрытыми дверями, поэтому в партии его считали образцом истинно арийской сдержанности. Когда она вошла в спальню, он ходил полураздетый и уже совершенно готов был взорваться.
В Вене ему все удалось – прошли намеченные собрания, были получены субсидии под местную нацистскую газету, но в Праге…
– Никогда не встречал столько трусов в одном месте! – негодовал он на тамошних, напуганных его напором наци. – Но я им сказал, что они не того боятся и что когда мы придем…
– Кто «мы», Руди?
– Не задавай пустых вопросов! – накинулся он и на нее. – Ноги моей не будет больше в этой гнилой стране! Ей вообще нечего делать рядом с Германией!
– Видимо, не всегда можно навязать другим свои… – начала было Эльза, и он снова рассвирепел.
– Видимо, ты забыла, что такое Германия! Посмотри на карту! Клок лоскутного одеяла, плевок в озере! Когда планы фюрера осуществятся и наши армии двинутся на восток, когда в каждом государстве протухшей Европы их встретят преданные исторической родине толпы под свастикой, вы… вы оцените то, что я делаю сейчас! Неужели ты не понимаешь, что без опорных баз нам не пройти европейского болота?! Мы попросту увязнем в нем! – Он походил по спальне, потом тряхнул головой, обнял жену и поцеловал. – Прости. До сих пор стоят в глазах эти жалкие трусливые физиономии. Лучше скажи, как дома дела. Адольф звонил? Бормана не съели?
– Адольф звонит каждый день. И всегда просит тебя не будить. А Борманом кто угодно подавится.
Он улыбнулся.
– Ты говорила с Ангеликой? Завтра Адольф вернется. Я должен знать.
В ответ она напомнила, что он собирался принять ванну и что Геринг ждет их к ужину.
– Хорошо, – согласился муж. – После поговорим.
По всей вероятности, Геринг что-то собрался обсудить с Гессом, поскольку в столовой зале он встретил их один. Наблюдательная Эльза едва сдержала улыбку, увидев Германа одетым в историческую коричневую рубашку образца мировой войны из той самой партии, что была закуплена Ремом еще в 1924 году в Австрии, и двумя значками на груди – свастикой участника путча 1923 года и «орлом» Нюрнбергского митинга 1929 года.
Партийные остряки недаром окрестили Геринга «костюмером» – переодевания были для него своего рода языком, орудием, при помощи которого он настраивал себя и собеседника на нужный ему тон.
Гесс знал Геринга с 1919 года, когда они служили в одном авиаполку и Геринг был его командиром. «Костюмных ролей» Германа он никогда не одобрял, однако коричневая рубашка была его любимой одеждой. Кстати, фрау Брукманн, одна из первых поклонниц и покровительниц наци, утверждала, что этот цвет удивительно идет к его зеленым глазам. Сам Гесс явился в обычном костюме и светлом галстуке, так что при виде Геринга почувствовал, как настроение улучшилось.
– Приветствую «старого бойца», решившего вдруг вспомнить об этом, – не удержался он от маленькой колкости.
– Есть вещи, которые у нас в крови, старина. О них не помнишь постоянно, но и не забываешь никогда, как о собственном сердце, – улыбнулся Геринг. – Что будем пить: коньяк, шампанское?
– И по какому поводу? – спросила Эльза.
– По поводу заката, вашей улыбки, возвращения фюрера, венских товарищей… Неужели мы не найдем повода?
– Выпьем за мюнхенскую полицию, – усмехнулся Гесс.
– Ты и в полиции успел побывать? – удивился Геринг. – И что там?
– Пришлось соврать, что я выполнял рекламный полет. Там есть один сыщик, Генрих Мюллер. Он уже оказывал нам услуги… Так вот, он привез художника в авиаклуб, тот быстро намалевал на крыльях моего аэроплана – «Фелькишер беобахтер». Одним словом, я пробыл в Мюнхене не более двух часов.
– И ты, конечно, хочешь предложить этому Мюллеру поменять работу? – несколько озабоченно спросил Геринг.
– Почему нет? Думаю, он давно готов и ждет случая.
– Новые люди – конечно, неизбежность, но… Не чересчур ли активно они сразу начинают работать локтями?
Ради этого разговора Геринг лишил себя общества соблазнительной Елены и потому был энергичен.
Гесс перестал жевать и недовольно прищурился. До него уже доходили слухи о недовольстве «старых бойцов» его неразборчивостью в выборе новых людей, которым он открывал доступ к фюреру. Если бы кто-нибудь решился высказать это Рудольфу в лицо, он сумел бы доказать, что как раз очень разборчив и поэтому ветераны-импотенты остаются за бортом, а всю тяжесть набирающего обороты движения несут на себе новички, у которых нет ветеранских значков, зато есть смекалка и преданность.
– Кого и к кому ты ревнуешь, Герман? Фюрера к делу или дело к фюреру? – прямо спросил он. – Новые люди делают дело!
«Это твоя вечная демагогия, – мысленно возразил Геринг. – Ну погоди, я тебе кое-что покажу».
– Ревнуешь того, кого любишь сильнее, не правда ли? – улыбнулся он Эльзе, которая приучила, себя не включаться в мужские прения и потому имела возможность не соглашаться, но и не возражать.
– Вспомни, как ты косился на Бормана, – заметил Гесс. – А теперь ты его оценил?
– Все же я не желал бы видеть его возле фюрера. И надеюсь со временем тебя кое в чем убедить. А для начала взгляни-ка вот на этот любопытный документ. Он касается другого твоего протеже, Гиммлера. – Геринг достал из нагрудного кармана сложенный вчетверо листок. – Хоть он и попал ко мне случайно, я в таких случайностях вижу своего рода перст судьбы.
Гесс развернул листок, положил рядом с тарелкой и начал разглядывать. Эльза, сидевшая напротив, видела, как меняется выражение его лица – сначала на нем появилось недоумение, его сменил интерес, потом Рудольф засмеялся.
– Что, каков? – тоже улыбнулся Геринг.
Документ и в самом деле был любопытнейший. Внешне он представлял собою схему из соединенных линиями четырехугольников, в каждом из которых значилось конкретное имя и звание. Вверху стоял фюрер. Ниже, соединенный с ним прямой линией, – обергруппенфюрер СС Рудольф Гесс. Еще ниже, соединенный линиями с обоими, – сам рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер. Под ним в одну цепочку вытянулись четыре прямоугольника – Геринг, Геббельс, Лей и… Борман, группенфюреры. Наконец, в самом низу ступенчато расположились Кепплер, фон Ширах-младший, Франк, Эссер, Розенберг и Дарре.
– Фюрер это видел? – спросил Рудольф.
– Нет. Если хочешь, посмеши его сам. – А что здесь смешно, по-твоему?
– То, чего нет, естественно.
Гесс снова посмотрел на схему. В самом деле, где же Штрассер, Амман, Бухлер? Где Пуци? Где Рем, наконец? Очевидно, их Хайни не берет в дело.
– Ну, что скажешь? – поинтересовался Геринг. – Только ли это психологический феномен Гиммлера или ты видишь еще что-то?
– Я думаю, это… круговая порука.
– ?
– Гиммлеру даны полномочия по формированию личной гвардии фюрера, цели и задачи которой определены, но перспективы пока неясны. Возможно, он готов взять на себя ответственность за работу, от которой прочие структуры станут воротить нос.
Геринг даже свистнул.
– Хорошенькая перспектива – сделать нас всех соучастниками…
– Ты хочешь сказать: сообщниками? Кстати, кто у него украл эту бумажку? Бдительный Хайни, наверное, посыпает голову пеплом.
– Мне ее передал один из его людей. Один из тех, кого он отбирает для себя по расовым признакам. Голубоглазый блондин. Бывший морской офицер из Ганновера. Я записал его имя. Гейдрих, кажется.
– Я думаю, можно поступить по-божески и возвратить Гиммлеру его шедевр, – сказал Гесс.
– Хорошо бы предоставить воришке случай возвратить это шефу собственноручно и понаблюдать… – размечтался Геринг. – Впрочем, такие сцены – не в моем вкусе. И все же я бы его проучил.
– Кого?
– Хайни.
– Пожалуй, ты прав. – Гесс на минуту задумался. – Тогда схему следует сжечь, а Гиммлеру дать понять, что мы с тобой о ней знаем. Пусть проверит свои кадры. «Преторианцев» иногда полезно встряхивать, иначе они утрачивают бдительность, что отрицательно влияет на безопасность фюрера. А это недопустимо.
– Отлично! Именно этого я и хотел!
Про себя Геринг ругнулся. Затевая разговор, он имел в виду что угодно, только не подобную чушь. Уникальная способность Гесса все сводить к идеологии или безопасности Адольфа порой забавляла его, а порой выводила из себя. Если бы речь шла о ком-то другом, Геринг давно бы махнул рукою, но перед ним сидел человек, чье воздействие на Гитлера оставалось неотразимо, – единственный, кому Гитлер уступал просто так, за зеленые глаза, как говорил язвительный ревнивец Пуни.
Когда Эльза в купальном халатике вошла в спальню, муж сидел на постели и с трудом удерживал себя в вертикальном положении.
– Эльза, что-то я хотел…
– Спать, спать… – прошептала она, легонько толкнув его на подушки. И подумала, а не съездить ли ей на пару недель в Неаполь или Вену, на открытие оперного сезона. Можно взять с собой Ангелику…
Двадцать второго в Бергхоф возвратился фюрер и привез дурную погоду. Машины еще катили по дороге, ведущей к дому, а за ними уже шла лавина воды, постепенно заволакивая округу сплошной пеленою. Ливень рухнул стеной и продолжал крушить все с грохотом и сверканием молний, за полчаса обратив райские кущи Бергхофа во что-то мутно-бесформенное.
Гитлер приехал усталый, с больным горлом. Неврастеники из берлинского СА, требовавшие денег и самоуправления, разгромили собственную штаб-квартиру и передрались с СС, так что гауляйтеру Берлина Геббельсу ничего не оставалось, как обратиться за помощью к берлинской полиции, чтобы унять взбесившихся соратников. Штрассер, давно скрипевший зубами на «перебежчика» Геббельса, говорят, хохотал до слез.
В это время сам фюрер ходил по пивным, ругал последними словами партийных болтунов, вставших между ним и его любимыми штурмовиками, грозил, убеждал, напоминал о пройденном пути и сулил денежное обеспеченье, пока окончательно не охрип. Тогда он сел за стол и весь последующий день рассматривал заявления и жалобы обиженных, чем в конце концов всех утихомирил.
Францу фон Пфефферу, шефу СА, он прохрипел, что тот не оправдал его надежд, что СА сделались неуправляемыми, а бюрократия сжирает все средства, затем вызвал Рема и сиплым шепотом объявил себя новым командующим СА, а Рема – начальником штаба. Наконец, уже практически молча принял присягу.
Фюрер сказал всем, что едет в Мюнхен, а сам возвратился в любимый Бергхоф.
– Я выдохся, – сказал он сопровождавшим его Геббельсу и Пуци. – Если я неделю не помолчу среди сосен, то не смогу продолжить избирательную кампанию.
Поднимаясь по ступеням открытой веранды, как из брандспойта поливаемой дождем, Гитлер выглядел больным и отрешенным, но, увидев вышедшую к нему Ангелику с маленькой пунцовой розой в волосах, впился в нее взглядом. Когда она, взяв его под руку, удалялась с ним во внутренние покои, картина была уже иная – ноги фюрера перестали заплетаться, спина распрямилась.
В спальне она быстро повернулась и положила ему руки на плечи.
– Тебе здорово досталось, да? У тебя такой побитый вид. Мне так жаль…
– У тебя новые духи? – прошептал он, глубоко вдыхая незнакомый запах. – Как хорошо.
– Это сандал. Он мне не идет, но нравится. И роза пахнет от дождя. Это… эклектика.
– Как хорошо. – Он сел в кресло и вытянулся в нем. – У меня от тебя кружится голова.
– Я тебя раздену, – сказала Гели. – Ложись. Он с удовольствием улегся на медвежью шкуру, брошенную на пол у постели, жмурясь и улыбаясь от предвкушения, а она принялась расстегивать пуговицы и пряжки, медленно снимая с него вещь за вещью, при этом щекоча ноготками кожу и поглаживая обнажившиеся места. Для него это был привычный отдых и наслаждение; для нее – утоление чувственности, переходящее в возбуждение, которого она продолжала отчаянно стыдиться, но без которого уже не могла жить.
Их любимая забава заключалась в том, что он в любой момент мог быстро повернуться на живот, а она, чтоб не оказаться под ним, должна была успеть увернуться. Она почти всегда успевала это сделать, но когда он ловил ее, то давил так сильно, что она стонала от боли и, вырвавшись, убегала. А когда возвращалась, он обычно уже крепко спал. И тогда она снова ложилась рядом.
У него была нежная кожа, и он сильно страдал от неудобств, причиняемых форменной одеждой. Он спал, а она шептала нежные слова, часто сама их выдумывая, и тихо смеялась. Потом, повернувшись на спину, вытягивала ноги…
Этого он не видел. Он был уверен, что приносит себя в жертву ее «божественной девственности», и говорил, что не тронет ее, пока она сама не позволит. Но что же еще требовалось от нее для этого позволения – она не совсем понимала. Наслаждение переходило в стыд, стыд – почти в бешенство, которое медленно остывало, и тогда тело вновь ждало возбуждения…
Гели полежала в теплой ванне, а когда вернулась, Адольф потягивался у окна, с отвращением глядя на дождь, спрятавший горы.
– С тобой я отдыхаю за полчаса, как не отдохнул бы за сутки, – обычно говорил он в благодарность за забавы.
Гели сидела у зеркала и встряхивала влажными волосами.
– А я научилась ездить верхом, – похвасталась она. – Эльза меня научила.
Он тоже подошел к зеркалу и посмотрел на нее, потом на себя.
– Я хотел бы видеть вас вместе как можно чаще. Она настоящая женщина.
– А я?
– А тебе еще есть чему поучиться.
– Да, я хотела бы стать как она, – кивнула Ангелика.
Она искала Эльзу по всему дому, караулила у дверей гостиной, в которую выходили двери их спальни и кабинета Рудольфа, но подруги нигде не было. Она несколько раз выходила под дождь, поглядеть на ее окна. Возбужденная забавами с Адольфом, она представляла Эльзу и Рудольфа в постели и бесстыдно рассматривала их, широко, до боли раскрывая глаза. Она видела Эльзу, красиво раскинувшуюся, с нежной улыбкой, чуть обнажающей белые зубы, и Рудольфа, страстно шепчущего ей дивные слова…
В один из таких выходов под дождь, когда ее щеки и глаза горели, ее кто-то неожиданно толкнул сзади. Гели обернулась и увидела мокрую Берту, а за нею – подбегающую женскую фигуру в плаще с капюшоном.
– Эльза!
Подруга накрыла ее одной полою, и обе побежали к дому. Они заскочили на веранду и, сбросив плащ, посмотрели друг на друга.
– А я думала, ты… – начала Ангелика.
– А я думала – ты! – отвечала Эльза.
Обе рассмеялись, а счастливая кормящая Берта обдала их фонтаном холодных брызг.
В Бергхофе всегда обедали не раньше восьми. А сегодня собрались в столовой только к полуночи. Для тех, кто работал с Гитлером, такой режим не был новостью, и многие к нему приспособились. Теперь в доме было уже шестеро мужчин и три дамы. Настроение царило приподнятое, несмотря на пережитое унижение и не оставлявшую всех хроническую усталость. Гитлер рассказывал о своих рейдах по пивным, в лицах изображая происходившие там сцены.
– Я вхожу. И в меня летит пивная кружка, но попадает не в лоб, как тебе, Руди, в двадцать первом, а в живот. Все, что оставалось в кружке, естественно, выливается на меня, и в мокрых насквозь штанах я начинаю призывать к хладнокровию… В другом месте – еще смешней. Какой-то недоумок взял с собой сына, мальчишку лет пяти. Сначала он лазил за моей спиной, потом где-то застрял и разорался. Я замолкаю. В этот момент входят человек двадцать и принимают меня за чревовещателя.
Дамы смеялись. Мужчины тоже фыркали от смеха. Один Гесс мрачно смотрел в тарелку. Все происшедшее в Берлине казалось ему сплошным абсурдом, невзирая на оптимистическое настроение Адольфа.
Во-первых, снятый со своего поста фон Пфеффер был разумным человеком, желавшим блага Германии, а Рем – скандалистом, честолюбцем и человеком порочных наклонностей, уже ничего не способным принести движению кроме головной боли. Совершать такую замену было нелепо.
Во-вторых, все эти унижения, о которых весело повествует фюрер, не казались ему поводом для веселья. На дворе не двадцать первый год! Рудольфу, видимо, никогда не забыть иронического, с оттенком брезгливости взгляда профессора Карла Хаусхофера, который тот бросил на него, пришедшего в университет с забинтованным лбом после глупейшей драки в «Бюргербройкеллер» («Бюргербройкеллер» – Мюнхенская пивная, до 1923 года была местом проведения нацистских сборищ, Гитлер обычно произносил здесь свои речи, стоя перед соратниками с пивной кружкой в руках, поскольку пивную посещали не только члены НСДАП, в ней часто возникали стихийные споры, переходившие в потасовки, 8 декабря 1923 года во время «пивного путча» «Бюргербройкеллер» сделалась также местом ареста путчистами членов баварского правительства и таким образом вошла в историю политического движения Германии первой половины XX века.) С тех пор прошло уже десять лет…
От мрачных мыслей его немного отвлекала Берта, которая, взяв одного щенка, незаметно улеглась под столом в ногах у хозяина. Собака изредка недовольно и глухо ворчала, потому что шутник Пуци, сидевший рядом с Гессом, периодически опускал руку с долькой лимона и подносил к собачьему носу, и Берта, которая поначалу только отворачивалась, начала уже скалить зубы и громко выражать возмущение.
Мизансцена получалась забавная. Гитлер по ходу рассказа несколько раз внимательно взглядывал на Рудольфа, сидевшего напротив него с мрачным выражением лица, которое периодически озвучивалось глухим собачьим рокотом. Ганфштенгль продолжал развлекаться, компенсируя собственное скверное настроение и пережитый в Берлине страх. Он задумывал уже новую шутку, как вдруг обижаемая Берта издала под столом такой негодующий рев, что теперь на мрачного Гесса посмотрели все.
– Убирайся вон! – приказал он своей любимице; та вылезла, посмотрела на хозяина с немым укором и, напоследок показав зубы Пуци, ушла. Месячный щенок, тупомордый, с квадратными лапами, покатился за нею.
– Зачем ты ее прогнал? – недовольно спросил Гитлер, который третий год наблюдал за красавицей Бертой и уже твердо решил, что если позволит себе когда-нибудь иметь собаку, то непременно – такую же.
– А ты хочешь, чтоб я прогнал Эрнста? – проворчал Рудольф. – Он ее полчаса дразнил лимоном. Собачий нос такого свинства не выдерживает.
– И что за удовольствие издеваться над слабыми? – заметил Геббельс.
– Да? – живо повернулся к нему Пуци. – Ты полагаешь, что если бы мы с ней сцепились, так я бы загрыз ее, а не она – меня?
– Я думаю, если бы вы сцепились, Берта проявила бы больше человечности – чем многие, кто, сбросив шкуры и встав на задние лапы, продолжают кормить в себе зверя, – сказал Адольф, – что мы недавно и наблюдали. Я считаю, что люди подвержены внешнему процессу хаотической эволюции, а иные породы животных – четкому внутреннему развитию. Иначе как объяснить тот факт, что утопающий хватает того, кто еще держится на поверхности, и тащит на дно, тогда как дельфины выносят несчастных к берегу на своих спинах? Вы скажете, они действуют в родной стихии! Хорошо, тогда как объяснить, что человек стреляет другому в спину, а пес бросается на выстрел, направленный в грудь его хозяину?! Я бы ввел в армии специальные подразделения для немецких овчарок, чтобы наши солдаты ежедневно учились у них верности и самоотверженности.
– Тогда нужно вводить для них и воинские звания, – с готовностью предложил Пуци. – А если песик, к примеру, дослужится до генерала, так запустить его в Генштаб – пусть и там поучатся. Тем более что прецедент есть: мерин Калигулы в Сенате…
– Фюрер говорил о том, что, занимаясь селекцией лучших особей немецких овчарок, мы тем самым улучшаем породу изнутри. Узаконив национал-социализм как селекцию лучших особей человечества, мы улучшаем собственную породу. Оба процесса абсолютно естественны, однако первый вызывает умиление от созерцания прекрасного щенка, второй же многим видится непристойным. Как ты объясняешь подобный феномен? – Гесс в упор уставился на Пуци, который, выслушав эту тираду, возвел глаза под потолок:
– Ну, ты, Руди, сегодня не с той ноги встал! Чего ты меня-то воспитываешь!
– А то, Эрнст, что ты в последнее время слишком много болтаешь. И потом твои замечательные высказывания мне суют в нос пражские товарищи.
– А венские не суют? – тихонько поинтересовался Пуци.
– У меня от твоих шуток тоже голова трещит, – заметил Геббельс. – Месяц назад я был в Мюнхене, так он звонит из Берлина и сообщает, что горит рейхстаг.
– А туда б ему и дорога! – воскликнул депутат от НСДАП Геринг.
Все засмеялись.
– Друзья, я расскажу вам австрийский анекдот, – улыбнулся всем Гитлер. – Кстати, знаете, чем отличается венский анекдот от берлинского?..
Фюрер чаще всего говорил за столом один. С годами это вошло у него в привычку, хотя поначалу он добивался одного: чтобы все жевали, а не ссорились. Всегда находился кто-то вставший не с той ноги, а претензий друг к другу накапливалось предостаточно.
После позднего обеда Гитлер остался с дамами, а любители покурить вышли на одну из полуоткрытых веранд, уставленную мягкими креслами и круглыми столиками. Тогда в число курильщиков входили практически все кроме самого фюрера и Бормана, который, попав в окружение вождя, тотчас отказался от вредной привычки. Гесс сам обычно не закуривал, но если предлагали, соблазнялся, что всегда сильно раздражало Гитлера.
Шел уже третий час ночи, когда, слушая рассуждения Адольфа о пошлости архитектуры старых берлинских зданий, наблюдая усмешки Елены, бегающий по потолку взгляд Ангелики и неизменный блокнот в руках Бормана, Эльза приняла решение – ехать в Вену, не откладывая. Она весело посмотрела на Ангелику, которая, перехватив ее взгляд, как будто прочитала в нем приятную новость.
За кофе все расселись в гостиной поодиночке или парами, и Ангелика вопросительно сжала локоть Эльзы. Дыхание ее было прерывисто, глаза опять горели.
– У меня есть идея, – шепнула ей Эльза, – съездить нам с тобой в Австрию на пару недель. Если Адольф тебя отпустит.
– С тобой!
А еще через полчаса Гели вбежала в гостиную Гессов и замерла посредине. Дверь в спальню была приоткрыта, и она увидела край знакомого прелестного платья, которое Эльза не успела снять.
– Что случилось? – выглянула подруга.
– Эльза, он меня отпустил!
Все вышло чудесно и неожиданно. Мужчины в столовой принялись рассуждать (бог весть о чем! в три часа ночи!), а дамы отправились отдыхать. Адольф, обычно аккуратно провожавший Ангелику до спальни и плотно прикрывавший за ней дверь, поступил так же и на этот раз. Он отвел ее на второй этаж, открыл перед нею дверь, но она вдруг удержала его за руку.
– Какое чудесное платье было сегодня на фрау Гесс! – вздохнула она, глядя себе под ноги. – Ах, как мне хотелось бы иметь такое же!
Гитлер немного удивился.
– Мне так хотелось бы бывать с нею всюду, как ты мне советовал, – продолжала Ангелика, – но она такая изящная и так одета…
– А, вот что! – кивнул он. – Но кто же тебе мешает? Развивай вкус, учись…
– Эльза видела так много! Она всюду бывала – в Италии, Париже… А теперь едет в Вену…
– Она едет в Вену? – удивился Гитлер. – Что за чудеса? Там только что побывал ее муж-анархист, изображающий из себя послушного барашка.
– Какая она счастливая! – Не слушая его, Гели два раза всхлипнула.
– Да, у нее ведь там тетушка, – припомнил он. – Хочешь, я попрошу ее взять тебя с собою?
Сердце ее едва не выпрыгнуло от неожиданной удачи, но на лице проступила озабоченность.
– Ты попросишь? О, она, конечно, согласится. Но удобно ли это? Можно я сама?
– Ну, попроси сама. – Он поцеловал ее в лоб, потом в шею. Но глаза глядели отрешенно, а голова, по-видимому, была чем-то занята. – Спокойной ночи, моя прелесть.
Гитлер быстро ушел своей стремительно-прерывистой походкой, а Гели, выждав минуту, скинула туфельки и босиком полетела по коридору к спальне Гессов – в отчаянной надежде тотчас поделиться своим торжеством.
Утром, около семи, очнувшаяся от тревожного сна Эльза вышла из спальни и услышала доносящиеся из кабинета мужа голоса. Один был негромок, но в нем чувствовался скрытый напор, другой – голос мужа – она едва узнала, таким он казался безжизненным. Она снова прилегла и проснулась уже в десятом часу. Мужа все еще не было, но голоса стихли.
Рудольф что-то писал за столом. Она подошла и заглянула через плечо.
– В Александрию, – бросил он. – Два месяца не писал. Свинство. А ты?
– Я пишу каждую неделю. Иногда чаще. Твой отец сейчас уехал в Лондон, а мама одна, и я стараюсь держать ее в курсе.
Он бросил перо и потянулся.
– Хотя мне это теперь стало сложно делать, – продолжала Эльза. – Я многое перестала понимать.
– Я тоже, – буркнул Рудольф.
– Разве вы не объяснились? Гесс досадливо поморщился.
– Все плохо. Рем – авантюрист боливийской пробы. А вручать власть авантюристу – авантюризм вдвойне.
– Когда-то вы с Эрнстом были друзьями, – осторожно напомнила Эльза.
– Мы с Эрнстом никогда не были друзьями! Запомни это раз и навсегда! Если я и мог чем-то для него сделаться, это называлось бы иначе!
Она отошла к окну, постояла, глядя на едва проступающие сквозь дождливую завесу силуэты гор.
– Когда Адольф возвращается в Мюнхен?
– Через неделю. Но мы с тобой уедем раньше. Мне еще нужно встретиться с нашим судьей и хотелось бы хоть пару дней поработать с Карлом, пока не началась свистопляска с выборами.
– Я тебе очень нужна?
– Хочешь остаться? Поступай, как знаешь.
– Мне бы хотелось съездить в Австрию и, может быть, в Мадрид.
Рудольф резко вскинул голову.
– Ты поедешь со мной в Мюнхен.
Эльза присела рядом, у стола, взяла его руку в свои и снова ласково улыбнулась.
– Руди, ты сердишься на весь мир, а заодно и на меня. Но я ведь не с ним, я с тобой.
– Тем более не о чем говорить.
– Господи, да я бы поехала куда угодно, если бы у тебя нашлось для меня немножко времени! Но ты же будешь занят с утра и до утра, тем более во время выборов…
– Довольно, Эльза! Это решено.
– Руди, послушай меня, дело в том, что я уже обещала Ангелике. Она так ждет этого и так счастлива.
– Ты решила меня шантажировать? Эльза встала и ушла в спальню, чтобы не расплакаться. Он тут же явился следом и стал в дверях.
– Я знаю, что я слишком плохой муж, чтобы иметь моральное право требовать… Тем более с некоторых пор… Я не стану тебя удерживать.
– Не станешь?!
Он минуту стоял, размышляя. Потом вдруг поглядел на нее с детской беспомощностью. И Эльза отвернулась – боль и нежность пронзили ее.
Как обычно, в этот час в доме бодрствовали лишь собаки и Борман.
В кабинете при библиотеке Мартин занимался какими-то подсчетами, а Берта, любившая общество, привела туда всех своих четырех щенков и принялась их тщательно вылизывать. Из кабинета доносилось такое чавканье, что угрюмый после размолвки с женой Гесс заглянул туда с некоторым интересом.
– Опять ты? – рассердился он на Берту – Давай убирайся.
Берта замерла на мгновение и, подняв одну бровь, посмотрела исподлобья.
– Ладно, ладно, хорошая девочка… Она вам не очень мешает? – спросил он у Бормана.
– Совсем не мешает, наоборот! От нее такое тепло, радость. И щенки – просто чудо! – улыбнулся Борман.
– У меня уже всех разобрали, – сказал Гесс, присев на корточки и поглаживая подставленную большую голову и еще четыре головенки. – Вот эту черную сучку, самую маленькую, хочет взять фюрер, но, по-моему, передумает. Один раз он попросил Берту принести ему Блонди, а Берта отказалась. Зато когда Гоффман попросил, она сразу притащила ему Мука, вот этого здоровячка! Фюрер сделал вывод, что Берта не хочет отдавать ему Блонди. Я думаю, это оттого только, что малышка родилась последней и мать просто хочет подольше подержать ее при себе.
– Поразительно! – воскликнул Борман. – Мне это кажется просто невероятным. Я никогда не держал собаку, но теперь жалею. Любопытно, их ум передается по наследству?
– Еще как передается! – кивнул Рудольф. – И не только ум. – Он поднял на Бормана глаза. – Вы верите в переселение душ?