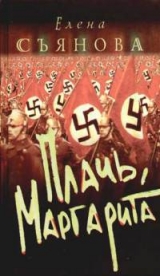
Текст книги "Плачь, Маргарита"
Автор книги: Елена Съянова
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
– Вы знаете, как обращаться с машинкой, фройлейн?
– Да. Я умею печатать.
– О, этого не требуется, фройлейн Гесс. Благодарю вас.
Лея рядом уже не было. В конце зала имелось небольшое возвышение вроде подиума, на котором стояли длинные столы, нагруженные кипами бумаги и графинами с водой. В самой се-редине, перед столами, размещалась трибуна. Маргарита видела, как Роберт поднялся на подиум, поздоровался за руку с несколькими привставшими из-за столов, среди которых она разглядела и своего хмурого брата.
Рудольф тоже был в белой рубашке, с повязкой на рукаве. Такую же красную повязку с черной свастикой в белом круге он осторожно затянул на руке Лея. Грета увидела, как Роберт, полуобернувшись, посмотрел в зал, потом оглядел трибуну и сделал чуть заметное движенье. Двое из зала поднялись к нему и принялись сдвигать трибуну в сторону, к ним присоединилось еще несколько человек. В зале, гудевшем от голосов, сделалось тише; многие из беседовавших группками рабочих повернулись и с любопытством наблюдали, как сталкивают трибуну. Грета заметила на некоторых лицах иронические улыбки.
Пока убирали трибуну, Роберт куда-то скрылся. Она решила, что просто потеряла его из виду; на самом деле Лей вышел в одну из дверей за подиумом, ведущую в небольшое подсобное помещение, где хранились флаги, лозунги и транспаранты, с которыми ходили на демонстрации рабочие колонны, и глотнул там коньяку. Потом выкурил сигарету и выпил еще.
Через несколько минут он появился снова, встал точно на то место, где ранее находилась трибуна, и поднял левую руку. Он проделал все это столь энергично и решительно, что в зале смолкли.
В отличие от Гитлера, перед началом своих выступлений обычно долго молчавшего и прислушивавшегося к настроению аудитории, Роберт Лей начинал говорить сразу.
Резким движением, внезапно посланным в толпу лучом прожектора или трехсекундным воем сирены он добивался мгновенной тишины и тут же бросал первые фразы с такой силой, точно выпускал ядра из катапульты; Эти ядра летели прицельно туда, где группировались оппозиционеры.
Для непосвященных все это выглядело импровизацией; на деле команда Лея работала отлично, и он всегда имел точные сведения о составе и настроении слушателей. Сегодня эти сведения предоставил Геббельс, которого Роберту пришлось подменить. Геббельс предупредил, что аудитория будет тяжелая, поэтому и понадобилось подкрепление в лице академичного Рудольфа Гесса, при необходимости способного сыграть и роль вполне люмпенизированного говоруна, но главное – умеющего водить за собой любую дискуссию, точно карнавальную кадриль.
Маргарита не поняла первых фраз Лея. Но по тому, как напряглись в зале, догадалась, что скачка будет с места и в карьер. Ей казалось, что она уже немного знает Роберта. Она видела его в разных ситуациях, порой – критических… Но человек, стоявший сейчас на возвышении в конце огромного зала, был ей еще незнаком. Впрочем, стоящим его можно было назвать с натяжкой. Сделалось понятно, почему убрали трибуну. Лей метался по подиуму, производя массу движений руками, вернее, одной рукой, туловищем, головой… Наверное, никто бы не удивился, даже если бы он сделал сальто-мортале. Это была тоже своего рода акробатика, но она не отвлекала внимания – скорей наоборот. Не то все движения были тщательно продуманы, не то в них самих крылось нечто гипнотическое, но аудитория перестала ухмыляться и буквально не сводила с него глаз. Удивительно было и то, что Маргарита перестала узнавать себя. Лишь краешком сознания она понимала, что вдруг вскакивает со стула и начинает аплодировать вместе со всеми, а на его вопрос «Хотите вы ждать тридцать лет?» вместе со всеми вопит: «Нет! Нет!» Она даже не заметила, как оказалась у самого подиума. Роберт в это время говорил о национальной идее, выбрасывая вперед руку, как будто запуская этой идеей в зал, а на слове «Версаль», замерев на мгновенье, резко отшатывался назад, точно от какой-то мерзости, и за ним это движение начал повторять весь зал.
…Тактика выступлений Лея в рейхстаге была иной. Там он постоянно вносил хаос, разброд и сумятицу в умы, сталкивая интересы фракций, забалтывая конкретные вопросы и обрушивая на недоумевающих растерянных коллег депутатов потоки демагогии, в которой тонуло все. После чего, заморочив и перессорив коллег, он вдруг начинал говорить спокойно, здраво и вполне доброжелательно. Геббельс многому у него научился, в том числе и гипнотическому влиянию на аудиторию, которое сейчас испытывала на себе Маргарита…
На мгновенье перед Гретой мелькнуло сердитое лицо брата. Его взгляд отрезвил ее, она отошла немного в сторону и посмотрела на него издали. Рудольф сидел за столом вместе с тремя коллегами (среди которых была женщина) и хранил олимпийское спокойствие. Он тяжелым взглядом подавлял зал и сестру, поведение которой вызывало у него противоречивые эмоции. Он был раздражен ее появлением в небезопасном месте, но чувствовал и удовлетворение оттого, что надменная Гретхен испытывала интерес к тому, что она именовала «подлой политикой надувательства бедных простых людей». Впрочем, удовлетворение не было полным. Рудольф понимал, конечно, что пришла она сюда из-за Роберта и для него.
Лей закончил так же резко, как начал. Оборвав себя едва ли не на полуслове, он отвернулся и ушел в боковую дверь. Возникла пауза, на протяжении которой можно было сосчитать до пяти. Дальше за дело взялись опытный Гесс и двое энергичных помощников Геббельса. В их задачу входило быстро расколоть зал на три зоны: в двух работать с молодежью, а третью, самую трудную, состоящую из кадровых рабочих, сильно побитых кризисом и во всем разуверившихся, предоставить Гессу.
Маргарита этого не знала. Она почувствовала только, как будто с нею, именно с нею заговорил человек, сидевший за столом рядом с ее братом, и повернулась в его сторону… Оказалось, он говорит не лично с ней, хотя впечатление прямого обращения было очень ярким. Но желание тотчас же увидеть Роберта пересилило все. Ей казалось, что ему должно быть плохо сейчас.
Незаметно проникнув в ту самую боковую дверь, она увидела его спокойно курящим и наблюдающим за мышкой, сновавшей у стены среди кусков фанеры и картона. Он был до пояса голый, с полотенцем на шее, и, увидав Маргариту, сделал протестующее движенье, не из-за своего вида, а из-за мыши, которая могла до смерти напугать девушку.
– Стойте! Не двигайтесь! – воскликнул он и, схватив древко от флага, метнул ею, точно копье, в цель, но – левой рукой и промазал.
Маргарита, увидав заметавшуюся мышь, действительно испугалась.
– Вы же могли ее убить!
– Вы не боитесь мышей? – удивился Лей. – Впервые вижу такое!
– Как вы себя чувствуете? – спросила она.
– Прекрасно. Извините. Я посижу так еще несколько минут, а то как-то вышел сразу на улицу, и потом – три месяца с воспалением легких.
– Да, вы много… двигались, – заметила она.
– Это было забавно? Она смутилась.
– Нет, почему же? Я вас слышала в Берлине, в аэроклубе. Вы там совсем по-другому говорили.
– Но, заметьте, то же самое.
– Я заметила. Вы импровизатор?
– Но вы тоже импровизировали, – усмехнулся Роберт, с удовольствием поглядывая на ее стройную фигуру, которую не портила даже мужская куртка. – Хлопали, кричали…
Маргарита была поражена.
– Вы видели меня в зале? Странно…
– Почему?
– Но вы… так увлеклись. Мне показалось, вы забыли обо всем кроме своих…
– Вам показалось. Я никогда не увлекаюсь собой.
– Вы увлекаетесь идеей?
– Нет, властью. Идеи – это хлеб Рудольфа. Он надел рубашку, а повязку со свастикой сложил и сунул в карман.
– Едемте.
– А Руди?
– Я обещал ему сразу отвезти вас к Кренцу. Он тоже скоро приедет.
Они уже сели в машину, и он захлопнул дверцы, как вдруг ей стало страшно.
– Роберт, а… там ничего не случится?
– Непременно. Но Рудольф уедет, не беспокойтесь за него.
– А что?..
– Грета! Что вы хотите знать? Будет ли драка? Я уже сказал, будет. Молодежь любит драться. Ей это полезно.
Она смотрела на него во все глаза. Он, морщась, надел свитер, который лежал в машине, и под ним – бутылка коньяка… Роберту сейчас самое время было бы выпить, потому что настроение начало портиться, плечо болело. Единственная женщина, под взглядом которой он не мог глотать коньяк, была его жена. Теперь и Маргарита? Она уже отвернулась и глядела в окно, а он все не мог решиться.
– Почему же вы уехали? – вдруг спросила она.
– А вы бы хотели, чтоб я остался?
– Это было бы… честней.
– Да? Не думаю. Suum quiqe. Впрочем, для вас я готов на любой подвиг. Сейчас отвезу вас к сестре и вернусь. Правда, у меня правая рука не действует, но для вас…
– Я снова чего-то не понимаю, – вздохнула она.
Роберт все-таки открыл бутылку и сделал три глотка.
– Вы все понимаете, Грета. Причем абсолютно правильно. Но нужно принимать реальность такой, какова она есть. Эта реальность называется борьбой за власть. У нее нет ни правил, ни принципов. Есть только целесообразность. Кстати, та часть зала, которой занимается Рудольф, выйдет оттуда вполне невредимой.
– Мне кажется, невредимым оттуда никто не выйдет, – тихо проговорила она, точно сама с собою.
Роберт еще выпил.
– Вы правы. Перемена в умах совершается гораздо быстрее, чем утверждают философы. Наша борьба за власть есть одновременно борьба за умы. Сегодня и вы позволили себе немного побыть под гипнозом.
Он почувствовал, как она придвинулась поближе и положила ему голову на плечо. Он обнял ее здоровой рукой и отвернулся.
Роберт не проводил Грету в ее комнату, а отвел к себе, велел снять куртку и подождать его пять минут. Им нужно было поговорить, но прежде ему необходимо было сунуть голову под кран и переменить рубашку. Когда он вернулся, она взглянула на него с такой надеждой, что он устыдился своей недавней трусости.
– Ну, рассказывайте. Что с Гели?
– Но это касается…
– Я уже понял, – прервал он ее. – Кажется, я понял и больше. Кто он?
– Вальтер Гейм. Художник.
– Это тот, с шарфом на шее, реалист? – поразился Лей. – Ну, теперь понятно, почему именно мне суждено было об этом узнать!
Он даже рассмеялся. Потом походил по комнате, сел в кресло напротив и взял ее руку.
– Грета, я понимаю вас. Но мне сейчас нечего вам ответить. Скажите Ангелике – нужно подождать.
– Мы ведь уедем послезавтра.
– Видите ли, все сложнее, чем кажется. Фройлейн Раубаль – человек, от которого впрямую зависит душевное состояние фюрера.
Много слов крутилось на языке, в том числе язвительных, но она не могла… Он сидел так близко, держал ее руку, и ее как будто парализовало. Это опять был гипноз – гипноз возможного, близкого счастья.
Рудольф возвратился через три часа, выдержав настоящий бой, к которому он был подготовлен, поскольку не первый раз сталкивался с отечественным рабочим классом, обладавшим, по выражению Отто Штрассера, «иммунитетом трижды обманутого».
Крепкие тридцати-сорокалетние парни, его ровесники, тем отличались от образованных людей среднего класса, что национал-социалистические софизмы ие оспаривали, а попросту не обращали на них внимания. Их интересовали конкретные вещи – работа, жилье, гарантии, сроки… Гесс уже много раз раскладывал само понятие национал-социализма именно по этим двум последним пунктам: «социализм» означал гарантии; «национал» – сроки. На работяг это действовало безотказно, так как «быстрый социализм» был именно тем, чего они ждали и чего не обещал никто кроме лидеров НСДАП. Когда же вставал вопрос об экспансии, у Рудольфа тоже имелись козыри (Версаль, репарации) и аргументы (рейнская зона, еврейский заговор)…
И все же он вернулся выжатым как лимон и раздраженным – Лей, как всегда, все сделал правильно, но, как всегда, чересчур, к тому же додумался привести с собою Маргариту.
– Если ты решил начать ее воспитывать, то мог хотя бы предупредить меня, – пенял он другу. – Я бы прежде объяснил тебе некоторые особенности ее характера, потому что эффект от сегодняшнего визита, боюсь, получился обратный.
– У меня и в мыслях не было ее воспитывать, – отвечал Лей. – Я уже сказал тебе, как мы с ней, по-видимому, поступим.
– Опять ты за свое! – взорвался Гесс. – Я уже списал ту болтовню на лихорадку и забыл!
– Напрасно. – Роберт казался совершенно невозмутимым. – У Той болтовни имеются серьезные основания. Я готов объяснить.
– У безумного поступка не может быть серьезных оснований!
Лей усмехнулся.
– Ты, наверное, считаешь, что еще мягко выразился. Значит, я всего-навсего сумасшедший? А я думал – дезертир, отступник, предатель…
…Стояла глухая ночь. Они встретились в гостиной на первом этаже, где Лей выкурил уже полпачки сигарет, дожидаясь возвращения Гес-са. Оба устали и были раздражены – каждый по своему поводу, и оба понимали, что крупного разговора им не избежать.
– Что ты намерен предпринять? – резко спросил Рудольф.
– После Мюнхена вернусь в Кельн и постараюсь получить развод. Думаю, задержки не будет. Грете лучше пока побыть с тобой. Я потому и просил тебя приехать. А затем… я уже сказал.
Гесс пристально смотрел ему в глаза.
– Знаешь что, Роберт… Возможно, ты сейчас очень рассердишься, но у меня такое впечатление, что ты играешь сам с собой. Ходишь по краю и любуешься собой. Да я голову даю на отсеченье, что ты звонил мне в Рейхольд-сгрюн с другими намерениями. Два дня назад ты ведь решил порвать с Гретой? Станешь это отрицать?
Лей молчал.
– А потом ты передумал, в каком-то порыве, – продолжал Рудольф. – И в таком же порыве решил с нею сбежать. Но это было вчера. А что будет завтра? Так, может быть, сегодня… не нужно спешить?
– А где мой браунинг? – вдруг спросил Лей. – Ты в самом деле отдал его девчонке?
– Да. Нужно объяснить? Лей покачал головой.
– Просто я застрелил из него одного типа. Лучше было бы дать ей другое оружие…
– Что это за странное суеверие? – удивился Рудольф. – Я про такое не слышал.
Лей вздохнул.
– Так, вдруг в голову пришло…
Он налил себе маленькую рюмку коньяка и вопросительно посмотрел на Гесса. Тот поморщился, но кивнул. Они выпили. Лей налил себе вторую рюмку. Выпив, перевернул бутылку вверх дном и поставил на горлышко. Бутылка стояла.
– Ты, однако, фокусник, – усмехнулся Гесс. Он взял бутылку и попробовал поставить ее заново. Бутылка упала и покатилась. Рудольф снова попытался. – Как ты это делаешь? Почему у меня она не стоит?
Роберт взял бутылку и опять поставил на горлышко. Рудольф даже щелкнул по ней легонько пальцами, но бутылка точно приросла к столу. Он снова попробовал установить ее на то же место, и снова у него ничего не вышло.
– Что за чертовщина? Как ты это делаешь?
– Беру и ставлю. И больше ничего.
– Почему же у меня не стоит?
– Бывает, и у меня не стоит. И я не спрашиваю почему.
– Пожалуй, пойдем спать, – предложил Гесс. – Кренц сказал, утром у тебя очная ставка с этими… покушавшимися. Говорят, всех четверых арестовали.
– Четыре еврея – четыре петли, – медленно произнес Роберт. – Десять евреев – десять петель, сто евреев… А если тысяча? А миллион? Пожалуй, веревок не хватит, а? Да нет у меня жара. – Он оттолкнул руку Гесса. – Жаль, что ты не хочешь меня выслушать. Потому что это не мне – это тебе не стоит спешить.
– Я хочу тебя выслушать! Можешь не сомневаться! – воскликнул Гесс.
– Тогда слушай! Это недолго. Я сейчас пьян ровно настолько, чтобы мыслить наиболее трезвым образом, потому что трезвый я циник, а пьяный – романтик. Или наоборот. Но и то и другое не годится. Так вот, слушай. Я люблю твою сестру и хотел бы пройти с нею весь тот путь, который мне остался. Но это только фраза. Потому что, в отличие от тебя, в судьбу я не верю. Я знаю, что сам выбираю все для себя и для нее. А выбор этот довольно прост: если она уедет – со мной или без меня, – то, во всяком случае, останется собою. Если будет жить здесь, со мною, то любовь сделает из нее примерно то, что сделала из Елены. Или убьет. Ты прав, я осознал это не сразу. Сначала просто испугался. Но в последние сутки я много думал, очень много, Руди… Ты говоришь, я хожу по краю и любуюсь собой? – Он усмехнулся. – Не можешь ты так думать… Что бы там ни было, я об одном молился бы, если б мог, – чтобы нам с тобой не возненавидеть друг друга.
– Я никогда не возненавижу человека, который был честен со мной.
– Я тоже. Мы с тобой еще можем позволить себе такую роскошь, как честность, хотя бы между собой. И я снова повторю тебе то, что вижу – она любит меня. Она захочет стать мне другом и начнет жить, как живу я, дышать со мной одним воздухом… Вспомни, какой была Елена прежде… Какой отчаянно принципиальной, ненавидящей, не прощавшей фальшь, честной до ребячества! И что с нею стало! Она вся пропиталась каким-то ядом, научилась лгать каждым вздохом своим… И, наконец, просто перешла границу дозволенного, за которой – пустыня… Она и покаяться не может, и оправдаться ей не дано.
– Ты хочешь сказать, что нет покаяния тому, кем двигала любовь? Тогда и мы неприкаянны?
– Будем честны, Руди. В нашей программе девяносто процентов ненависти и только десять – любви. Нет, нам проще, старина. Мы ненавидим, а значит, мыслим, рассчитываем. А Грета…
– Роберт! Послушай себя! До чего ты договорился! Напророчил бог весть чего Маргарите. Нас всех обвинил в человеконенавистничестве… Если ты на самом деле так все воспринимаешь, то тебе, безусловно, следует бросить все. Но я не верю… Да ты сам не веришь себе…
Лей вдруг рассмеялся.
– Просто я так вижу! Но, конечно, не верю ни во что. Если б верил, писал бы музыку. – Он посмотрел на часы. – Ладно. Будем считать, что я попытался что-то объяснить, а ты – выслушать. Это уже хорошо. Спокойной ночи.
– Я-то пойду спать, – сказал Рудольф, – а ты что станешь делать? Пить здесь один?
Лей мельком взглянул на него.
– Знаешь, почему у меня бутылка стояла?
– Почему?
– Догадайся!
– Спокойной ночи. – Гесс поднялся. Он почему-то поверил, что Роберт не напьется в это утро, более того, вообще прекратит взбадривать себя бесконечной чередой рюмок и стаканов, по крайней мере, в ближайшие дни.
Вечером следующего дня Вальтер Гейм, прогуливаясь в парке с этюдником – для конспирации, – видел выезд длинного кортежа машин, повернувших к центру города.
Общество направлялось к баронессе фон Шредер, на большой прием, куда съехались все, кто желал выразить свою лояльность приобретающим все большую популярность энергичным лидерам НСДАП. Лидеров было четверо – к Гессу, Геббельсу и Лею присоединился прилетевший утром Геринг, сделав крюк по пути из Берлина в Мюнхен. Геринг никогда не упускал случая блеснуть на подобного рода мероприятиях, что фюрер и партия всячески поощряли.
Вальтер знал, куда направляется кортеж, а значит, знал, где будет Ангелика. Решимость увидеть ее снова сотворила чудо – художнику удалось проникнуть в дом фон Шредер под именем Генриха Шуленбурга, своего бывшего сокурсника по Академии художеств, доброго малого, сибарита и лентяя, приходившегося племянником графу Фридриху Вернеру фон дер Шуленбургу, известному веймарскому дипломату. Вальтер позаимствовал у Генриха фрак, визитку и прочие аксессуары молодого денди и отправился на прием с намерением вполне определенным. Он собирался ни больше ни меньше как решительно заявить о своем существовании всему имеющемуся в наличии окружению Ангелики.
Когда он вошел в бальный зал, там уже готовились к танцам. Гели он увидел сразу, едва переступил порог, – его взгляд точно магнитом притянуло к ней.
Она сидела на диванчике в окружении живописного общества, по поведению и манерам которого можно было сразу определить его абсолютную избранность. Здесь была хозяйка, наиболее влиятельные из гостей и все четверо наци, из которых Вальтер узнал Роберта Лея и Геббельса.
Зал был просторный; всюду сидели, стояли или прохаживались гости, но беспокойный взгляд Ангелики тоже почти сразу выхватил стройную крупноголовую фигуру художника, и ее лицо вспыхнуло отчаянной радостью.
«Любит, – сказал себе Вальтер. – Она любит меня».
Он хотел пригласить Ангелику на первый же тур вальса, но когда раздались нежные, вкрадчивые звуки, она, виновато взглянув на Вальтера, положила руку на плечо одного из наци, высокого, элегантного, с мягкой улыбкой, каким-то образом возникающей на очень тонких губах, какие в романах принято называть злыми.
Вальтер решительно прошел между колонн, ловя на себе заинтересованные взгляды дам, и приблизился к тому месту, куда, по его мнению, кавалер Ангелики должен был усадить после танца свою даму. Там еще оставалось несколько солидных господ, из которых Вальтер знал в лицо управляющего франкфуртским банком, часто мелькавшего в газетах, а также Геббельса и Лея, тоже не танцующих. Четвертый наци – плотный, высокий, во фраке и белом галстуке с огромной бриллиантовой булавкой и такими же запонками – довольно ловко, несмотря на некоторую тучность, вальсировал с Маргаритой, подругой Ангелики, посвященной в их роман.
«Все они непременно вот-вот соберутся вместе, и тогда я подойду к ней», – рассуждал Вальтер, чувствуя, как у него колотится сердце.
Танец едва окончился, как тотчас зазвучал новый, но Гейм был уже у той колонны, возле которой стоял диванчик, и едва Гели присела, он оказался подле нее и раскланялся. Ангелика поспешно встала, но Вальтер вспомнил, что, по правилам хорошего тона, должен был быть представлен девушке, с которой желал танцевать, или хотя бы сам обязан был ей представиться. От волнения он сморозил совсем не то, что следовало, а именно – назвался графом фон Шуленбургом и под этим титулом повел свою даму в круг.
– Должно быть, племянник Фридриха, – несколько удивилась баронесса. – Очень милый… А говорили, он мот, картежник, едва ли не коммунист.
Лей и Маргарита, проводив новоявленного графа изумленными взглядами, переглянулись. Роберт укоризненно покачал головой, а Грету неожиданно разобрал смех. Она кусала губы и отворачивалась, пока один из молодых аристократов не выручил прелестную фройлейн Гесс, пригласив на танец.
– Гели, не ругай меня, я знаю, что поступил глупо, – скороговоркой произнес Вальтер, – но, возможно, не представься я графом Монтекристо, меня бы отсюда вывели. Мне необходимо поговорить с тобой. Когда ты уезжаешь?
– Завтра.
– Остается тебя только выкрасть. Бежим прямо сейчас?
– Ну что ты! Нас поймают… через пять минут! Я должна тебе кое-что сказать. Ты узнал Роберта Лея?
– Да. Он меня тоже.
– Он знает все.
– Что знает?
– О нас.
– Ты ему рассказала?
– Грета. Я просила ее.
– И что он сказал?
– Что нужно подождать немного.
– И все?
– Да, кажется.
– Что значит «немного подождать»? Пока он не расскажет твоему дяде?
Даже в танце Вальтер почувствовал, как она вздрогнула.
– Он не расскажет.
– Но все равно кто-то должен…
– Нет, никто не должен! Если это случится… если… нет, ты не понимаешь… Но он не расскажет! Никогда!
Опять этот страх, этот необъяснимый ее ужас при упоминании дяди…
– Тогда чего же ждать? – снова спросил он. – Поможет он нам или нет? Я сам его спрошу об этом.
– Нет, Вальтер, только не сегодня!
– Ты и его боишься? Ты их всех боишься? И этого пузатого? И того, что танцевал с тобой?
– Нет, нет…
– Кстати, кто они? Назови мне их имена. Я должен знать.
– Герман Геринг и Рудольф Гесс.
– Геринг – это который в Пруссии…
– Да! А Рудольф – секретарь дяди. Его самый близкий друг. Я его очень люблю. Его жена Эльза – мой идеал. Ах, как бы мне хотелось… – Она не договорила, но он догадался: познакомить его с этой Эльзой.
– Если любишь, то доверяешь. Почему ты ему не рассказала?
– Нет, что ты! Он… Как тебе объяснить? Для него Адольф – все!
– А остальные – ничто, так, что ли? И ты в том числе?
– Вальтер, не мучай меня!
– Прости, Гели, милая… Да ну их всех к чертям! Я люблю тебя. Чего же ты боишься?
Она молчала, опустив глаза, чтобы скрыть под ресницами навернувшиеся слезы.
– Как, однако, разговорился граф с очаровательной фройлейн Раубаль, – заметила слегка озадаченная баронесса. – Держу пари, что они были знакомы до этого вечера.
– Да, странно, – согласился Геринг, прищурившись. – Болтают на манер ссорящихся супругов.
– Видимо, об искусстве, – поспешно вставил Лей. – Дело в том, что я как-то возил девушек в театр, и мы встретили там этого… графа. Он сидел по соседству и проповедовал… сюрреализм.
– А, теперь понимаю, – улыбнулась баронесса. – Молодые люди отчего-то именно в спорах скорее всего находят общий язык.
– Парадокс времени! – заметил Геринг. – Граф, коммунист, сюрреалист – и влюблен в Ангелику? – спросил Геббельс. – Похоже, у этого господина большое будущее.
Лей с досадой кусал губы. Он понял, что Гейм пошел ва-банк и что ситуация может разрешиться скандалом. Скандал вокруг личной жизни фюрера был недопустим.
Роберт, пользуясь своим положением не вполне оправившегося от ран, имел на этом приеме больше прав, чем прочие. Он мог, например, попросить у хозяйки позволения уединиться на полчаса, чтобы отдохнуть. Во всяком случае, это никого бы не удивило.
– Немедленно уведите этого шутника от Ангелики, – шепнул он Маргарите, когда та села рядом с ним. – И проводите его вон до той двери. Дальше его проводит лакей. Я должен с ним поговорить.
Затем Лей приложил руку ко лбу и закрыл глаза. Баронесса тотчас обеспокоилась. Она сама проводила его во внутренние покои, порываясь вызвать врачей, но он попросил лишь оставить ему лакея, сказав, что полежит полчаса. Маргарита тоже все сделала правильно, и через несколько минут Вальтер Гейм вошел в уютный кабинет баронессы, где Лей лежал на диване с холодным компрессом на лбу.
– Что вам угодно? – спросил художник уверенно.
– Вопрос переадресую вам. – Роберт, поднявшись, смерил его тяжелым взглядом.
– Мне? Мне угодно жениться на фройлейн Раубаль.
– А-а… Хотите сделать ее графиней?
– Но фройлейн Ангелика сказала, что вам все известно, что она сама просила подругу доверить вам свою тайну. Только потому я…
– И я потому же! Садитесь.
Вальтер пожал плечами и сел у окна. Лей застегнул рубашку и пересел с дивана в кресло.
– Во-первых, уезжайте отсюда поскорей, пока вас не увидел кто-нибудь из друзей Шуленбургов. Во-вторых, постарайтесь впредь не вести себя так, рискуя поставить девушку в нелепое положение. В-третьих, если вы решили бросить вызов не всем, что видно из вашего поведения, а кому-то конкретному… я к вашим услугам.
– А какое вы имеете отношение к Ангелике? – с вызовом спросил Гейм.
– Фройлейн Раубаль, как и ее подруга, находится здесь под моей личной защитой и ответственностью.
– Гели совершеннолетняя и не нуждается в опекуне.
– Я сказал: защитой и ответственностью.
– И от кого вы намерены ее защищать?
– В частности, от безответственных молодых людей, ведущих себя подобно скверным актерам из школьной самодеятельности.
– Тут вы правы, конечно, – вздохнул Вальтер. – Но как еще мне было увидеться с ней, если вы держите ее за забором и под охраной?
– А тут я не стану возражать. Да, именно за забором и под охраной.
Вальтер минуту смотрел в окно, но все еще видел перед собой мокрое полотенце на лбу Лея, его висящую на перевязи руку… Конечно, у этих людей могут быть основания охранять и Ангелику, но…
– Но ведь это почти тюрьма! А она мечтает стать актрисой. Нельзя же всю жизнь продержать ее… в клетке!
– А вы предлагаете выпустить канарейку на мороз?
– Она не канарейка! – рассердился Вальтер. – А мороз вы сами создали вокруг себя и вокруг нее! Почему она должна расплачиваться?
– Все за что-нибудь платят.
– Но почему она…
– Довольно, господин Гейм! Я правильно запомнил ваше имя? А теперь запомните вы: если станете проявлять настойчивость, то заработаете крупные неприятности. И, к сожалению, не только для себя. Да, жизнь Ангелики регламентирована. Да, против ее воли. Я это вынужден признать. Но такова реальность, с которой и ей, и вам придется мириться.
– Но кто, кто дал вам право распоряжаться людьми! Их судьбами, их… – начал взбешенный Гейм.
– Мы сами взяли это право. И говорите потише, пожалуйста. А лучше помолчите, я еще не закончил. Я сказал, что жизнь фройлейн Раубаль регламентирована, но я не сказал, что также регламентированы и ее чувства. И если у вас хватит ума и терпения, то вы, возможно, и получите свое.
– Ума, чтобы принять ваши правила, и терпения, чтобы плясать под вашу дудку?
– Вот именно.
– А если нет? Вы меня в табак сотрете?
Лей не ответил, но в его темно-серых насмешливых глазах Вальтер прочел вполне однозначный утвердительный ответ.
Вальтер поднялся. Дальнейший разговор не имел смысла. Что бы он ни сказал сейчас, все наткнется на этот отливающий холодной сталью взгляд. Вальтер вежливо кивнул и вышел. Ужас положения состоял в том, что он и впрямь чувствовал себя как будто связанным. Последние слова Ангелики: «Умоляю, сделай все, как скажет Роберт! Если любишь меня!» Ц чудовищными путами сковали его по рукам и ногам.
Художник стиснул зубы. «Ладно, подождем. У меня еще будет случай доказать этим господам, что не все вокруг подчиняется их воле».
Он вышел на лестницу, спустился вниз и отправился сквозь строй «кадиллаков» и «мерседесов» к беззаботному Шуленбургу, чтобы вернуть ему титул и фрак.
После его ухода Лей снова улегся на диван и надвинул на глаза мокрое полотенце. Поставленная на горлышко бутылка означала воздержание и по меньшей мере пару недель адской головной боли, которая совершенно его выматывала. Сколько он ни прокручивал мысленно ситуацию с романом Ангелики, становилось все ясней – без Гесса не обойтись. Но что-то его удерживало.
Когда минут через сорок Рудольф явился его проведать, Роберт морщился не столько от боли, сколько от этого двойственного чувства – не сказать нельзя было, но и сказать не поворачивался язык. «Что это, что удерживает меня?» – задал он себе прямой вопрос, как делал всегда. Итак, Гели призналась, надеясь найти в нем союзника. Но союзником ей он быть не может. Рассказать Рудольфу значило бы получить еще одного несоюзника. Было бы честней… было бы справедливей дать девочке замену самого себя, то есть дать союзника, на которого она рассчитывала. А это значило все рассказать Эльзе. Возможно, Ангелика захочет рассказать ей сама, но из ее уст это одно, из его – другое. Какова же арифметика? Три женщины «за» при моем нейтралитете… А против… Это «против» не хотелось додумывать до конца.
Роберт испытал некоторое облегчение, решившись заменить Рудольфа его женой. Его в последнее время не оставляло ощущение, что строгие глаза Маргариты постоянно смотрят на него, и, мысленно заглянув в эти глаза, он увидел в них сейчас ласковое одобренье.
Через несколько дней в Мюнхене торжественно открывали Коричневый Дом – официальную штаб-квартиру партии. Трехэтажный особняк на фешенебельной Бриннерштрассе за последний год трансформировался во внушительное современное здание, символизирующее мощь и перспективу. Теперь здесь имелось все, что задумал архитектурный гений фюрера, – Сенаторский зал на втором этаже, внушающие уважение приемные, пивной подвал, удобные, просторные кабинеты руководителей. Появилось и кое-что непредвиденное, например, портрет фюрера с надписью, которую придумал и на которой настоял Гесс. Она гласила: «В этом движении ничего не произойдет за исключением того, чего хочу я». Этот портрет с надписью Гесса сначала повесили в Сенаторском зале, но Гитлер переместил его в свой кабинет, сказав, что надпись его вдохновляет.








