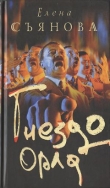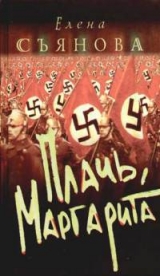
Текст книги "Плачь, Маргарита"
Автор книги: Елена Съянова
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Старший Гесс вместе со все слышавшим Борманом побежал в комнату Лея. Наклонившись над ним, они быстро установили, что с гостем все в порядке. Гесс показал лакею кулак, а двум нервным сучкам обещал отвернуть головы. Затем, присев в кресло, утер лоб и попросил Бормана позвать сюда Рудольфа. Когда младший Гесс явился, старший сказал ему, что его только что едва не хватил удар.
– Твои бестолочи устроили тут вой, как по покойнику. Шкуры с них содрать за такие дела. Зачем ты только держишь этих глупых псов?
– Немецкая овчарка – самая благородная порода, – заявил сын. – А выли они оттого, что давно не видели Роберта, соскучились.
Отец только рукой махнул.
– Пора будить Роберта. Десятый час.
Рудольф по себе знал, какое это мучение, когда тебя вытряхивают из спячки, точно из теплого дома на мороз, и как потом тяжело бывает часами приходить в себя. И, конечно, по-хорошему следовало бы оставить Лея спать столько, сколько того требует его состояние, но Рождество все-таки… Тут ему пришла в голову мысль: чем тормошить несчастного сонного Роберта и любоваться на его муки, не лучше ли завести какую-нибудь музыку… Вполне возможно, что на него, играющего на фортепьяно и скрипке, обладающего абсолютным слухом, она подействует возбуждающе.
Рудольф принес в спальню патефон и отправился за пластинками. Когда у него спросили, зачем музыка, и он объяснил, все принялись наперебой давать советы. Фюрер предложил Вагнера, Геринг – марш из «Аиды»; Геббельс, не без яда, – «Реквием» Моцарта; Ангелика – национальный гимн; Карин – скрипичный концерт Паганини; Магда Геббельс – «Героическую симфонию» Бетховена; Грета – фугу соль минор Баха. Все эти произведения в доме были, и Рудольф ставил пластинки одну за другой, в гостиной же с интересом прислушивались. Однако, судя по тому, что Моцарта уже сменил пронзительный и непостижимый Паганини, а того, в свою очередь, – благородный Бетховен, затея, по-видимому, не удалась.
Но через полчаса Рудольф явился в гостиную и сказал, что все в порядке.
– Я точно знаю, – заметил он, – что если бы эту вещь я поставил первой, она бы точно так же подействовала на него.
– По-моему, последним я слышала Баха, – сказала Магда. – Кто предложил фугу соль минор?
Все посмотрели на Маргариту. Лей продолжал спокойно спать под все бравурные и патриотические напевы, но едва раздались первые нежные звуки прелестной соль минор, как он быстро и легко проснулся, сказав, что вполне отдохнул и прекрасно себя чувствует.
Из оранжереи принесли живые цветы, и дамы взялись за составление букетов.
В этом искусстве пальму первенства держали Ангелика, учившаяся у фрау Хаусхофер, и аристократичная, обладающая особым чувством гармонии Герда Борман – их букеты были признаны лучшими обществом дам. Любопытно было узнать и мнение мужчин…
Букеты внесли в гостиную, и конкурс был объявлен там. Мужчины во главе с фюрером, посовещавшись, указали на букет Герды. Когда победительница была названа, все зааплодировали, а Мартин от гордости за жену даже вспотел. Тут в гостиной появился Роберт Лей, и ему предоставили эксклюзивное право выбора. Он сразу указал на красиво уложенные в большой белой вазе веточки померанца. Дамы переглянулись – померанцевый букет составила Маргарита. Два случившихся друг за другом совпадения могли бы показаться душещипательною выдумкой, какие нередко рождаются на светских вечеринках, но все присутствующие были тому свидетелями.
– Этакие милые сентиментальности! – шепнула Эльзе Карин. – К чему бы это?
– Ты разве не видишь? – вздохнула Эльза.
– Вижу, вижу. Наш Казанова верен себе. – По-моему, Роберта не в чем упрекнуть. Он сегодня на редкость сдержан. – А это к чему?
Музыка Рихарда Вагнера, даже звучащая в отдалении, всегда оказывала на Гитлера сильное воздействие – он целиком уходил в себя. Эта манера слушать многим была знакома, и многие ей подражали, поэтому в гостиной до сих пор витала некая сосредоточенность, которая не развеялась до конца, сохранялась и когда все уже сели за праздничный стол.
Живой оркестр играл другую музыку – Шопена, Штрауса, но глаза фюрера по-прежнему глядели внутрь, и отнюдь не рождественская торжественность легла на лица мужчин. Они понимали, что фюрер готовится произнести речь – одну из тех, которые считались программными, в них озвучивалась стратегия, выявлялись приоритеты, расставлялись акценты…
Во время таких речей он обычно избегал даже случайно встречаться с чьим-либо взглядом, он говорил как бы ввысь, точно его истинные слушатели взирали на него сквозь пространство и время.
Гесс ранее признавался, что эмоциональные атаки фюрера захватывают его, как океанские волны. Геббельс говорил, что они погружают его в мечту. Лей называл их духовным наркотиком, без которого он не может обходиться, а Геринг – божественной службой. Последнее определение сразу присвоил всеядный Геббельс. Однако именно эти четверо с годами, вольно или невольно, приобрели стойкий иммунитет против болезненных «погружений в мечты» и не относились к партийным наркоманам. Они умели слышать в речах фюрера то, что тот говорил именно им, – программу, согласно которой партии следовало жить ближайший год или два.
В сегодняшней речи имелось кое-что и для Гиммлера.
– Мистицизм – это детство человечества, но именно в детстве формируется характер человека, его суть и душа, – произнес фюрер, в точности воспроизведя фразу Гесса из его программы, раздел «Внушение», пункт II. – Мистические ритуалы, – продолжал Гитлер, – отнюдь не причуды или суеверие. В умелых руках они могут сделаться своего рода ежедневной гигиенической процедурой.
Это опять было из программы Гесса, который на этой фразе послал Гиммлеру прямой и выразительный взгляд.
Речь фюрера продолжалась четверть часа, затем пятиминутные речи произносили Геринг, Геббельс и Гесс, а также старший Гесс, на правах хозяина выразивший фюреру партии ни больше ни меньше как признательность от лица истинных немцев. Затем общество прослушало минутные пассажи Магды Геббельс и Эльзы Гесс, говоривших о будущем Германии и немецких детей. Торжественное настроение Гесса едва не испортил легкий толчок в бок со стороны Роберта Лея, шепотом спросившего, для кого спектакль.
– Для всех и каждого, – тоже шепотом отвечал Гесс, не меняя сурового выражения лица. – Ты как-то жаловался, что тебя не во все посвящают. Вот, можешь это посвящение принять.
– После женщин? Благодарю.
Посвящением после женщин не побрезговали, однако, ни Гиммлер, ни Борман. Оба написали и выучили трехминутные речи заранее, поскольку не были ораторами, особенно Борман, произносивший фразы со странной завывающей интонацией, подобно декадентскому поэту. Что-то сказать должна была, по-видимому, и Герда Борман, однако бедняжка так волновалась, что у нее даже слезы на глазах выступили, и добрая Карин выручила ее, предложив мудреный, но лестный тост за Рождество в аллегорическом ключе, «за начинающийся лучезарный выход Мессии из высших сфер и его прохождение путем, указанным Провидением».
Поскольку тост Карин был десятым, легкое опьянение уже владело всеми присутствующими, и сам Гитлер, которому торжественная часть порядком наскучила, ждал последней речи – Лея, чтобы перейти наконец к более свободному общению. Но «бульдог» сидел хмурый, надутый и явно ничего не собирался говорить.
Роберт нарочно призывал к себе самые мрачные мысли, чтобы иметь повод напиться, но странное дело – ни по-настоящему скверных мыслей, ни потребности выпить у него сейчас не было. Он чувствовал на себе быстрые, но ощутимые как прикосновенья взгляды красивой девушки, и сколько ни хмурился, настроение только улучшалось. Грета ему по-настоящему нравилась. Особое очарование придавало ей в его глазах едва уловимое сходство с братом, но оно же было и предостережением. Роберт продолжал хмуриться и напускать на себя такой вид, точно его обидели. Когда все поднялись из-за стола, он почти тотчас ушел к себе – после двух суток сна сильно тянуло лечь.
За ним сразу явился сердитый Гесс.
– Ты что, обиделся?
– Конечно! – отвечал Лей. – Устраивают спектакли и меня из зрительного зала тащат на сцену – и давай, играй роль, которой в глаза не видел!
Рудольф улыбнулся, почувствовав облегчение.
– Я уж подумал, ты всерьез сердишься!
– Ты все правильно делаешь, Руди, – вздохнул Лей. – До сих пор мы, как шайка разбойников, играли гениального предводителя, а теперь, как свита, начинаем играть короля. И это значит, что, вернувшись к себе на Рейн, я должен ставить ту же пьесу…
Гесс присел у постели.
– Да, Роберт, должен. Я понимаю, что гауляйтерам труднее, чем нам, теоретикам. Мы как бы в некоей изоляции… Но тебе придется начать эту игру.
– У всех гауляйтеров и без того сильна тенденция к самовластию, а ты предлагаешь усугубить…
– Отнюдь! Я предлагаю каждому найти свой баланс. Но внешне тебе придется оградить свою личную жизнь непроницаемой стеною. Ты ведь понимаешь, что для тебя районное руководство – вещь временная. Фюрер со временем предложит всем нам, здесь присутствующим, совсем другие посты. И к тому времени у каждого должен быть свой image.
– А я-то думал – ты здесь диссертацию заканчиваешь, – усмехнулся Лей.
– Еще успею!
– Напрасно обольщаешься! Я точно так же лгал себе пять лет, пока голова не превратилась в мусорную кучу.
– Что ж, значит, приобрету первый компонент из твоих двух… Как ты его назвал? Профнепригодность? Послушай, Роберт! – Гесс внезапно стиснул его плечо. – Да очнись же, черт тебя подери! Что с тобой? Что со всеми вами? Вспомни, в Ганновере, в двадцать пятом, когда Штрассеры напали на Адольфа, когда Геббельс требовал его исключения из партии, когда на него кидались все – ты единственный выступил против! Ты пошел против всех! Тогда у тебя все было – страсть, воля, вера! Главное – вера! А теперь… Ты с циничной усмешкой заявляешь, что в партии собрались одни бездари, преступники, психопаты, предатели…
– Ну, это уж ты чересчур. – Лей досадливо отвернулся.
– Да нет, я тебя цитирую! «На полпути к психушке», «поцелуй Иуды», «нордические добродетели», «злая порода»! Профнепригодность, наконец! А это? «Любая страна тем счастливей, чем меньше в ней таких, как мы»! Никогда тебе этого не забуду!
– Пусти, больно же! – Роберт сел на постели, потирая плечо. Он ничего не ответил, понимая, какое чувство двигало сейчас Рудольфом. Сам он прежде заливал его коньяком, потом попросту перестал испытывать.
– Извини, я не хотел, – пробормотал Гесс.
– Ладно… Будем считать, что мы квиты, – кивнул Лей.
В дверь постучали. Заглянул встревоженный Фридрих Гесс, узнать, все ли в порядке.
– Сегодня наши дамы не желают ни танцевать, ни беседовать. У них на уме одна музыка. А этот оркестр играет только вальсы и танго. Мне в голову не пришло пригласить другой. Кто же знал, что в рождественскую ночь кому-то захочется слушать серьезную музыку?
– Не огорчайся, папа, – широко улыбнулся Рудольф. – Среди наших гостей есть один серьезный музыкант… Профессионал! Если мы все его попросим…
– О, неужели? Замечательно! – обрадовался Фридрих. – Но кто же это? Кажется, я знаю всех. Не господин ли Гиммлер?
– Гиммлер пока учится, – заметил Рудольф.
– На нервах играть, – проворчал Лей. – Ладно, Руди, счет два-один. Но это ненадолго.
Лишь единицы из числа самых близких друзей слышали игру Роберта Лея, но те, кто слышал, испытали потрясение.
Когда у пятилетнего крепыша и шалуна Роберта вдруг обнаружился абсолютный слух, родители сделали все возможное, чтобы дать ему первоклассное музыкальное образование. Уже юношей он как-то спросил мать, для чего нужно было заставлять его столько часов просиживать за роялем, да еще пиликать на скрипке, и мать дала следующий ответ:
– Бог наказал тебя избытком энергии, мой милый. Когда ты станешь искать выходы для нее, то, возможно, вспомнишь и об этой… эстетической форме.
Сублимация энергии в музыку оказалась не таким безобидным и спасительным средством, как предполагала мать, но об этом знала только жена, а ее сейчас рядом не было…
Гесс объявил гостям, что Роберт согласен поиграть немного. Из присутствующих только Геринги, Гессы и Адольф знали о его способностях, остальные были порядком озадачены. Но когда он сел к роялю, продолжая разминать пальцы, спросил, нет ли возражений против Шопена и Шуберта, а затем сыграл несколько пассажей, пробуя инструмент, всех охватило невольное нервное возбуждение.
Характер Лея, резкий, властный, жесткий до жестокости, хаос его страстей и противоречий, болезненная возбудимость психики, его страхи и уколы совести, точно через поднятый шлюз, выливались в изящно изломанную, чувственную музыку Шопена и летящий сумбур Шуберта. Это вызвало в слушающих предельное эмоциональное напряженье. Особенно сильному воздействию подверглись такие нервные натуры, как Геббельс и Гесс, а также Ангелика, которая после «Посвящения» внезапно разразилась слезами. Но в основном ценители были более сдержанны.
Борман, например, до нервов которого не добирался ни единый звук, посвятил этот удивительный час изучению реакций фюрера и остальных, но Гитлера – в первую очередь. Мартин сделал важный для себя вывод, что не музыка, а сама неуемная натура Роберта Лея вызывает у фюрера сильное, беспокойное чувство, и, похоже, его болезненно раздражает собственная непричастность к происходящему. Борман сделал еще один осторожный вывод: как и в случае с Гессом, Герингом и Геббельсом, фюрер склонен с этим мириться.
Лей играл около часа. С точки зрения техники его игра оставалась почти безупречной. Эмоциональный же накал возрастал от произведения к произведению, подобно тому как растет опьянение с каждой новой рюмкой. Возбудились даже самые стойкие – Герда Борман казалась бледнее обычного, у Гиммлера же, напротив, так пылало лицо, что он неловко себя чувствовал.
Когда пианист, захлопнув крышку, встал и шутливо раскланялся, почти все дамы пожелали поблагодарить его поцелуем, за исключением сдержанной Герды (за что она, безусловно, получит нагоняй от Мартина) и Маргариты, во взгляде и манерах которой появилось видимое отчуждение. С Гитлера же слетела вся его принужденность. Он был взволнован и не желал этого скрывать. Все ждали монолога. Но чуткий Адольф, больше всего в жизни опасавшийся выглядеть смешным в глазах избранного и ценимого им общества, понимал безусловное преимущество музыкальных средств над словесными, а потому, еще слушая игру Роберта, взялся за карандаш и в течение получаса сделал несколько экспрессивных набросков с натуры. Слушающий Геббельс в профиль; ветка омелы, фантастически переходящая в кокетливую прическу на голове Ангелики; тихая Маргарет Гиммлер, сидящая в кресле, перед которым преклонил колено едва очерченный, точно из воздуха сотканный средневековый рыцарь; и, наконец, огромные, в лист глаза, в каждом из которых вместо зрачка – по крохотному человеку за роялем.
Все были в восторге. Раздав рисунки, Гитлер вручил последний Лею и сказал, что видел эти глаза, но не выдаст их тайны…
Между тем музыканты оркестра, тоже возбужденные игрою Лея, заиграли захватывающий, таинственный рождественский «Вальс цветов» из балета Петра Чайковского, и эта музыка образовала изящный мостик, по которому дамы перешли к тому, чего давно ожидали, – к танцам.
Сегодня дамы сами пожелали выбирать себе партнеров, и первый шаг сделала направляемая мужем Герда Борман, пригласив Фридриха Гесса, Ангелика тотчас выбрала Рудольфа, Грета – Бормана, Магда Геббельс – Альбрехта Хаусхофера, а Маргарет – Гейнца. Карин шутливо присела перед мужем. Эльза пригласила Гиммлера. Остались не танцующий из-за хромоты Геббельс, Лей, попросивший отдыха, и Гитлер, которому партийная этика устами зануды Гесса запретила танцевать раз и навсегда. Адольф продолжал набрасывать аллегорические портреты друзей и их жен: тоненького, легкого Гейнца Хаусхофера он изобразил в вихре вальса, а Эльзу – в облике мадонны с сиянием в ладонях, по форме напоминающим младенца. Все трое сидящих при этом потихоньку смеялись и болтали, как будто вошли в тайный сговор против танцующих. Однако уже после первого тура Гитлер, предоставив обществу любоваться новыми «аллегориями», шепнул Гессу, чтоб тот присматривал за Робертом.
– Не думаю, что твоя игривая графика соответствует образу… – начал было Рудольф.
– Но я же не стану выставлять этого в Салоне!
– И все-таки…
– Как ты мне надоел, – прошипел Адольф. – Еще одно слово, и я влезу на стол и начну отбивать чечетку. К твоему сведению, я это неплохо делаю.
«Фюрер не должен пить вина. На столе перед ним может стоять лишь бутылка минеральной», – решил про себя Рудольф.
В гостиной горели свечи. Мужчины тихо беседовали, пили коктейли и кофе; слышался их довольный, самоуверенный смех.
Среди дам Рудольф не обнаружил Маргариты и потихоньку спросил о ней отца.
– Мама увела ее, – отвечал Фридрих. – Девчонка позволяет себе… немыслимые вещи. Никогда бы не подумал, что моя дочь…
Отец был очень расстроен, и Рудольф отправился наверх.
Грета сидела в спальне, на кровати. Мать поила ее с ложечки. Увидав сына, она быстро встала и вывела его за дверь.
– Не говори ей сейчас ничего, дорогой. С молодыми всякое случается. Не станем сразу осуждать. Лучше пожалеть глупую девочку…
Глупая девочка, выйдя из-за стола, умудрилась незаметно проглотить шесть рюмок коньяка. Мать и отец были слишком заняты гостями, брат отсутствовал, а всегда внимательная Эльза сделалась рассеянной в последние дни. Состояние Греты правильно оценила лишь Магда и потихоньку сказала о том фрау Гесс. Заметив отсутствие жены и дочери, обеспокоенный Фридрих пошел взглянуть, не почувствовала ли себя плохо его супруга, и обнаружил хохочущую и плачущую пьяную дочь.
– Зачем она это сделала, мама? – спросил потрясенный Рудольф. – Она хотя бы как-то объясняет?
– Она сказала, что хотела пережить это состояние, понять, что в нем.
Отстранив мать, Рудольф вошел в спальню, взял сестру за плечи, повернул к себе.
– Ты хотела понять?.. Что? Может быть, то, как с осколком в виске сажают подбитый самолет на ночное поле? Или то, как стоят лицом к лицу с разъяренной, взбесившейся толпой, учуявшей запах пролитой крови? Или то, как выбираются из пропасти, таща за собою обессилевшего друга? Это ты хотела пережить?!
Вернувшись к матери, он ласково, но твердо увел ее от Маргариты, сказав, что не такая уж она пьяная и что лучше ей сейчас побыть одной.
– Мама, ты что-нибудь заметила? – осторожно спросил он мать.
– Конечно, милый. Наша девочка влюбилась.
– И что ты думаешь?
– Я думаю… нельзя этого трогать. Здесь все решают двое и Бог. Но если ты спрашиваешь… Сначала я посчитала, что Роберт слишком сложен для нее. Но теперь я вижу, как растет ее чувство, как углубляется страдание, как она взрослеет на глазах. Здесь самое важное – как поведет себя он.
Мы уже говорили, – признался Рудольф. – Я верю Роберту, как себе. Ты даже не представляешь, что он чувствует… Для него Грета не просто влюбленная дурочка, каких у него легион; она часть нашей дружбы. Ему сейчас очень тяжело.
– Я думаю, Руди, все решит сила его собственного чувства… Будем смотреть правде в глаза.
За окнами уже трещали фейерверки, взмывали и лопались ракеты, поливая двор и сад разноцветным дождем из искр. На сплетающихся ветвях двух гигантских старых буков, точно вися в воздухе, горели сотканные из электрических лампочек пять букв – НСДАП. Развернутые в сторону фасада дома и расположенных за ним деревень, они были видны издалека.
Немногие знающие грамоту крестьяне прочли их в эту ночь впервые.
Весь следующий день поместье Гессов Рейхольдсгрюн представляло собою сказочное сонное царство, периодически навещаемое злыми духами. У Лея поднялась температура. Геббельс около полудня проснулся с отчаянными воплями. Магде, привыкшей к ночным кошмарам мужа, он сказал, что на этот раз ему приснился жуткий сон про детей, которых у них еще не было. Геринг почти час во сне рыдал в подушку, и Карин пришлось переменить наволочки; а Гиммлер до полудня вообще не мог уснуть, и Маргарет попросила для него снотворное.
«Когда мы собираемся в одном месте, нужно держать наготове роту врачей с мешком лекарств. Казалось бы, нервы у всех стальные, но стоит немного расслабиться, как начинает твориться черт знает что!» – мрачно шутил Рудольф.
Утешали его лишь крепко спящие Борман и Адольф, который – это все заметили – у Гессов совершенно успокоился.
Пока мужчины таким образом приходили в себя, дамы не скучали. Хозяин предложил устроить «дамскую» охоту на белок, и они с радостью согласились, но когда он принес дробовики, Ангелика искренне удивилась: – Разве мы станем по ним стрелять? В глазах Фрица Гесса появился закономерный вопрос – а что еще делают на охоте? – на что девушка, смутившись, не сразу, но твердо сказала, что думала поохотиться, так сказать, в переносном смысле.
На следующее утро лучшая половина общества собиралась на беличью охоту.
К дамам присоединились и все проснувшиеся мужчины, которые, в свою очередь, готовились к завтрашней большой охоте на кабана, знаменитого в окрестностях Рейхольдсгрюна самца-альбиноса, и не прочь были поразмяться. Можно вообразить себе физиономию Геринга, в лесу узнавшего, что с ними нет ни одного ружья – он-то был уверен, что первоклассные дробовики Фрица Гесса едут за ними в санях Но Фридрих развел руками: «Желание дам!»
Карин позже рассказала Рудольфу, как хохотал Гитлер, также отправившийся на дамскую охоту, а тем временем Борман, не расстающийся со своим блокнотом, записал туда следующее: «Убийство всегда убийство. У меня есть серьезное намеренье сделаться вегетарианцем. К сожалению, немцы слишком традиционны, и это не приживется, но для себя я почти решил».
Пока все общество гоняло белок, осыпавших людей пластами девственного снега, в уютном доме оставались впавший в спячку Геббельс, младший Гесс – за хозяина и Роберт Лей, которому врач по телефону запретил еще сутки выходить на мороз, пригрозив воспалением легких. Дома осталась и Грета. Она сидела у себя в спальне и в ответ на все приглашения брата спуститься в гостиную лишь отрицательно мотала головой.
Роберт тоже чувствовал сильное стесненье, Рудольф был прав, говоря, что она для него не просто девчонка из тех, что гроздьями вешались на него повсюду, – она для него часть, может быть, самого ценного после всех пережитых потерь – мужской дружбы.
Не будь Маргарита его сестрой, Гесс позабавился бы, наблюдая за Робертом, не знающим, как себя повести в банальнейшей ситуации – наверху влюбленная девушка, с которой нужно хотя бы поболтать из приличия. Ситуация, впрочем, была не совсем банальная. Рудольф не поставил впрямую никаких условий, лишь высказал пожелание; однако Лей понимал, что, вступив сейчас в любые, даже самые невинные отношения с Маргаритой, он возьмет на себя ряд обязательств, казавшихся ему почти невыполнимыми. Нет, он не был в себе настолько уверен, чтобы сказать: да, с нею я стану другим! Он мог лишь отважиться на попытку… Бросить пить, сдерживать свои скотские инстинкты, сделаться хорошим мужем прелестной, умной женщине; наконец, почувствовать себя здоровее, энергичнее, избавиться от этих припадков, вечной головной боли и отвращения к себе. Разве игра не стоила свеч? Не говоря уж о партийной карьере, о том неотразимом влиянии на фюрера, которое он приобретет через Гесса…
На этих мыслях Роберт, впрочем, поморщился, по-настоящему это его не волновало. По-настоящему он боялся другого – сорваться окончательно и потерять те крохи уважения к себе, за которые он временами отчаянно цеплялся.
Заснеженный сад за окнами уже тронули первые сумерки, а Роберт все маялся в гостиной, с отвращением глядел в готические зеркала, потягивался в креслах и, подсев к роялю, наигрывал мельком услышанные легкомысленные французские песенки. Он не узнавал себя… Его девиз был – принять решение и выполнять! С одним уточнением: решение может быть абсурдным, но выполнение – абсолютным. Так он заявил однажды на совещании у фюрера, и это немедленно было принято всеми как «принцип вождя».
Решения не было. Если и было, то только – бежать, бежать прочь сломя голову… Он вздрогнул, услышав твердые, быстрые шаги, и встал. Вошла Маргарита. Она остановилась в центре комнаты и вздернула подбородок.
– Поскольку все уехали, брат считает, что я должна вас развлекать. Извольте, я готова! Что вам угодно – рождественский стишок, песенку или танец? Или все подряд? С чего начать? – Она сделала еще несколько шагов. Ничего в этой раздраженной девушке не осталось от сказочной Гретхен.
– На кого вы сердитесь? – спросил он.
– На себя! Зачем вы остались? Мой брат проповедует какую-то иную религию, новый мировой порядок, а сам задержался в прошлом веке. Мои родители гораздо современней. Ну зачем вы остались? – повторила она с досадой, в которой слышались слезы.
Он молча протянул руку. Грета подошла, не понимая, но сделала то, что не требовало объяснений, – подала ему свою, и он несколько секунд держал ее пальчики. Потом она отняла руку и нахмурилась.
– Извините. Я не знала. Что с вами?
– Простуда, наверное.
– У вас болит горло, голова?
– Да, немного.
Она подошла к роялю, потрогала пальцем клавиши. Одна звякнула слегка. «Видел бы меня сейчас кто из боевых товарищей, – думал Роберт. – Они бы лопнули со смеху. Но что делать, если последняя достойная девушка, за которой я романтически ухаживал, была моя тридцатисемилетняя жена… А ведь они чем-то похожи, – вдруг поразился он, – та тоже то сердилась, то делалась очень нежна».
– Хотите, чтоб я поиграл? – спросил он. Маргарита нервно повернулась.
– Руди сказал…
Ох уж мне этот Руди! Роберт стиснул зубы, но улыбнулся.
– Ваш брат предпочитает Моцарта. Это, кажется, его любимое… – Он сел к роялю и заиграл «Маленькую ночную серенаду».
– Нет, не нужно… – Она чуть дотронулась до его плеча. – Пожалуйста.
– Вам не нравится? Я теперь редко играю. Растренировался. Но мне больше нечем вас развлечь.
– Меня не нужно развлекать. И мне очень нравится. Я только не понимаю, – она отошла к окну и стояла вполоборота к нему, – я не понимаю, зачем вам эта политика. Вы же музыкант.
– Нет, и никогда не был. Она пожала плечами.
– Я не понимаю.
«Нечто подобное я недавно говорил Рудольфу, – усмехнулся про себя Роберт. – Что же он мне тогда ответил? Да, что-то о воле и вере».
– Эта политика, как вы ее назвали, – всею лишь стремление изменить печальную участь Германии, – сказал он.
– Насильственным способом?
– А что в нашем мире совершается иначе?! Другого способа у природы нет. Через силу к радости!
– Быть жертвой – меньший грех.
– Случается, что, рождаясь, дитя губит свою мать. По-вашему, оно грешно?
– Младенец действует бессознательно. Им движут силы природы.
– Они движут и нами. Государства, как люди, рождаются и умирают. Вот и новая Германия должна родиться. Сама природа вытолкнет ее из чрева Европы, которая при этом вполне может и… отдать концы.
– А если Бог решит иначе? Если во время несчастных родов он решит сохранить мать?
– Бог? Мы в этой гипотезе не нуждаемся. Она неприняла шутки:
– Нет Бога – нет и греха. Нет греха – нет и кары за него. Что же вы оставляете?
– Право сильного.
– Сильного без разума? Сильного без души?
– Разум – это воля вождя. Душа – его вера.
– Его? – Она отвернулась от окна со странной улыбкою.
Роберт понял, что охотники возвращаются. Он ясно представил себе Адольфа в нелепой меховой шапке и огромных мохнатых сапогах.
– Что ж, Христос ходил в рубище, обдирая босые ноги о камни Иерусалима.
– Христос? Но ведь вы в этой «гипотезе» не нуждаетесь!
– Не путайте Бога с мессией. В нем мы нуждаемся, как никто иной!
– Но кем же он послан?
– Природой.
– Природой, без разума и души? Что это такое?
– Не более чем соединение молекул. А душа – энергия их движенья. Разве вам не объяснили этого в школе?
– А если… природа пошлет другого мессию?! И он скажет, что мы, арийцы, – низшая раса, пригодная лишь для того, чтобы пасти скот иудеев и возделывать поля славян?!
– Что-что?
– Разве не являлись уже миру безумцы, пророчившие власть одним и рабство другим? И где они теперь – империи Александра, Цезаря, Тамерлана? Где наполеоновский рейх? Что осталось от них кроме пластов человеческой плоти?! Я где-то читала, что оазисы в пустыне – это кладбища прошедших некогда армий. Превратите Европу в пустыню с оазисами? А вы не боитесь, что арийский оазис будет цвести пышнее всех?!
– Что? – Роберт про себя присвистнул. Ай да девчонка! Вот это страсть! И как похожа на брата! Такой же обманчиво дремлющий вулкан! Чтобы скрыть возбуждение, он повернулся к роялю и, поскольку послышался шум и веселые голоса ввалившейся в дом компании, заиграл марш тореадора из «Кармен». Под эту бодрую музыку и появились первые улыбающиеся «охотники», румяные с мороза и шутливо переругивающиеся Геринг и Ангелика. Увидав Грету у окна и Роберта за роялем, они резко остановились и в первый момент даже как будто попятились назад.
– Много белок настрелял? – спросил весело Лей.
– О да! – смеялся Геринг.
– Герман не промазал ни в одну, – заметила Ангелика.
– С таким оружием, какое у меня было, промахнуться немыслимо!
– Да, у Фридриха первоклассные стволы, – согласился Роберт.
– Безусловно, только я-то стрелял из пальца, старина! Вот из этого! – Геринг поднял указательный палец. – Наши дамы пожелали создать новую партию – беличьих пацифисток. А фюрер объявил себя вегетарианцем.
– Ничего, друзья мои! – воскликнул вошедший следом за ними Фриц Гесс. – Мои егеря уже пустили собак, и завтра я обещаю вам полную компенсацию за моральный ущерб.
Только сейчас поняв, что произошло, Роберт захохотал; вслед за ним рассмеялись и остальные.
– Лей, как всегда, показывает, что он умнее всех, – сказал Геринг жене. – Воображаю, как он пыхтел тут вокруг малышки Марго, пока я гонял белок. Ничего, завтра я возьму реванш!
За ранним ужином обсуждали стратегию охоты на кабана. По тактическим моментам высказались лишь четверо; остальные задавали вопросы. Четвертым, помимо известных охотников Геринга, старшего Гесса и Лея, оказался Борман, и в этом деле проявивший должную осведомленность. Дамы помалкивали. Эльза пыталась что-то сказать по поводу природного феномена, но мужской азарт рос в геометрической прогрессии. Даже Геббельс, обычно сторонившийся физических нагрузок, слушал чрезвычайно внимательно, и глаза его азартно блестели. Пожалуй, единственным, кто был по-настоящему равнодушен к предстоявшему действу, оставался Рудольф Гесс.
– Как, имея такого отца и традиции, не сделаться охотником! – недоумевал Геринг.
– Да, я не любитель. Это правда, – несколько смущенно соглашался Рудольф. – Ничего не нахожу в этом. Загнать живое в угол, убить в упор… Что за удовольствие!