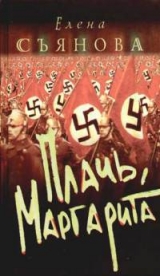
Текст книги "Плачь, Маргарита"
Автор книги: Елена Съянова
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Все знали, что Амалия фон Шредер влюблена в Роберта Лея, она этого не скрывала, подчеркивая, естественно, платонический характер отношений, и даже перед мужем отзывалась о нем как о мужчине, в котором нашла свой идеал, – сильном, волевом интеллектуале с тонкой душой, отчаянной смелостью и темпераментом южанина.
Увидав свой идеал, обложенный подушками и с компрессом на голове, она не была разочарована – вид страдающего Роберта возбуждал ее. Она вышла от него, пылая негодованием по поводу отъявленных злодеев, стреляющих из-за угла в истинных героев немецкого народа. Затем Лея посетил франкфуртский мэр с супругой; за ними – супруга стального магната Веглера. После ее десятиминутного щебетания Роберт долго лежал в состоянии тяжелой прострации. Потом, в ярости расшвыряв подушки, он запер дверь и позвонил Геббельсу.
Йозеф этого, безусловно, ждал. Однако ночь с Хелен придала ему сил; и он был так счастлив в это утро, что твердо решил вытерпеть все от Лея, который, выходя из себя, становился опасен, как разъяренный пикадорами бык.
– Ты н-немедленно н-напишешь оп-провержение и из-звинишься за ошибку, иначе я т-тебе г-голову с-сверну! – орал бешеный Лей, заикаясь на каждом слове.
– Хорошо, я выясню, разберусь… Дай мне время… – отвечал Геббельс.
Самое лучшее было сейчас потянуть время, пока у «бульдога» пройдет первый гнев.
Второй звонок раздался через четверть часа. За это время Лей, по-видимому, прочитал те статьи о шпионском гнезде Монтре, о которых с упоением щебетала ему фрау Веглер, и снова впал в неистовство. Он обозвал Йозефа параноиком и еще невесть как, пообещал немедленно отправиться в редакцию с ротой СС и под дулами заставить их напечатать опровержение «параноидальной галиматьи недоносков от псевдополитики». Геббельс знал, что Лей практик – что говорит, то и делает, поэтому быстро проинформировал Штрайхера и попросил его повлиять на коллегу.
У Штрайхера с Леем сохранялись ровные отношения делового сотрудничества. Репутация гонителя рейнских евреев создала гауляйтеру надежный щит против упреков ревнителя расовых установок партии, и сейчас Юлиус Штрайхер, узнав, что в основе ярости Роберта лежат личные отношения с одной из жертв «франкфуртской операции», решил спокойно с ним поговорить, напомнив о приоритетах. Но Лей не стал его слушать.
– Есть предел! – заявил он. – Я подчинил свою жизнь партии и воле фюрера. Но я никому не давал права делать из себя бессловесное насекомое без воли и сердца, подчиняющееся лишь инстинктам борьбы! Нет, Юлиус! Если этот мудозвон немедленно все не исправит, я это сделаю сам.
– Боюсь, в таком случае ваша с Йозефом склока дойдет до фюрера, а я не уверен, что он примет твою сторону, – сказал Штрайхер. – Хотя по-человечески я тебя могу понять. Геббельс, конечно, скотина, тем более если сам спал с ней.
Прошло около часа, и Йозеф надеялся, что Лей чуть поутих. Нет, не тут-то было. К тому же Штрайхер фактически принял его сторону, заметив Геббельсу, что тот поступил не по-мужски.
Никто из них, конечно, не догадывался о катализаторе скверной истории – прекрасной Елене, но Йозеф скорее умер бы, чем позволил кому-нибудь об этом узнать. И ему ничего не оставалось, как только напускать на себя высокомерие и отвечать на упреки Штрайхера в известном стиле: мол, интересы дела превыше всего.
Лей ждал еще час. И Геббельс ждал, ничего не предпринимая. Он не знал, кто и как поведет себя в продолжении этой драмы, но знал, что все готов принять на себя, и даже испытывал своеобразное удовольствие от приносимых во имя любви жертв. Хелен тоже помалкивала.
Лей позвонил Гиммлеру. Он все честно рассказал ему кроме того, что Полетт была и любовницей Геббельса (об этом говорить было противно), и попросил у него сопровождения из нескольких человек – безусловно, в штатском – на случай, если придется оказывать давление.
– Я готов предоставить в ваше распоряжение весь свой штат, – отвечал Гиммлер. – Но неужели это единственный вариант – вам самому появляться в редакции?
– А кому там появляться? – спросил раздраженно Лей. – Единственный, кто в сложившейся ситуации мог бы действовать от моего лица, это вы, Генрих, но вас я об этом просить не хочу.
– Будем считать, я сам это предложил, – отвечал тот.
«Очень благородно. С чего бы это? – подумал Лей. – Хотя, если уж я его в это впутал, другого выхода у него все равно нет».
Только сейчас, переломив наконец ситуацию, он почувствовал, что грудь буквально разрывается от боли. Сделав передышку, Роберт попросил вызвать к нему Феликса Керстена, и тот приехал очень быстро.
– Я готов повернуться на восток и читать Коран, – пошутил Лей. – Извините, доктор, я хотел сказать, что готов сделать все, что вы скажете, если это поможет унять боль, потому что другие предложат морфий, а мне нужна сейчас ясная голова.
Когда Керстен закончил его выслушивать, Лей уже собрался было усесться на ковер и начать «самоуглубляться», но врач велел ему лежать и не делать резких движений.
– Все это достаточно серьезно, – строго пояснил он. – Я должен пригласить к вам специалиста.
– Хорошо, только попозже, – согласился Роберт. – А пока давайте испробуем ваши методы. В Северной Баварии, в поместье моих друзей, я имел дело с одним местным лекарем. У меня тогда тоже болело сердце, он положил мне руку на грудь, и боль этой рукой тут же сняло.
– Сколько раз с тех пор у вас болело сердце? – вздохнул Керстен. – Болезнь нужно лечить, а не снимать ее симптомы. Хотя если вам трудно терпеть боль, я могу, конечно, облегчить ваше состояние. Если вы обещаете тут же не вскакивать и не хвататься за дела. Вообще, мне непонятно, как после таких травм вам позволяют…
– Значит, вы считаете, что человек может и должен терпеть боль, – с любопытством спросил Роберт, – и что избавление от нее не самоцель?
– Да, я так считаю, – твердо отвечал Керстен. – Вы никогда не замечали, что если в разгар зубной боли вы вдруг порежете себе палец, то зубы сразу перестают ныть, а боль от пореза не так уж мучительна? Иногда одну боль можно унять другой болью, более терпимой, но нельзя пытаться изгнать боль, которая не знает пути вовне, но лишь – внутрь или в сторону. Это я и называю перераспределением энергии, боли, наслаждения – все равно.
– А нельзя ли трансформировать одно в другое, например, боль в наслаждение?
– Мои методы как раз и обучают подобным трансформациям. Мои ученики спокойно переводят боль в энергию, энергию – в наслаждение и наоборот.
– Наоборот? То есть наслаждение в боль? А кому это может понадобиться?
– Каждому свое, как говорили древние. – Керстен улыбнулся. – Случается, человек нуждается в страдании.
– Ладно. Вы меня убедили, – сказал Роберт. – Буду терпеть. А «самоуглубление», как я понял, нужно как раз для того, чтобы каждый сам разобрался, что именно ему требуется в данный момент земного бытия?
– Совершенно верно. Считайте, что вы уже прошли первую ступень.
– Не пожелав принять морфий?
– Вообще не приняв облегченья.
«Он решил, что я всерьез, – про себя хмыкнул Роберт. – Любопытно, где он находит себе учеников!»
– Может быть, теперь вы мне покажете, как трансформировать боль в энергию? – спросил он. – Мне бы это сейчас очень пригодилось.
– Покажу. Теперь вы можете встать – ваша боль уже не опасна.
«Оригинал!» – веселился Роберт, усаживаясь на ковер скрестив ноги, как показал ему Керстен. Дальше началась целая вереница каких-то непонятных движений и жестов, причем Керстен сначала только показывал, потом начал говорить и, наконец, просто дирижировал Робертом, как оркестром. Врач заблуждался, думая, что получил еще одного преданного ученика. Лей покорно выполнял все, что от него требовалось, но в душе забавлялся над собою. Однако результатом явилось заметное облегчение в груди и бодрое настроение.
«То же самое он предлагал Гиммлеру, – вспомнил Роберт. – И тот, конечно, согласился, и тоже сидел на полу, блестя очками на восток, и радовался, что его никто не видит».
В это время Юлиус Штрайхер, поразмыслив, решил ввести Гитлера в курс дела. В отсутствие Гесса Штрайхер чувствовал себя с фюрером уверенно и, пользуясь правами старого бойца и друга, по-свойски изложил все в несколько ироническом стиле, по-прежнему симпатизируя Лею.
– Понятно, что он взбесился и попросил Гиммлера устроить опровержение, – закончил Штрайхер.
– Ненавижу эти свары! – бросил Гитлер. – Неужели нельзя договориться?
– Видимо, Геббельс, как всегда, напустил слишком много туману, и ему срочно потребовались конкретные имена.
– Но не собственной же любовницы! Это и в самом деле цинизм. И не похоже на Геббельса. Здесь что-то не так… – Гитлер задумался. – Даже если эта француженка давно ему не дорога, не в его духе так обходиться с женщиной и при этом идти на прямой конфликт с Леем. Нет, здесь определенно что-то не то.
– Может быть, внимание к себе привлекает? – предположил Штрайхер. – Или… мстит Лею из-за Елены?
Гитлер покачал головой.
– Нет, Геббельс не станет делать бессмысленных вещей. По собственной воле, во всяком случае.
– Ты хочешь сказать, что его вынудили? Но кто? Ты, может быть, меня подозреваешь?
– Нет, старина, – улыбнулся Гитлер. – Выбрось это из головы. Во всей этой истории есть какая-то нелогичность, если подходить к ней с обычными мерками. Здесь должна быть замешана очень сильная страсть. А у кого в этой четверке имеется таковая? У Геббельса – к Хелен!
– Значит, он сделал это… для нее? Чтобы доказать ей, что Полетт для него больше не существует?
– Но нужно ли это Елене? Ведь ее-то страсть обращена на другой предмет.
– Геббельсу нужна Хелен, Хелен нужен Лей… Кто же из них мстит Полине?
– А ты не чувствуешь по почерку, чья тут рука?
Штрайхер щелкнул пальцами.
– Бабья, черт меня подери! Ты абсолютно прав! Хелен мстит Полине. За Роберта. Используя Йозефа как инструмент!
– Ненавижу баб! – констатировал Гитлер. – Вечно заварят кашу! Ладно, пусть все развивается естественным путем. В самом конфликте я на стороне Лея. Если все так, как мы с тобой думаем, Геббельс не очень обидится. Представляю, как он извивался у нее под каблучком, прежде чем согласился!
– Свернет он себе когда-нибудь шею из-за этих баб! – заметил Штрайхер.
– Я принимаю людей такими, каковы они есть, – ответил Гитлер. – Если, конечно, то, чем они являются, не вредит делу, как в случае с Ремом. А из этой глупой истории можно даже пользу извлечь. Опровержение станет доказательством добросовестного подхода, объективности следствия и т. д. и т. п. Пусть это сделает Кренц.
Адвокат, уже прочитавший сегодняшние статьи Геббельса, был возмущен откровенной и циничной клеветою и распоряжению фюрера обрадовался. Он тут же позвонил в редакцию, где ему сказали, что только что у них был по данному вопросу господин Гиммлер, однако поскольку дело приняло неожиданный оборот, он уже уехал – для консультаций.
Гиммлер в самом деле уехал очень быстро, однако не за консультациями, а – в модный салон Монтре, где пробыл около получаса и затем возвратился в особняк Кренца.
Гиммлер быстро поднялся на второй этаж и постучал в спальню Лея. Роберт сам открыл ему дверь и отступил на два шага.
– Я был в редакции «Франкфуртцайтунг» и узнал там о новых обстоятельствах, которые могут так или иначе повлиять на ход дела, – сказал Гиммлер. – Обстоятельства эти сами по себе печальны. Мадам Монтре сегодня около полудня покончила с собой. Я также счел своим долгом посетить квартиру покойной, – продолжал он, – чтобы лично удостовериться. Когда я назвал себя, господин Монтре вручил мне этот конверт. Перед смертью покойная оставила мужу записку, в которой просила передать его вам лично или через кого-либо из ваших коллег.
Лей взял конверт, все также глядя на Гиммлера. Потом медленно опустил глаза. На белой глянцевой поверхности стояли только две буквы – R.L.
– Мне очень жаль, – тихо произнес Гиммлер.
Лей снова поднял глаза.
Мне трудно уходить, но еще нестерпимей остаться… – писала Полетт Монтре. – Я порочная женщина, я много грешила в жизни… Но я любила тебя, а ты меня предал. Ты сделал это так омерзительно, гадко, так несправедливо! Весь мир мне опротивел, все в нем потеряло смысл… Одна мысль меня гложет – если ты ничего не знаешь, если меня оклеветали без твоего ведома, то как можешь ты считать этих людей своими друзьями, товарищами по борьбе? Как можешь ты быть с ними вместе?!
Прощай, Роберт! Прости мои упреки. Я никого не виню – мне просто больше не хочется жить.
Все-таки твоя Полли.
Узнав о случившемся от Гиммлера, фюрер поморщился:
– Этого только недоставало! И что за страсти вавилонские! А вам, Генрих, нужно было сообщить прежде мне, а не ошарашивать Лея, который и так выбит из колеи. Мы бы подумали, как смягчить ему этот демарш. Не вздумайте, по крайней мере, огорошить Геббельса! Нужно как-то поаккуратней с ним, – обратился он к Штрайхеру и Пуци, которые хмуро глядели в пол. – Может быть, сказать твоей жене, Эрнст? Она женщина – у нее лучше получится.
Пуци молча встал и вышел. Через несколько минут в кабинет стремительно вошла Елена. Муж не пощадил ее, выложив все как есть. Хелен была так бледна, что казалась близка к обмороку. Но ни один из глядящих на нее мужчин не испытал и тени сострадания.
– Такие дела, – сердито бросил Гитлер. – Что скажешь?
– Вы… сами видели? – отрывисто спросила она Гиммлера.
– Нет, покойной я не видел, но… В доме врачи, католический священник…
– Это может быть обман… блеф! Я ее знаю!
– Не сходи с ума! – прикрикнул Гитлер. – Она оставила Лею письмо. В нем, по-видимому, объяснение причин. Но меня сейчас беспокоит другое. Нужно ведь сказать Геббельсу. Может быть, это сделаешь ты?
Она глядела на него в упор.
– Ты хочешь, чтобы именно я ему сказала? И чтобы потом пошла утешить Роберта?
– Почему нет? – Серо-голубые, с непроницаемым выраженьем, глаза Адольфа расширились, но продолжали смотреть в одну точку.
– И ты, Юлиус?
Штрайхер отвел глаза. Она молча вышла. В коридоре она увидела мужа, курившего у окна.
– Куда ты? – бросил он, не оглядываясь.
– Мне приказано сообщить новость Геббельсу, – ответила она с вызовом.
– Что значит «приказано»? Не говори вздор! И… уймись хоть сейчас. – Он крепко взял ее за руку, отвел в комнату и слегка подтолкнул вглубь. – Побудь здесь. Я сам скажу Йозефу. А ты… прими что-нибудь успокоительное.
Пуци вышел. Он плотно прикрыл дверь и, прислонившись к ней спиною, несколько минут стоял с закрытыми глазами, слушая, как Хелен сдавленно рыдает.
Реакция Геббельса была похожей. Сначала он не поверил и несколько раз порывался ехать к Монтре, чтобы удостовериться, что-то бормотал про происки и ответные ходы, пока Пуци решительно не остановил его. Тогда, закрыв лицо руками, Йозеф, шатаясь, добрел до дивана, повалился на него и затих. Пуци посидел с ним минут десять, потом пошел к Лею, постучал и услышал спокойное «войдите».
Роберт лежал на кровати и глядел в потолок.
– Мне можно к тебе или хочешь побыть один?
– Садись.
– Я сейчас займусь опровержением, – сказал Пуци, присаживаясь рядом. – Подготовлю все для Кренца. Фюрер считает, что это следует сделать от лица наших юристов.
– Да, это разумно, – отвечал Лей.
– Ты извини, если я спрошу… Как у тебя с сердцем?
– Полежу – пройдет.
– Позвать к тебе кого-нибудь?
– Не нужно, спасибо.
– Когда подготовлю материалы, посмотришь или…
– Посмотрю.
Пуци, конечно, догадался, как все происходило.
Роберт не пил, и Елена опять принялась сходить по нему с ума. Бесилась, ревновала, натравила Геббельса на Полетт – просто от бессилия или заподозрила что-то. А Геббельс от нее всегда голову терял. Вот и закрутилось. В результате – Полетт выстрелила себе в голову или в сердце… Он этого точно не знал – знал только, что застрелилась. А кто виноват? Роберт, разлюбивший Елену? Йозеф с его ахиллесовой пятой? Или Елена, додумавшаяся до подобной формы борьбы с соперницей? Или он сам, не умевший быть ей хорошим мужем и способный лишь на никому не нужную жалость ко всем? Вдруг он почувствовал, что Лей слегка пожал его руку.
Три года назад, когда Эрнст еще боролся за себя, за жену, за нормальную жизнь, Роберт сказал ему, что у них с Еленой все кончено. Это была своего рода мужская клятва, и Лей не нарушил ее, как ни бесилась Хелен, как ни стремилась вернуть любовника. Тогда она и начала мстить…
– Может быть, все-таки примешь лекарство? – спросил Пуци.
– Если тебе не трудно, вон те таблетки… – кивнул Лей. – И намочи полотенце, пожалуйста.
Пуци все сделал и снова предложил позвать врачей.
– Ну их к дьяволу! Они без конца твердят, что мне жить осталось три дня. Как бы не так! Я переживу третий рейх! – усмехнулся Роберт, засовывая мокрое полотенце под рубашку. – Как ты полагаешь, сколько он продлится?
– У тебя сильный жар, – заметил Пуци, потрогав его лоб. – Я все-таки позову…
– У меня с войны то жар, то холод, то сердце, то голова… Если всерьез к этому относиться, то и впрямь сдохнешь. А я говорю тебе, что переживу третий рейх!
– Ладно, ладно, хоть четвертый! Я даже не знаю, шутишь ты или бредишь.
Лей приподнялся.
– Я похож на шутника?
– Роберт, послушай! Не теряй хоть ты голову! – взмолился Пуци. – А то у нас тут и так начинается черт знает что! Кто рыдает, кто лежит трупом, кто злорадствует, кто бредит! Всюду врачи. Какой-то дом для умалишенных!
– Тогда в нем не хватает еще одного… пациента – не находишь? – мрачно заметил Лей.
Пуци едва сдержал улыбку.
– Да, Руди здесь сильно недостает. Хотя в подобных ситуациях вы с ним как раз и сохраняли здравый смысл.
– Ты поедешь со мной? – спросил Роберт. Пуци понял.
– Я бы не просил тебя, Эрнст, но… Я в самом деле плохо себя чувствую. К тому же можешь себе представить, как нас там встретят. Головы я, конечно, не потеряю, но…
– Не лучше ли завтра съездить? – осторожно предложил Пуци.
Лей медленно поднялся и сел, держась за грудь. Потом встал и прошелся, глубоко дыша.
– Нет, поедем сейчас. Я только переоденусь. Через четверть часа спускайся к машине.
Салон Монтре с полудня был закрыт. Слухи расползались стремительно. Факт самоубийства скрыть не удалось, несмотря на присутствие в доме священника. Говорили, что мадам застрелилась из-за измены любовника. Кто-то добавлял, что она заговорщица, шпионка, коммунистка и т. д., но на первой версии сходились все.
В шестом часу в сумерках вокруг дома собралась изрядная толпа. Полетт была известной личностью, и у многих ее смерть вызвала скрытое злорадство, в особенности у женщин, не имевших средств, чтобы переступить порог ее роскошного салона. В самом доме стояла тишина; окна почти все были темны, свет горел лишь в гостиной на первом этаже и спальне, где лежало тело покойной.
Пуци предусмотрительно попросил Кренца предварить их визит звонком Шарлю Монтре, что тот и сделал, использовав весь свой авторитет и адвокатскую убедительность.
– Этим людям мало того, что они оклеветали и погубили ее, так они еще желают потешить свою арийскую сентиментальность? – отвечал Монтре.
– Даю вам слово, что доктор Лей не имеет к публикациям никакого отношения, – заверил Кренц.
– Знаю я, к чему он имеет отношение! Но если так, назовите мне имена тех, кто отвечает за эту подлую писанину.
– Господин Монтре, опровержение уже подготовлено и появится в утренних газетах. Но сейчас речь идет о другом. Всего лишь о вашей снисходительности к горю человека, который любил и глубоко уважал вашу покойную жену и теперь сам, находясь в тяжелом состоянии, чувствует глубокую вину за случившееся…
– Даю ему десять минут. Но впредь очень прошу вас, господин адвокат, способствовать ограждению моего дома от визитов любого из членов этой партии убийц!
Полетт выстрелила себе в сердце в 11 часов 50 минут. Выстрел был точный, и умерла она сразу. В той самой спальне, где они были вместе всего несколько дней назад, вместо широкой кровати стояла другая, поуже, застеленная белым атласом. Горели свечи; в ногах покойной сидела ее старая горничная – та самая, что нашла посмертное письмо и добилась того, чтобы Монтре согласился передать его Лею.
Роберт несколько минут смотрел в восковое лицо; потом почувствовал, что старушка тронула его за руку; кивнув ему на свой стул, вышла. Роберт машинально сел, и лицо Полины под новым углом зрения вдруг как будто переменилось – оно сделалось живее и точно улыбнулось ему лукаво.
Он никогда не относился серьезно к этой связи – каждый жил своею жизнью, по полгода не вспоминая друг о друге. Так ему казалось. Встречаясь, они просто наслаждались друг другом, без условий, обещаний, пустых тирад. Она была чудесная любовница – смелая, нежная, гибкая как кошка и изобретательная – настоящая француженка. Разве мог он предполагать, что именно в этот, пожалуй, самый приятный из его романов внезапно вторгнется боль, кровь, смерть?
«Ты меня предал», – написала она, сама в это не веря, потому что знала: не мог он предать ее.
«Весь мир мне противен, все в нем потеряло смысл…» Он и этого не мог понять. У нее был дом, положение, два здоровых сына, спокойный муж, друзья и поклонники, деньги, развлечения – все! Как же это все могло так в одночасье опротиветь, сделаться лишним, ненужным, потерять смысл? И чем же тогда жила все эти годы ее душа, что она ценила по-настоящему? Неужели эти редкие свидания без обязательств, поцелуи и объятия с человеком, который был и всегда оставался для нее чужим мужем, отцом чужих детей и даже чужим любовником? Значит, он не был ей чужим… Значит, что-то их соединяло.
Его опять тронули за плечо. Горничная присела рядом и вздохнула; голова ее немного тряслась – не то с укором, не то от старости.
– Анна, может быть, вы мне объясните, что она сделала, почему? – спросил Роберт, морщась от боли, разламывающей грудь.
– Может, и объясню, – кивнула старушка. – Чего ж тут. Мог бы и сам догадаться. Ее ведь в чем обвинили-то? В том, что она тебя погубить задумала! Хоть и не черным по белому, но непременно к этому б подвели, нелюди! А как же она могла пережить такое? Оклеветали б, опутали на всю-то жизнь, а как же ей после этого сыночку твоему, Роберу, в глаза глядеть? Как ей…
Он схватил ее за плечи, на мгновенье ослепнув от боли и ярости. Слова застряли в горле, но ему казалось, что он кричит:
– Робер мой сын?
Руки разжались. Это была правда, и она все объяснила ему. Не из-за него ушла Полетт, а из-за этого четырехлетнего мальчика, их сына, которого она звала сероглазым солнышком и лишь именем посмела намекнуть…
– Полли с Шарля слово взяла, как подрастет Робер, правду ему открыть, – сказала Анна, отходя от Роберта по другую сторону кровати. – Вот сегодня утром он ее и спрашивает, а не пора ли сказать, мол, правду об отце-то? В шутку сказал, конечно, сгоряча… А она вдруг белая стала, тихая… Голова, говорит, болит сильно, пойду полежу. И потом – выстрел. На весь дом… Детям сказали – в кухне от рождественского фейерверка ракета взорвалась.
Роберт поднялся. В глазах было темно от боли, но лицо Полетт оставалось светлым пятном. Он нагнулся и поцеловал ее на прощанье. Молча кивнул Анне, которая снова уселась на свой стул – с поджатыми губами и неожиданно лукавым выраженьем старческого сухонького лица. Старушка не думала о последствиях сказанного, она просто мстила ему за свою Полли.
Он вышел. Спускаясь по лестнице, думал, что потеряет сознание. У дверей толпа зевак тотчас обратила на него любопытные взоры, и Роберт стиснул зубы, чтобы пройти сквозь этот строй скучающих и равнодушных.
Он сел в машину, мечтая о беспамятстве. Боль была такая, какой он еще никогда не испытывал; она раздирала его от затылка до живота. Проглотив таблетки, он скорчился на заднем сиденье, стараясь не терять дыхания. Ему казалось, что он молчит; на самом же деле Пуци вздрагивал от его стонов, похожих на приглушенный крик. Но беспамятства не было. Пуци вывел его из машины, и тут же его подхватили чьи-то руки. Роберт видел над собою медленное колыхание темноты, затем белые каменные своды со старинным плафоном, простой потолок коридора с тенями от настенных светильников, наконец, знакомую люстру, которая вдруг зажглась и погасла над его головой. Но и это не было беспамятством – просто в спальне выключили верхний свет… Он корчился от боли, а врачи все совещались, пока боль не начала отступать сама собою. Она словно закончила свое дело и отошла, бросив его разорванное на части тело валяться здесь и постигать бессмысленное.
Роберт лежал, соображая, как собрать себя в единое целое, и, кажется, даже спросил об этом кого-то из врачей…
Гитлер навестил Лея, когда тот почувствовал себя лучше. Фюрер некоторое время как будто подыскивал слова, которые могли выразить охватившие его чувства.
– Это ужасно! – наконец произнес он. – Такая нелепость… Я понимаю, как вы удручены. Я пережил это сам. Четыре года назад одна дурочка… Об этом тяжело вспоминать. Хотя я ни в чем не был виноват, но… как же я тогда осуждал себя! Как ненавидел! Мой дорогой, вы не должны так к себе относиться. Вы взяли на себя слишком большую ответственность.
Последнюю фразу Роберт воспринял как напоминание.
– Мой фюрер, я передумал относительно отпуска и готов приступить к исполнению своих партийных обязанностей, – ответил он.
Взгляд фюрера сделался печальным.
– Ваша партийная обязанность сейчас – восстановление сил. Почему вы заговорили со мной таким казенным языком, Роберт?
– Я заговорил с вами языком, который необходим мне для восстановления сил. Прошу прощения, если это прозвучало грубо.
– Я понимаю. – Гитлер кивнул. – Хотя вы снова к себе чересчур безжалостны, я понимаю вас. Эта история оставила нам проблемы, которые нужно решать. Ваши взаимоотношения с Геббельсом… Только не подумайте, что я собираюсь его защищать! По-человечески я зол на него не менее вашего. Но что с ним делать, с этим Ахиллесом! Выгнать из партии? Отправить на перевоспитание в один из трудовых лагерей СА? Возможно, мы так и поступим. Как только придет в себя, я ему поставлю условие: или он добьется того, чтобы ваши отношения восстановились, или предложу сдать дела.
– А что с ним? – тихо спросил Роберт.
– Да совсем нервы сдали! Ревет как баба, ничего не слушает… А ему завтра на трех митингах выступать. Но даже если он к утру очухается, не знаю, как можно полагаться на человека, который позволяет подавлять свою волю женщине! Будь она хоть сама Елена Прекрасная. Однако вы быстро утомляетесь. – Он заметил в лице Лея мгновенный, мрачный проблеск-догадку. – Все. Отдыхайте.
Йозеф Геббельс был человеком, сотканным из противоречий, однако до Хелен он никогда не позволял страстям рвать себя на части. Еще в молодые годы, когда он метался по восьми университетам, когда проводил ночи в творческом экстазе, периодически разбивающемся о цинизм и тупость литературных критиков, и даже тогда, когда с головою бросился в политический хаос двадцатых, он продолжал искать нечто, что забрало бы его целиком и полностью, – продолжал искать женщину. И он нашел ее. Выбор был сделан за него его природой, инстинктами, и если бы Хелен согласилась, он был бы с нею далеко отсюда и, скорей всего, это был бы уже не он.
В тот тяжелый январский день 1931 года, когда все думали, что он глубоко страдает, он на самом деле испытывал гораздо более сложное чувство. Безусловно, смерть Полетт была потрясением. Эмоциональная память о ней заставляла его переживать физическую боль, но несравнимо более мощное чувство заглушало в нем муки совести. Оставаясь идеалистом, Йозеф не раз испытывал на себе силу случайных обстоятельств, и теперь ему казалось, что именно они, непререкаемые обстоятельства, вручили ему право на тело и душу Хелен. Кровь Полетт их соединила.
Как он ждал ее в тот день! Как предощущал прикосновение прохладной руки к своему пылающему лбу и быстрые, дразнящие поцелуи! Как ясно слышал ее голос, произносящий его имя! Он даже начал бредить наяву, перепугав заглянувшего к нему Штрайхера, который решил, что Геббельс спятил.
Не пришла. Штрайхер сказал, что она у себя и не выходила. Еще он сказал, что Лей был в доме Монтре и возвратился с очередным приступом и что Хелен просила его, Штрайхера, взглянуть, что с Робертом.
Именно Роберт Лей являлся фактическим разрушителем его счастья, но Йозеф никогда не питал к этому человеку злых чувств. Лей даже нравился ему. Там, где Йозефу приходилось хитрить, извиваясь змеей, «бульдог» брал напором, силой, бесцеремонностью, то есть попросту насаживал врага на охотничий нож, как кабана на охоте у Гессов, и всем это нравилось, все ему аплодировали. Особенно женщины… Женщины его обожали. До сих пор не нашлось ни одной, что предпочла бы ему какого-нибудь красавчика. История с Полетт – лишнее тому подтверждение. Но боже правый, что Йозефу за дело до всех женщин мира, если ему нужна только Хелен! Не пришла.
Он ждал всю ночь. Утром, осунувшийся, с больной головою и рыданиями, застрявшими в горле, он поплелся к фюреру, который звонил и просил зайти для разговора.
– Я думал, вы уже успокоились, – недовольно заметил Гитлер, оглядев его понурую фигуру и потухшие глаза. – Мне жаль, что все так вышло. Но сочувствия к вам у меня нет. То есть оно есть, но я предпочел бы его не иметь. Никто не должен сочувствовать человеку, позволяющему манипулировать собой. Я не знаю, как я смогу быть уверен в вашей лояльности, если имею подобный опыт. Что скажете?
– Я постараюсь, – пробормотал Йозеф.
– Переделать себя? Едва ли… Это еще никому не удавалось. Но вы, я вижу, плохо себя чувствуете. Отдохните сегодня. Вашу аудиторию возьмет на себя Штрайхер. Однако меня чрезвычайно беспокоят отношения между людьми, которых я в будущем вижу во главе великой нации. Вы понимаете меня? Я вернусь вечером, и, надеюсь, что-то переменится.
Геббельс ушел, добитый окончательно. Последние слова означали, что ему нужно идти к Лею и, как провинившемуся мальчику, просить у него прощенья. А что еще оставалось? «Бульдог» наверняка лязгает зубами при упоминании его имени. Ведь это он, Йозеф, во всем виноват. Это он убийца. И во всем доме нет человека, который просто посочувствовал бы ему! Он вспомнил о Магде. Что бы там ни было – прав он или виноват, она единственная всегда вставала на его сторону против целого мира.
Он вернулся к себе и позвонил ей в Берлин. Поговорив минут десять и выпив крепкого кофе, он собрался с духом достаточно, чтобы принять какое-то решение. И этим решением было поскорей… увидеть Хелен. Для последнего, окончательного разговора.
Он позвонил ей, робко спросив, нельзя ли…
– Сейчас приду! – был резкий ответ.
Она вошла, села и, сразу закурив, сделала движение рукой, чтоб он помалкивал.
– Я во всем призналась Роберту. Хотя это оказалось лишним – он догадался сам. Но он меня ни в чем не обвиняет. Ни меня, ни тебя. И чтобы в этом не было сомнений, он открыл мне некоторые обстоятельства… Ее младший мальчик – его сын. Это… многое объясняет. Он позволил мне сообщить тебе это, чтобы, так сказать, разделить вину… – Елена не то всхлипнула, не то засмеялась. – Но после того, что я наделала, я ему противна. Он… не смог этого скрыть. Или не захотел. Я тоже не хочу лгать тебе – я больше не могу тебя видеть. Не только тебя, вас всех Я ужасная дрянь и всегда это знала. Но теперь… Я как будто переступила какую-то грань… Мы с тобой оба несчастны, Поль, и оттого причиняем страдания другим. Я ждала, когда ты меня позовешь, чтобы попрощаться. Я уеду сегодня.








