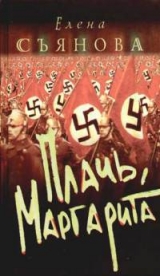
Текст книги "Плачь, Маргарита"
Автор книги: Елена Съянова
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Рудольф, продолжая жестко придерживаться «фараонизации» фюрера, мягко загнал своего шефа в такие тиски официоза, что тот потел, отдувался, а по ночам отводил душу – смотрел комедии, объедался пирожными или играл на полу с Бертой и Блонди, которую еще в Рейхольдсгрюне незаметно приручил Борман, и собака должна была теперь сделаться его собственностью.
Вообще, Гитлер пребывал в эти дни отнюдь не в лучшем расположении духа, хотя дела шли хорошо. Гели попросилась пожить пару дней у Гессов. Это случилось сразу после возвращения в Мюнхен, но прошел уже третий, и четвертый, и пятый день…
– Я нужна Эльзе, – уверяла она, – как ты не понимаешь? И потом, мы с Гретой занимаемся.
Все это было так… Но каждый вечер, когда он заходил за нею в квартиру Гессов и видел ее оживленное, энергично-лгущее лицо, у него сжималось в груди, и он шел к себе, один, смотрел глупые фильмы и звал собак. Она не могла не видеть, как ему тяжело; не мог не видеть этого и Рудольф. Но он каждый вечер уходил, а они оставались – все вместе – и, видимо, считали, что так оно и должно быть. Почему он до сих пор не проявил решительность? Он и сам не знал, но решение уже зрело в нем.
Гитлер твердо решил жениться. Он решил также, что объявит об этом 15 февраля, на дне рождения Лея, который, по понятным обстоятельствам, собирались отмечать в Мюнхене. Сам Роберт вот-вот должен был возвратиться из Кельна: у него там тяжело болели скарлатиной дети. Гитлер отнюдь не собирался делать из своего брака некий фурор; даже объявить о нем он пожелал как бы за компанию с Робертом, который, конечно, возвратится из Кельна уже разведенным холостяком. Но когда он высказал это предположение Ангелике, она только плечами передернула.
– Ты бы, конечно, так и поступил!
Он не понял. Четырнадцатого, когда Лей вернулся и фюрер шутливо поздравил соратника со свободою, стало ясно, что имела в виду мартышка. Оказалось, что Лей ни словом не обмолвился о разводе, щадя жену, удрученную состоянием детей. Что ж, если Роберту Лею спешить было некуда, то ему, Адольфу, следовало поторопиться.
– Вместо двух дней ты торчишь здесь две недели, – сказал он Ангелике четырнадцатого вечером. – Все, достаточно.
Она ничего не ответила, но уперлась в него взглядом, точно вытянутой рукой.
– Не дури. У меня к тебе серьезный разговор. – Он взял ее за рукав и притянул к себе. – Ну что с тобой?
Все тот же твердый взгляд ему в грудь и странная бледность.
– Гели…
– Какой разговор?
Все так же держа ее за рукав, он прошел с нею в гостиную, где Лей жаловался Эльзе и Маргарите на лечивших его детей докторов, и сказал, что забирает племянницу. Все трое восприняли это одинаково странно – три быстрых взгляда на Ангелику, опущенные глаза, натянутые улыбки…
«Прямо заговор какой-то, – удрученно вздохнул про себя Гитлер. – Как будто я собираюсь мешать ее занятиям».
В прихожей их догнала Эльза.
– Адольф, извини, на пару слов. Он прошел за нею в спальню.
– Очень прошу тебя, позволь Гели остаться у нас сегодня. Она нездорова. Ей не совсем удобно с тобою.
– Но, Эльза, дорогая, ты же знаешь, что я никогда не позволяю себе…
– Да, да, но ее настроение… Она сегодня проплакала всю ночь.
– Я думаю, дело в неопределенности положения, которая ее угнетает, – ответил он. – Именно это я и желал бы изменить. Хорошо, я ее отпущу сегодня. Но прежде все же скажу то, что должен сказать. Кстати, я намеревался сообщить и вам, но ты, возможно, уже догадалась…
Она молча глядела на него.
– Я говорил об этом Рудольфу еще осенью. Он отнюдь не пришел в восторг. С тех пор я много думал. Я понял, что хочу этого, что это, может быть, единственное, чего я по-настоящему хочу.
Он улыбнулся. Она тоже, машинально.
– Завтра мы все поздравим Роберта. После вы поздравите нас. А сейчас я все же заберу ее на полчаса. Потом отпущу к вам. Я надеюсь на твою поддержку, дорогая.
Ангелика еще ждала в прихожей. Она как будто даже удивилась, что все-таки вынуждена идти с ним. В своей комнате она сразу прошла к окну и встала спиной к проему. Адольф зажег свет, сел в кресло.
– Иди сюда.
– Я… мне… – начала она.
– Я только хочу, чтобы ты села рядом. Она не двигалась.
– Я тебя отпущу к Гессам. Успокойся. Но пойми, у них своя семья, скоро появится ребенок И у твоей подруги тоже будет семья. Кстати, ты заметила, что во многих удачных браках наблюдается некоторая странность, – продолжал он, – конечно, если глядеть со стороны. Согласись, Роберт и Маргарита не очень-то подходящая пара. А Йозеф и Магда? А Борман и Герда Бух? Но я убежден, что они всю жизнь проживут вместе и как раз не благодаря чему-то, а вопреки. Вообще, в этом мире если что-то и делается по-настоящему, то именно вопреки!
– Я с этим согласна, – вдруг заявила Ангелика.
– Тогда поди ко мне. Она подошла.
– Сядь. Вот так. И дай мне руку. Я хочу держать твою руку каждый вечер перед сном, хочу смотреть в твои глаза каждое утро. Хочу каждый день знать, что ты думаешь обо мне. Ты понимаешь? Я хочу, чтобы мы были вместе, хочу чтобы ты стала моей женой. В нашем браке тоже будет своя странность – родственная связь, но мы пойдем вопреки ей и будем счастливы.
Она молчала. Она опустила глаза и казалась совершенно спокойной, точно он предложил ей сходить в гости или прокатиться за город.
Во всяком случае, она, похоже, не удивилась, не обрадовалась, не рассердилась и вообще как будто не испытала никаких чувств. Просто сидела и ждала, когда он ее отпустит.
– Что же ты молчишь? – спросил он. – Ты выйдешь за меня?
– Я не знаю… Я подумаю.
Не закричала, не оттолкнула…
– Гели…
– Я подумаю. – Она вскочила, но он крепко держал ее руку.
– Гели…
Она стояла, глядя в его умоляющие глаза. Лицо ее то твердело, напрягалось, то размягчалось снова.
– Я… подумаю.
– Хорошо. Подумай, – произнес он с некоторым усилием. – Завтра объявим о помолвке самым близким. Ты ничего не хочешь мне сказать?
Она покачала головой.
Он выпустил ее руку, но она, как будто не заметив, продолжала стоять, чуть наклонившись к нему.
– Гели!
– Да? Нет, ничего. Она выпрямилась.
– Как ты себя чувствуешь? Эльза сказала, не очень хорошо?
– Да, я… можно мне…
– Иди, побудь с подругами. Я понимаю.
– Спокойной ночи, – попрощалась она, как некогда, в бытность примерной девочкой, присылаемой матерью перед сном к дяде в редкие приезды его домой в Линц или в Вену.
Когда Гесс около полуночи вернулся домой, его встретил один Лей, сказавший, что дамы уже спят, а ужин в столовой. Рудольф до того вымотался за день, что поначалу не обратил внимания на то, что Эльза его не встретила, а Роберт остался у них на ночь, хотя всегда говорил, что в чужом доме ему снятся кошмары. Рудольф поинтересовался, как дети, и пошел в столовую. Лей прошел за ним следом и сел на другом конце стола. Рудольф несколько раз вопросительно взглядывал на него, наконец спросил, не случилось ли чего.
– Прожуй сначала, – буркнул тот. – Фюрер хочет объявить завтра о помолвке с Ангеликой.
– Да? – Гесс покрутил в пальцах ножку бокала. – Пожалуй, стоит выпить за это?
– Я не буду. А ты пей.
– Чего ты мрачный такой?
– Голова болит.
– У меня тоже раскалывается. Вообще, этого следовало ожидать. Он еще осенью говорил. Что тут поделаешь? Он любит ее.
– Руд и, как ты думаешь, – осторожно начал Лей, – если она ему откажет, это будет очень тяжело?
– Не откажет.
– А если…
– Не откажет. Я знаю, что говорю.
– И все-таки ответь на мой вопрос. Гесс пожал плечами.
– Если ты сейчас откажешься от Маргариты, как ты думаешь, будет ей тяжело?
– Да черт тебя подери! – Лей болезненно поморщился. – Что за сравнение?
– Сравнение в том, что из двоих один всегда любит сильнее. А почему ты спрашиваешь?
– Ладно, ты мне ответил. Хотя я спросил о другом.
– Фюрер не Маргарита, конечно, а Маргарита не фюрер, – заметил Гесс. – Она, я думаю, пережила бы, а вот Адольфу еще одно разочарование ни к чему. Нужно его поберечь. Я завтра поговорю с ней, чтобы не дурила.
– Я уже с ней говорил.
– И что же?
– Молчала, слушала. Я сказал ей, что даже отказать можно по-разному.
– Вот это правильно. – Гесс зевнул. – Вообще, между нами, это черт знает что! Если б можно было его отговорить… Эти жены столько крови пьют.
– Бывают исключения – Эльза твоя, Магда, Карин…
– Да, бывают. Знаешь, а ты, пожалуй, прав. Я так устал сегодня, что туго соображаю.
– В чем я прав?
– Девчонка в самом деле может отказать. И главный вопрос – как! Если бережно…
Лей молча курил. Он понимал, что тонкий и деликатный Гесс завтра устыдится этого разговора.
Обычно дни рождения Лея в Кельне отмечались многолюдно и с пышностью. В прошлом году в этот день сорок раз прозвонил соборный колокол. Которой из поклонниц гауляйтера пришла в голову подобная идея, осталось неизвестным, но только Роберт вспоминал об этом с раздражением – было неловко перед старыми бойцами и ребятами из СА, которые, как ему показалось, начали глядеть на него не теми глазами.
Из всех наци лишь Герман Геринг был в этом плане универсал – мог примадонной блистать среди послов и принцев крови, а затем пить горькое пиво, плевать по углам и обниматься с работягами.
Роберт вчера сказал Эльзе, что никакого торжества не хочет: траур по Полине, недавнее нездоровье детей, собственное плохое самочувствие… Была и еще причина – оба знали о ней.
Вечером пятнадцатого собрались только близкие – Геринг, Геббельсы, Гиммлер, Борманы, Ганфштенгль, Хаусхоферы, Грегор Штрассер. Все они приехали без приглашения, которого им, за исключением Бормана, не требовалось. Борману Лей позвонил накануне по поводу рейнских должников (провинциальные партийцы терпеть не могли платить взносы в Фонд пособий, который возглавлял Борман), в заключение разговора добавил неожиданно для себя, что желал бы видеть их с Гердой на небольшом торжестве, и передал трубку Эльзе, сделавшей в качестве хозяйки дома официальное приглашение.
– Сколько церемоний! – забавлялся поневоле слышавший все это Гесс. – Ай да Мартин! Ну не молодец?
Лей на это не реагировал. Отшучиваться ему лень было, а сказать правду он не мог – пришлось бы сказать всю правду. Про себя он решил, что Борману лучше официально быть в курсе дела, потому что как шпион он опасен, но как тайный шпион опасен вдвойне.
Праздник получился своеобразный. После казенной толчеи Коричневого Дома всем хотелось покоя, теплоты, и уютный дом Гессов к этому располагал. И виновник торжества умел не только вносить нервозность, но и снимать ее, если хотел, конечно.
Все уже знали, какое сообщение намерен сделать фюрер. Отношение к нему было однозначное: ни один из соратников по борьбе не одобрил решения Гитлера жениться на собственной племяннице, да еще такой неспокойной и непредсказуемой, как Ангелика Раубаль.
Подобный брак, как ни верти, не добавлял популярности лидеру партии, и самым разумным было бы вообще его скрыть от наибольшего числа приближенных.
Объявление о помолвке Гитлера и Ангелики Раубаль состоялось около одиннадцати вечера, и поздравления были приняты. Адольф был возбужден, Гели – спокойна и задумчива. Глаза ее постоянно были опущены. Лишь на троих она поднимала их, не страшась выдать свои чувства, и трижды вставал в них немой вопрос: «Что же дальше?»
Эти трое, Эльза, Маргарита и Лей, хоть и в разной степени, но были ее союзниками; она верила им. Они сказали «нужно подождать», «нужно щадить Адольфа». Она ждала, щадила.
Вальтер был в Мюнхене. Они уже виделись, но она внушала себе: нас двое, а Адольф один; нас ждет счастье, а его – страдание, которое нужно облегчить. И она готова была слушаться своих союзников и дышать дальше. Она только не понимала, отчего эти трое как будто сторонятся друг друга – Лей и Эльза почти не разговаривали, и какая-то тень встала между Гретой и Робертом.
– Я начну с того, что верну немцам Рейн! Я клянусь вам, что добьюсь этого в первые же годы! Вы слышите, Роберт, я начну с Рейна!.. – Голос Адольфа в соседней гостиной от волнения взвивался до высоких нот. – Я обещаю вам этот подарок к сорокапятилетию!
Ангелика вышла вслед за Гретой в маленькую курительную и прикрыла дверь.
– Давай покурим. Вот хотя бы эти, – предложила она и взяла со столика начатую пачку американских сигарет.
– Я пробовала, мне не нравится.
– Что с тобой?
– Не знаю, – слабо улыбнулась Маргарита. – Странное какое-то чувство. Мне всегда так хотелось домой, в Германию. Я всегда торопила родителей, а сейчас… хочется уехать. Неуютно здесь иногда.
– Здесь – это в Мюнхене? Или вообще?
– Сама не пойму. В Рейхольдсгрюне сначала было хорошо, а потом… И во Франкфурте тоже сначала было хорошо, до того как… – Она все-таки попыталась закурить, но зажигалка так сильно вспыхнула, что она бросила ее. – Все эти разговоры, монологи… Мне все время кажется, что сейчас кто-нибудь непременно заговорит об аннексии, репарациях, о еврейском заговоре, о каком-то аншлюсе, о войне…
– Не кто-то, а мой дядя, – поправила Ангелика.
– Здесь же не площадь и не клуб… Как он не понимает? – Грета снова сделала попытку закурить, на этот раз удачную. Она только чуть-чуть вдохнула дым и тут же закашлялась.
– А я умею затягиваться, – похвасталась Ангелика. – Правда, Рудольф велел мне не курить. Не стану его сердить. Представляю, как он разозлился бы, если б узнал, почему я вообще начала это делать! – Она вдруг фыркнула.
– Почему? – улыбнулась Маргарита.
– Да потому же, почему и ты сейчас. Чтобы не слушать Адольфа.
Теперь фыркнули обе.
– Представляешь, сколько я за три года этих «репараций» с «аншлюсами» накушалась? Между прочим, не одни мы такие умные, вот увидишь, непременно еще кто-нибудь сбежит.
Третьим «умным» оказался Грегор Штрассер, который тоже почувствовал себя неуютно в обществе, столь близком ему совсем недавно, но теперь стремительно отдаляющемся.
Грегор знал Адольфа не хуже, чем Рем. Он понимал, что тот сознательно и планомерно оттесняет от него людей, которых – почти всех – он, Штрассер, привел в НСДАП. Бороться с этим значило бы раскалывать партию, в чем безусловно и энергично поддержали бы его многие старые бойцы, но не поддержал бы ни один из тех, кто слушал сейчас в гостиной монологи подвыпившего фюрера. К тому же Штрассер был горд. В свое время он мог удержать Геббельса, но не стал этого делать. Мог удержать и Гиммлера. Он мог гораздо сильнее влиять на Гесса, всегда прислушивавшегося к нему, на Геринга, который с ним считался, на Лея…
– Однако у нас тут перемены… – Штрассер широко улыбнулся. – Девушки выходят замуж и по этому поводу решили закурить.
– Нет, не по этому, – тоже улыбнулась Ангелика.
– Я только сегодня узнал, – продолжал он, забрав у Маргариты зажигалку, – что, оказывается, и Грета невеста! Чудеса.
– Вам что-то не нравится, Грегор? – пересев к нему поближе, лукаво спросила Маргарита, которая Штрассера знала давно и всегда чувствовала себя с ним свободней, чем с другими соратниками брата.
Почему не нравится? Я люблю вас обоих. И за Роберта я просто рад.
– А за меня?
– За тебя… Тут у меня более сложные чувства. Но я знаю, что ты можешь быть с ним очень счастлива. Только позволь дать тебе один совет. Роберт сам может дымить с утра до вечера, но тебя с сигаретой он не потерпит. И вообще, никакого равноправия. С таким мужем, как он, тебе придется забыть о многих завоеваниях эмансипации.
Штрассер говорил с веселой улыбкою, но Грета его поняла. Этот прямодушный и добрый человек как бы шутя сказал ей очень важную вещь, которую ей следовало принять сразу, если она желала брака с Робертом… А она его желала.
Когда, вернувшись из Кельна, он извинился перед ней за то, что не сумел поговорить с женой и развод откладывается, она, глядя в его усталые глаза, ощутила, что любит его еще сильней, еще безотчетнее, чем прежде…
Маргарита тотчас ушла из курительной. К тому же она чувствовала, что у Грегора и для Ангелики найдутся какие-то важные слова и что ей при этом присутствовать не обязательно.
Совсем уж глухой ночью, когда гости разъехались, девушки снова сошлись вместе в комнате Ангелики. Обеим не спалось. Грета знала, что Роберт уехал, несмотря на все уговоры остаться еще хотя бы на одну ночь. У него была в Мюнхене большая и удобная квартира, но в ней никого не было. И все-таки он уехал, объяснив Рудольфу, что у него болит голова и что он больше не желает всех обременять своими трудностями.
После того как скрылась в темноте его машина, Грета ощутила такую тоску и одиночество, что пошла к Ангелике, которая эту тоску переживала теперь постоянно и как никто могла ее понять.
– Я знаю, тебе сейчас хочется плакать, – сказала она. – Хочешь, давай вместе поревем?
Они улеглись на широкую постель и повернулись друг к другу.
– Знаешь, почему он уехал? – продолжала Ангелика. – Потому, что у вас еще самое начало. А потом, когда ему будет плохо, он станет приходить к тебе.
– Ты так говоришь, как будто десять лет замужем, – улыбнулась Маргарита.
– У меня есть опыт.
– Откуда он у тебя?
– Ну, есть, понимаешь? Мы с Адольфом два года вместе.
– Это не то.
– То. Почти.
– Разве… это бывает почти?
– Бывает. – Гели опустила глаза. Она вдруг поняла, что сознательно идет на это признание, умирает от стыда, но все же делает его.
Но Грета еще не понимала.
– Я говорю о браке, о любви. А ты о чем? «Остановись! Зачем это ей? Она чистая», – приказала себе Ангелика и продолжала:
– Я… тоже о любви. Пла… платонической.
Маргарита улыбнулась.
– Такой нет! У любви нет определений. Она, как Афродита, – без одежд.
– Значит, у вас ее тоже нет?
– Еще нет.
– Но ты же говоришь: люблю. Ты лжешь?
– Слово не ложь. Слово – знак любви, но не любовь. Люблю – значит позволяю.
Гели побледнела и почувствовала это. «Остановись, остановись», – колотилось сердце.
– Послушай, а как ты полагаешь… Например, предположим… Ты говоришь «люблю», и проходит год, два, но… ничего еще нет, нет любви…
– Значит, он не любит.
– А его «люблю» – тоже только знак.
– Конечно.
– Значит, если вы оба говорите друг другу «позволяю», и ты делаешь все, а он… не до конца, то он… не любит?
– Или не любит, или…
– Что?
– Не знаю… Я что-то читала об этом. Бывают такие люди. Такой тип… или очень сильные, или совсем слабые. Они не совсем нормальны, то есть с головой у них как у всех, а с психикой – не вполне. Они могут быть, например, мазохистами.
– А что это?
– Самоистязателями. Боль их возбуждает. Чем сильнее боль, тем сильнее возбуждение. Оно может дойти и до… ну, ты меня понимаешь.
– Они больные?
– По-моему, да. Хотя это не так, наверное. Просто у них любовь направлена на них самих.
– А ненависть?
– А ненависть у них – форма любви, наверное. Нет, я не умею объяснить. Нужно почитать труды психиатров. Я этим никогда специально не занималась. Мне все кажется таким естественным.
– Тогда почему же ты… – Ангелика прикусила язык.
– Почему я не с ним? – спокойно спросила Маргарита. – Потому что он ханжа. Как и все наше общество. Считает, что должен соблюсти формальности. Поиграть в эту игру. И я тоже в нее играю.
– А сколько в нее, по-твоему, играют, если не мазохисты, а нормальные?
– Я долго играть не стану. Не хочу! Знаешь, я год назад едва замуж не вышла, – продолжала она. – Он любил меня. Кажется, до сих пор любит. Но мне этого оказалось мало. Я его мучила.
Наверное, теперь буду наказана. Но я ничего не боюсь! Просто я чувствую, что Роберту сейчас хочется побыть одному. Он мне сказал, что если бы не Брандт, то едва ли его дочь осталась бы жива. У него очень красивые мальчики. А дочка на него похожа.
Маргарита вдруг весело рассмеялась. Из-под слегка затрясшейся кровати неожиданно выползла сонная Блонди, уселась и положила голову на покрывало.
– Ты откуда? – удивилась Маргарита.
– Я знаю – ее Борман подослал, – сказала Ангелика, – шпионить за нами. – Она взяла голову овчарки и поцеловала ее между глаз.
– Он ее завтра заберет, – вспомнила Маргарита.
– Жаль. Я бы ему не отдала.
– Почему? Она его больше всех любит. Ты видела, как сегодня кинулась, едва он вошел, и весь вечер не отходила? А твой дядя смотрел с такой завистью! Он мне сказал, что внучку Берты непременно возьмет себе.
– Можно тебя спросить?.. – Ангелика продолжала гладить собаку, которая, встав на задние лапы, наполовину улеглась на кровать. – Что ты думаешь о нем?
Маргарита поняла.
– Об Адольфе? Руди говорит, он гений. Наверное, так и есть.
– Гений – это что-то аб… абстрактное… – Ангелика еще только осваивала подобные слова. – Но что ты думаешь о нем? Какой он человек? Нормальный?
– Гении не бывают нормальными. Талант – уже отклонение.
– Ну все-таки, какой он? Как тебе кажется?
– Он разный. Как все.
– Ты сама только что сказала, что он не как все. Не хочешь мне ответить?
– Гели, я же совсем его не знаю. Почему-то так получилось, что когда мы приезжали на родину, я больше общалась с другими – Эрнстом Ремом, Пуци, Грегором Штрассером. Но я знаю, как относится к нему Рудольф.
– Я тоже знаю. Это другое.
– Почему?
– Он мужчина.
– А ты когда-нибудь задавала свой вопрос Эльзе?
– Зачем спрашивать? Я и так вижу. Она уважает его. Иногда жалеет. Всегда защищает от меня. Но Эльза – половинка Рудольфа.
– Да, ты права. – Маргарита минутку подумала. – Хорошо, я отвечу тебе. Попробую. У тебя бывало так, что ты читаешь роман и сочувствуешь отрицательному герою? Рядом положительный, которого все уважают, восхищаются им, ты же читаешь о нем просто чтобы следить за сюжетом. Вот твой дядя всегда и был для меня таким положительным. Я о нем мало думала Поэтому мало знаю.
– Ты всегда влюбляешься в отрицательных?
– В романах – не всегда.
– А Роберт какой? Грета улыбнулась.
– Сверхотрицательный! Обе засмеялись.
– Тогда понятно. А Вальтер?
– Вспомни, как он назвался графом Шуленбургом и как предлагал украсть тебя! Конечно, отрицательный.
– Но не сверх?
– Ну нет, до Роберта ему далеко.
Обе опять засмеялись, а Блонди, незаметно подтянув задние лапы, уютно улеглась рядышком. Гели обняла ее и снова принялась целовать.
– Не нужно. Она и так чересчур избалована. Едва ли новые хозяева станут ей это позволять. Ступай, Блонди! Место! – приказала Маргарита. Овчарка нехотя слезла, ушла к двери и легла там.
– А я бы ей все позволяла, – вздохнула Ангелика. – Думаешь, она будет счастлива с Борманом?
– Собакам нужно, чтобы их кормили и позволяли себя любить – вот и все их счастье.
– Ты думаешь, у нас с тобой оно другое? Мне ведь нужно то же самое.
– Наверное, и мне, – усмехнулась Маргарита. – Только еще мне хотелось бы, чтобы люди вокруг чаще улыбались. Мрачно в Германии.
На другой день, около трех, Гессу позвонил Рем.
– К тебе направляются Штеннес и Дельюге. Они только что были у меня. Я им посоветовал поговорить с тобой, с Геббельсом, с Леем, если он еще жив у вас. А к Адольфу не соваться. Ничего кроме брани и вытаращенных глаз не получат.
– А от меня они что надеются получить? – спросил Рудольф.
– Убедительные ответы, разумные доводы. Я бы поступил так – сначала провел бы с ними философскую дискуссию, потом напустил бы Геббельса, а после передал Лею, чтоб он с ними выпил.
– Я понял тебя, – кратко отвечал Гесс. Он не стал говорить Рему, что эта испытанная технология обработки сомневающихся товарищей едва ли даст результат. Что-то переменилось после Франкфурта – Рудольф это ощущал. И собственный его «научный пыл» поугас, и Геббельс открывает рот не чаще Гиммлера, а уж о том, что бродит в трезвой голове Лея, вообще думать не хотелось.
Вальтер Штеннес, беспокойный шеф северо-восточных СА, и Курт Дельюге, руководитель СА «Восток», вдохновленные франкфуртскими событиями, похоже, всерьез готовились к «весеннему наступлению на легалыщину, пожирающую боевой дух партии».
С Гитлером они и сами беседовать не собирались, предвидя его реакцию, но от Гесса надеялись получить объяснения, ведь франкфуртская авантюра (а то, что это была авантюра, в душе знал каждый) явилась именно тем, к чему они призывали и что противоречило последним установкам партии о лояльности властям.
– Молодежь взбодрили, жидам прищемили хвост, заявления в партию сыплются, как сухой горох… Отлично! – говорил Штеннес, расхаживая по кабинету Рудольфа. – Но при этом, ты только полюбуйся, этот бранденбургский ханжа официально призывает аристократов-патриотов вступать в НСДАП!
«Бранденбургский ханжа» принц Ойленбург-Хертефельд только что опубликовал циркуляр, призывающий людей его класса, обладающих твердой волей и качествами лидера, вступать в партию, которая, несмотря на некоторые социалистические идеи, представляет собой полную противоположность марксизму и большевизму.
– Ты только вдумайся, – совал Штеннес Гессу «Берлинер цайтунг», – «некоторые социалистические идеи»! И это о партии, которая называет себя социалистической! Вот до чего мы докатились! А все эти пожертвования банкиров! Все эти балы у Тиссена и Шредера! – не унимался он. – Ты что, не чувствуешь, что мы становимся марионетками?
– Интересно, чем бы ты стал платить своим штурмовикам, – заметил Гесс, – если бы не балы и не пожертвования.
– Если бы не эта подлая игра, к нам пошли бы рабочие. Они стали бы содержать боевую гвардию СА! Они!
– Рудольф, ответь прямо на прямой вопрос, – обратился к Гессу Курт Дельюге. – Если партия окончательно встанет перед выбором: фюрер-принцип или социализм, – на чьей стороне окажешься ты?
Штеннес фыркнул.
– Нашел вопрос – «фюрер или социализм?». Даже если ты спросишь – фюрер или мать родная, ответ будет тот же. Так ведь, Рудольф?
– Я стою и всегда буду стоять на стороне фюрера, – отвечал Рудольф и продолжал: – Партия, изначально построенная на фюрер-принципе, подобно зданию, не может выбирать между собственным фундаментом и тем или иным фасадом. Фасад можно перестраивать хоть десять раз, а фундамент у здания один.
– Вот! Ты слышал? Социализм – это фасад! – бросил Штеннес Дельюге. – Зато Адольф – фундамент! О чем еще говорить?
В этот момент в полуприкрытую дверь ворвалась взволнованная Берта, за нею – Блонди, обе закружились вокруг Рудольфа, тихо повизгивая, – за Блонди приехал Борман, и Берта привела дочь к хозяину прощаться.
Эмоциональный Штеннес тотчас принялся ласкать собак; осенью он тоже взял одного из щенков Берты, назвав его Барбароссой – не то в честь заромантизированного в СА рыжебородого императора, не то в насмешку над ним.
Блонди, счастливая, вилась у ног нового хозяина, который поздоровался с соратниками и, казалось, не проявил ни малейшего интереса к визиту бунтаря Штеннеса.
– Ты же здравомыслящий человек, – продолжал тот после ухода Бормана, снова наседая на Рудольфа, – ты не можешь не понимать, что обман рано или поздно раскроется! И вообще, если не социализм, то что тогда, черт подери, собираетесь вы строить в Германии?
– Национальный социализм! Вот что! Вот почему немец Тиссен и немец Шредер имеют такое же право на вклад в наше дело, как и любой из пролетариев. А вот этого ты никак не желаешь понять!
– В свое время Отто уже ответил на твою демагогию, – махнул рукой Штеннес. – Не стоит повторяться. После Франкфурта я начал надеяться на перемены, но вижу…
В кабинете раздался телефонный звонок Звонил Гитлер с предложением позавтракать где-нибудь вместе. Рудольф сказал, что скоро освободится и можно будет ехать. Штеннес сразу догадался, с кем он говорит, и бросил на Дельюге иронический взгляд.
– Одним словом, на предстоящей партконференции вы все снова станете подпевать Адольфу, – заключил он, поднимаясь. – Ладно. На прощанье не мог бы ты прояснить для меня один момент?
Гесс кивнул.
– На кого все-таки работает этот шустрый Борман – на тебя или на Адольфа?
– Думаю, на фюрера, – усмехнулся Гесс.
– И ты не опасаешься иметь при себе такую «тень»?
– Представь, нет.
После их ухода Гесс сделал окончательный вывод – партконференции пора отменить. Вместо того чтоб выпускать пар, они теперь дают новый импульс к брожению в партийных рядах, а главное, поддерживают в иных головах иллюзию того, что НСДАП еще можно сделать похожей на десяток других германских партий, облизывающихся на власть. Никогда они этой власти не добьются.
Он позвонил Адольфу и предложил ему отправиться с дамами в их любимое кафе «Хека», пока сам он заедет за Робертом. Он был уверен, что Адольфу сейчас приятно будет провести часок в сугубо дамском обществе. К тому же визит Штеннеса и Дельюге оставил у него тревожный осадок. Интуиция подсказывала – «весеннее наступление» уже началось. Рудольф подумал, что следует посоветоваться с Пуци, Леем и Геббельсом, прежде чем докладывать о встрече Адольфу, который и без того ждал этой весною от СА «большой пакости».
Поднимаясь на второй этаж, где находилась мюнхенская квартира Лея, Рудольф с удовольствием поглядел в боковое окно, из которого хорошо был виден Коричневый Дом, весь украшенный флагами, табличками и эмблемами. КД до сих пор имел праздничный вид именинника, и Гессу это нравилось. Если женщина надевает драгоценности, чтобы продемонстрировать свое положение в обществе, почему бы их штаб-квартире не использовать тот же прием?
В квартире Лея стояла тишина. К Гессу вышел только его секретарь, приехавший со своим шефом из Кельна. Он сказал, что шеф у себя, спит и велел всем отвечать, что его нет, но если приедет или позвонит кто-нибудь из своих, то разбудить немедленно.
Рудольф, пока шел к спальне, не обнаружил нигде ни одной бутылки. В спальне тоже не было ничего подозрительного, только минеральная вода, лимоны, холодный кофе и сигареты.
Роберт лежал в постели, курил и читал какие-то письма. Чувствовалось, что он наслаждается одиночеством, однако при виде Гесса улыбнулся приветливо.
– Хорошо, что ты зашел, а то я провалялся бы до завтра. Устал за эти дни.
– Пуци как-то сказал, что ты ненормальный отец, – улыбнулся Рудольф, – и стоит твоему ребенку чихнуть, как ты уже несешься через всю Германию, чтобы прибить врачей, которые…
– Во-первых, мои дети чихают постоянно, а несопливыми я их вообще не видел, но это пройдет, – серьезно отвечал Лей. – А во-вторых, едва сам сделаешься папашей, поймешь, что это такое, когда от ужаса теряешь голову, потому что беспомощней ребенка никого нет, а эти болваны как были невеждами триста лет назад, так ими и остались. Если бы не Брандт… – Он несколько раз нервно затянулся. – Ладно, не стоит об этом. Ты по делу или так?
– Адольф с дамами поехал обедать. Ждут нас. Но если тебе не хочется…
Лей бросил сигарету.
– Сейчас оденусь. Больше ничего?
– Есть один разговор… У меня сегодня были Штеннес и Дельюге. Упреки все те же, но решимость растет. Не нравится мне это.
– Плоды назначения Рема. Весной будем собирать урожай.
– Я говорил об этом фюреру еще осенью.
– Как всегда, наедине? Почему ты не высказался открыто? Мы с Герингом поддержали бы тебя. У меня уже осенью было кое-что против Штеннеса, – продолжал Лей. – Но меня никто не спрашивал.








