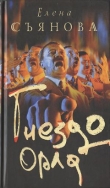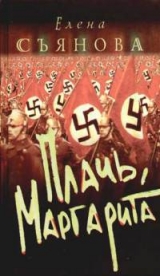
Текст книги "Плачь, Маргарита"
Автор книги: Елена Съянова
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Лей, молчаливый и мрачный, почти не поддерживал разговора, пока Штрайхер не сказал, что ему все же придется стряхнуть меланхолию, поскольку только что прибыл приятный сюрприз.
Приятным сюрпризом оказался старший сын Роберта, которого мать прислала со своим родственником во Франкфурт. Десятилетний мальчик, напуганный газетной шумихой о тяжелом состоянии отца, которую от него не сумели скрыть, никому не желал верить и постоянно плакал от страха, доводя этим до отчаянья мать. Фрау Лей несколько раз звонила мужу, но поговорить с ним ей все не удавалось, поэтому, опасаясь за психическое состояние ребенка, она решилась на этот шаг.
Увидев улыбающегося отца, мальчик снова расплакался, но это были уже другие слезы. Таким образом, остаток дня Лей провел с сыном; они гуляли, разговаривали – это было то, что нужно. Но оставить ребенка во Франкфурте Роберт не счел возможным. Он понимал, что его сын уже получил урок лжи, так сказать – на официальном уровне, и прибавить к нему еще и свежие впечатления от расползающейся по городу истерии не захотел. Сегодня состоялись похороны погибших, и город гудел слухами.
Поздно вечером, посадив сына на поезд в сопровождении того же родственника жены и охраны СС, любезно предложенной Гиммлером, он долго потом бродил по мокрому перрону, всматриваясь в огоньки уходящих и прибывающих поездов. Трудно сказать, о чем он думал. Может быть, о том, что ему следовало сесть на тот же поезд, что увозил его сына, и вернуться вместе с ним в прежнюю жизнь, от которой он так решительно отказался. А может быть, он вспомнил сейчас глупую язвительность, которую позволил себе в недавнем разговоре с Гессом, подталкивая его к уже невозможному ни для кого из них. Кажется, он крикнул тогда Рудольфу что-то вроде: катись в свою науку или держи свою совесть в кулаке…
Прогуливаясь по перрону, Роберт так промок, что решил прежде вернуться к Кренцу и переодеться, а затем добраться наконец до Полетт, поскольку эта проблема все еще висела на нем. Зайдя к адвокату, он уточнил у него, не переменилось ли что за прошедшее время.
Полетт отказалась разговаривать с Кренцем, и тот попросил заняться ею Геббельса, в надежде, что знакомый скорее поладит с нею.
Геббельс был более чем знаком с Полетт – Лей знал об этом. «Может, поладит, – подумал он. – Заодно и Елену поставит на место».
И Лей, еще не вполне стряхнувший с себя меланхолию, никуда больше не поехал, а улегся в теплую постель, попросив принести себе кофе, сигареты и «Собор Парижской богоматери» Гюго – замечательную книгу с красивыми, породистыми страстями, так не похожими на донимавшую его суету сует. Роман нашли только на французском, но он свободно читал на этом языке и порою с наслаждением мысленно проговаривал изящные фразы, вслушиваясь в их мелодический ритм. Нервы постепенно успокаивались, и это было кстати, потому что страстишки, как известно, бушуют не только в романах, но нелепо позволять мелкой ряби житейских неурядиц собираться в цунами…
Йозеф Геббельс выполнил просьбу Кренца и поговорил с Полетт Монтре. Полина все это время находилась в нервном возбуждении, однако не вредить Роберту она, естественно, обещала. Возвратившись после разговора с нею, Йозеф, точно стрекоза булавкой, был проткнут презрением Елены. Убивать Полетт она, понятно, передумала, однако что-то в ее бешеном сердце уже сдвинулось и необратимо катилось вперед.
– Ты был у этой французской суки, – спросила она у Геббельса, – у этой шпионки? А тебе известно, что эта жидовка участвовала в заговоре и покушении на Роберта?
Йозеф чуть не рассмеялся. Вот это выдала!
– Что, не нравится товар? – поинтересовалась она. – Я могу продать его Штрайхеру.
– Какая же она жидовка? – попытался урезонить ее Геббельс. – Что ты говоришь? Зачем тебе это?
– Затем! – отрезала она.
Он понимал, что сам виноват; ведь он сам возбудил в ней ревность, бросив в запале слова, в которые она поверила. А вот его она так не ревновала! Из-за него она никогда не бесилась так, чтобы забыть о здравом смысле.
– Послушай, – начал опять Йозеф. – Объясни хотя бы, чего ты добиваешься. Ты сделаешь ей гадость, даже сотрешь в порошок… Но что тебе это даст?
– Я хочу, чтобы гадина получила по заслугам! Геббельс схватился за голову.
– Ну хорошо! Ее повесят, распнут! Но ты на что рассчитываешь? Что он тебя поблагодарит за помощь следствию? Да он сам тебя в порошок сотрет за такие штучки!
Хелен странно улыбнулась. Это, должно быть, значило – пусть сотрет. Лишь бы не отворачивался равнодушно и не глядел мимо, как все последние годы… Лишь бы вспомнил свою Ленхен, ее губы, ее волосы, белую нежную кожу, всегда пахнущую жасмином…
– Он не вернется к тебе, – упрямо и зло произнес Геббельс.
«А если вернется? – отвечала ее улыбка. – Лишь бы никто не мешал».
Эта улыбка погружала его в ад. Он чувствовал, как сердце корчится от боли. У него оставался последний аргумент, тот единственный, который убил бы в ней надежду. Он ведь понимал, отчего она вдруг воспрянула – Роберт последнее время почти не пил. Правда, это стоило ему срыва, но ей-то что до того! Он не пил, а она давно втемяшила себе в голову, что трезвого она его непременно заполучит – просто потому, что она – это она, самая умная, изысканная и блистательная. Бедняжка не знала, почему он не пьет все эти дни, почему, напрягая волю, удерживает себя на самом краю.
Поразительно, но всезнающая Хелен до сих пор не ведала того, о чем знали все в этом доме. Она даже не догадывалась о роли юной Маргариты Гесс.
– Или ты все сделаешь сам, или я обращусь к Штрайхеру, – сказала она уже совсем спокойно, стоя к нему спиной и поправляя волосы у зеркала. – Мне известны факты. Я готова давать показания и свидетельствовать под присягой. Итак?
Она резко повернулась, обдав его прелестью светящегося страстью лица – яркой, мощной волной.
– Я п-подумаю, – пробормотал Геббельс.
– Недолго. До завтрашнего утра.
А дождь между тем кончился, и ночь была звездной. Когда в спальне девушек, в правом тихом крыле дома, раздался звонок, обе вздрогнули и переглянулись Они сразу почувствовали, что это тот самый звонок Грета прикусила губу и не двигалась; Гели взяла трубку. Послушав, молча протянула ее Маргарите.
Произнеся в ответ «нет», «да», «да», Грета вдруг вскочила и начала стремительно одеваться. Она так спешила, что без конца роняла что-то, и Гели, счастливая, подавала ей то шарфик, то перчатки, то заколку для волос, которые рассыпались у нее из-под серой меховой шляпки. Едва Грета убежала, Гели кинулась к окнам, но в этой части парка почти не было прожекторов, и она ничего не увидела.
Роберт ждал Маргариту у самого крыльца и тотчас протянул ей руку, чтобы она не упала, стремительно выскочив в полную темноту. Она только на мгновенье оперлась на его руку и тут же отдернула свою. Он хотел извиниться, начать объяснять ей что-то, но не стал. Все могло измениться за эти дни, хотя… Нет, не похоже.
– Что вы делали сегодня? – спросил он, чтобы как-то нарушить молчание.
– Ничего. Так… читала. А вы?
– Я сегодня был с сыном. Его привозили ненадолго.
– Я вас видела с ним в парке. У вас очень красивый мальчик.
– Да, к счастью, совсем на меня не похож.
– Станет похож, когда вырастет.
– Не дай бог!
– Не обязательно внешне, но чем-нибудь – непременно.
– Думаю, я уже отдал ему все, что у меня было хорошего, – музыкальный слух и упрямство. Пойдемте куда-нибудь. Хотите в театр?
– Ночью?
– Во Франкфурте всегда было два ночных театра, именно театра, а не варьете. Это довольно любопытно, если, конечно, они еще живы.
– Вы любите театр?
– Иногда, под настроение.
– Тогда идемте, – кивнула Маргарита. – Только я не одета.
– Там это не важно. Это не Гранд-Опера. Там все смотрят на сцену.
Когда они уже садились в машину, выехавшую на боковую аллею, Роберт случайно взглянул на три светящихся в правом крыле окна и прищурился: в одном из них уныло маячила тоненькая женская фигурка.
– А может быть… – начал он.
– Конечно! – воскликнула Маргарита.
– Тогда посидите в машине. Я за ней схожу.
Видимо, не стоило этого делать… Роберт подумал об этом, уже поднимаясь по лестнице. Грета могла обидеться… Продолжительная трезвость явно не шла ему на пользу.
Через несколько минут он возвратился к машине, ведя под руку смущенную Ангелику. Она бесшумно скользнула на заднее сиденье и забилась в уголок.
Лей хорошо знал город и, сделав с десяток крутых зигзагов по франкфуртским улицам, вырулил на площадь муниципалитета, где их нагнала охрана СС, а затем, свернув к набережной, метров пятьсот гнал машину прямо через городской парк, порой маневрируя между стволов, и наконец резко затормозил у длинного одноэтажного здания, выходящего фасадом на пруд.
– Год назад вот в этом сарае работал Йеснер. В феврале ему пришлось уйти из Берлинской драмы, – пояснил он. – Впрочем, это долгая история. Я сейчас узнаю, что там, и вернусь.
– Кто такой Йеснер? – тихонько спросила Ангелика.
– Леопольд Йеснер? Режиссер, наша гордость! Меня родители в детстве всегда водили на его спектакли. Я помню… «Ричард III». Представляешь, сначала чернота – неизвестность; потом красное – уже пролитая кровь, и, наконец, белый занавес, как очищение. Это нужно было видеть! А в «Гамлете» у него Клавдий походил на канцлера, а Гамлет – ты не поверишь – современный парень! Почему он ушел из Берлинской драмы?
Ангелику больше интересовало, кто такой Гамлет, но она постеснялась спросить и вместо этого почти шепнула:
– Ты на меня не сердишься?
– Сержусь. Как можно жить дома, в Германии, и не знать Леопольда Йеснера?
Гели хотела сказать: «Хорошо тебе! А меня мать если куда и водила в детстве, так только в кирху на соседней улице!» Но промолчала.
– А тебе какие нравятся спектакли? – спросила она. – Где все, как в жизни, или где все такое… ненастоящее?
– Знаешь, экспрессионизм я с трудом воспринимаю. Сейчас в моде сюрреализм, а это еще труднее понять. Эстетика должна быть логична.
– Это почему же? Потому что в подсознании у нас неэстетичный хаос, которому на сцене делать нечего? – спросил возвратившийся Лей, захлопывая дверцу.
– А вы не согласны?
– У нас в умах сюр – куда же от него денешься?
– Но можно писать как Брукнер. Или как Брехт!
– Брехт… – Лей поморщился. – «Трехгрошовая опера», конечно, изящный и эстетичный реализм, но… По-моему, у подсознанья больше прав в искусстве, чем вам кажется. А реализм – всегда политика. И всегда плагиат.
– Брехт не плагиатор! – возмутилась Маргарита. – Это у Джона Гея не характеры, а тени!
«Как будто не по-немецки говорят, – огорчалась, идя за ними, Ангелика. – Ничего не понимаю».
Войдя в здание, вокруг которого царила тишина, они неожиданно обнаружили, что там полно народу. В фойе без кресел и стульев сотни три молодых людей, собравшись группками или блуждая поодиночке, курили, переговаривались; кое-где – жарко спорили.
Все они были в основном очень молоды, ровесники девушек скромно одетые, с приятными лицами, на которых не было ни скуки, ни оголтелости.
– Что здесь сегодня? – спросил Лей у одного из ребят в длинном, до колен, шарфе, трижды обмотанном вокруг шеи.
– Университетский театр, – вежливо ответил тот.
– А пьеса?
– «Человек-масса» Эрнста Толлера.
– Останемся? – спросил Роберт девушек.
– Конечно! – воскликнули обе.
– А почему вокруг так тихо? Это что, запрещенный спектакль? – поинтересовалась Маргарита.
Лей пожал плечами.
– Пьеса не запрещенная, но если пронюхают нацисты, будет скандал, – отвечал за него парень в шарфе. – Никому неохота связываться с этими тупоголовыми.
– Уже были эксцессы? – спросил Лей.
– Эксцессы – это мягко сказано. Мордобой.
– То есть появлялись парни в форме и начинали избивать актеров и зрителей?
– Нет, не так, – усмехнулся парень. – Вы, наверное, наших нацистов в деле не видели. У них другая тактика. Они хитрее. Достаточно появиться одному-двум в зале, и будет драка.
– Как же могут один или двое драться со всеми? – удивилась Маргарита.
– Вот как раз они-то драться и не будут. Они других стравят.
– Тупоголовые стравят умных? – уточнил Лей.
– В том-то и парадокс! – щелкнул пальцами парень. – Я сам этого понять не могу. Они же все кретины, знают одно – бей жидов и красных! И сами никогда в спор не вступают – у них на это мозгов нет.
– Так что же они делают?
– Бросают реплики. Вроде искр. Причем набор один и тот же, но кем-то умно составленный.
В зале ведь всегда есть не согласные друг с другом, так сказать, на социальном уровне.
– Например, студент и рабочий? – снова уточнил Лей.
– Ну да. Или два студента – один голодный, другой – из богатеньких.
– Как же можно, поняв теорию провокации, поддаваться ей на практике?
– Второй парадокс, – согласился парень. – А знаете, – он вдруг кивнул в сторону выхода, – вон те четверо в костюмчиках с иголочки – очень подозрительные.
Он указал глазами на охранников из СС, догнавших Лея и девушек.
– Как вы распознаёте нацистов? Не по костюмчикам же? – уже не скрывая улыбки, спросил Лей.
– Сам не знаю, – тоже улыбнулся парень. – Я их чувствую.
– Да зачем им нужно, чтобы в этом зале все передрались? – не выдержала Маргарита.
– Тренируются, наверное, – ответил парень, пропуская их с Ангеликой вперед; зрители начали заходить в зал.
Едва началась пьеса, Лею сделалось скучно и досадно. Гели и Грета, напротив, кажется, целиком обратились в зрение и слух.
«Это ж нужно было попасть на такое!» – думал Роберт, наблюдая, как героиня внушает герою, что он имеет право жертвовать только собою, и как герой возражает ей, что жертвы оправданны, если затем наступят покой и мир для всех.
Героиня, ожидая казни, отказывается бежать из тюрьмы, поскольку для этого ей нужно переступить через жертву – жизнь глупого сторожа. Она гибнет, оставляя толпу без своего руководства.
«Полный идиотизм», – едва не сказал вслух Роберт, когда зрители стоя аплодировали.
Впрочем, одного он не стал бы отрицать – актеры играли превосходно.
«Кажется, в молодости я тоже умел радоваться форме, забывая про суть, – размышлял он, рассматривая восторженный зал. – Или… я этому так и не научился?» Он улыбнулся обернувшейся к нему Маргарите, у которой пылали щеки. Ангелика же была не просто взволнована: все время, пока шло действие, она видела на сцене… себя. Это было странное ощущение – она как будто раздвоилась: одна ее половина страдала и мучилась; другая, бессильная, переживала за нее. Эта другая стремилась помочь первой, но не знала как. Если б сумела, то случилось бы чудо и все остались живы. Гели пока не представляла себе, как расскажет об этом Эльзе – напишет ли в письме или признается при встрече с обожаемой подругой, – но она непременно расскажет, ведь она почувствовала себя актрисой… она сегодня это поняла…
– Ваши прогнозы не оправдались, – сказал Роберт парню в шарфе, который тот почему-то снял как раз перед выходом на улицу.
– Да, – смутился парень. Он уже несколько раз осторожно, но с откровенным восхищением посматривал на Ангелику и теперь очутился рядом и шел за нею, кажется, уже забыв и о спектакле, и обо всем остальном.
У Роберта опять побаливало сердце. Чуткая Грета, что-то заметив, присела на скамеечку, окруженную низенькими подстриженными кустами, и он тоже с облегчением сел рядом с ней, с удовольствием вдохнул прохладный воздух. Ангелика, сделав вид, что рассматривает здание, отошла в сторону, и парень тотчас обозначился рядом. По-видимому, она что-то спросила, он отвечал… Через минуту они уже разговорились. Чувствовалось, что он сильно робеет от ее красоты, роскошной шубки и изящной нездешности, которой от нес веяло. Одно было ясно как день – бедняга совершенно ею околдован. На вид ему было лет двадцать пять, продолговатое породистое лицо, нос с горбинкой, целая грива темно-русых волос…
Минут через десять Лей позвал Ангелику, чтобы ехать назад. Она подошла к машине; парень следовал за нею, однако, не доходя, остановился.
– Садитесь, мы вас подвезем, – предложил Роберт.
Парень сел на заднее сиденье, рядом с Ангеликой.
– Извините, я не представился, – сказал он, все сильнее смущаясь. – Меня зовут Вальтер. Вальтер Гейм. Я художник.
– В каком жанре? – поинтересовался Лей.
– Вообще-то – в разных. И рекламой занимаюсь немного.
– В каком стиле? Сюр, рац, экс, нео?
– Нет, я реалист.
– По дороге сюда у нас зашел спор об иррациональном в искусстве, – сказал Лей, выруливая на освещенную дорожку. – Правда, мы говорили о театре.
Он покосился на Маргариту.
– Мне кажется, все увиденное следует непременно осмыслить, – начала она. – И реализм – лучший из методов…
– …постижения гармонии, – заметил Лей. – А если мир – хаос? Если он комплекс парадоксов и алогизмов?
– Если мы примем это за данность, что, по-моему, не так, – и тогда не лучше ли работать простыми и понятными инструментами?
– Работать – с чем? С разумом – может быть! Но есть еще инстинкты, темная сторона сознания, от которой чистюли реалисты предпочитают отворачиваться. Или делаются циниками, как Дикс или Грос. У них те же инстинкты, но выписанные простыми инструментами с отвратительным реализмом. Иррациональные течения предлагают более адекватную форму.
– Вы не учитываете одну вещь, – сказал художник. – Мы живем в перманентной революции, а иррационализм – что-то вроде камуфляжа, но непонятно, по какую сторону баррикад…
– Вот-вот, так прямо и говорите, – кивнул Лей, – что хотите сделать художественный метод не орудием познания, а оружием борьбы. Кстати, где вы живете?
– На Кайзерплац. Да, нет, я, например, совсем не борец. Просто не люблю сам себя морочить и никому не позволяю.
– Вот и я о том же говорила, – с готовностью повернулась к Роберту Маргарита. – Иррационализм – это гипноз. А я не желаю…
– Значит, вы никогда не будете счастливой, – еле слышно произнес он.
Но она услышала, и сердце замерло на мгновенье. Вальтер тоже не нашелся, что добавить. Или не захотел. Гели посмотрела на него два раза. Он понял ее взгляд и спросил, уже обращаясь к ней одной:
– Вам понравилась пьеса?
– Да, – кивнула она. Он так смотрел на нее, что она смутилась.
– А вам, Роберт? – спросила она Лея.
– Пьеса глупая. Но спектакль хороший.
– Слишком реалистична? – усмехнулся Вальтер.
– Неэтична, – отвечал Лей. – Есть вещи, которые каждый решает наедине с собой и обычно в последнее мгновенье. Кричать об этом со сцены – не искусство.
«Мерседес» стремительно пересек Кайзерплац, свернул в переулок, остановился возле темных домов. Художник поблагодарил и вышел. Лей тут же развернул машину. Они с Маргаритой заметили, как Ангелика дважды обернулась.
На следующее утро у Йозефа Геббельса были готовы четыре статьи по поводу «французской заразы», «осиного гнезда», «шпионского логова» и всего прочего о модном салоне Шарля и Полетт Монтре. Однако решимость Йозефа к рассвету настолько ослабела, что он уже готов был бросить всю писанину в камин.
«Мало мне каждодневного абсурда, которым приходится заниматься, так еще и эти бабьи штучки», – негодовал он, расхаживая по спальне и ежась от озноба после бессонной ночи. Он отправился завтракать с твердым намереньем поставить Хелен с ее глупостями на место.
Завтракали у фюрера всемером; из дам присутствовала Елена. Она сидела слева от фюрера, за хозяйку, и была сегодня так хороша, так чудовищно обольстительна, так ласково глядела… Все это заметили и любовались ею – кто украдкой, как Гиммлер, кто в открытую, как Штрайхер; даже Лей на нее поглядывал с интересом.
У него состоялось короткое объяснение с фюрером. Роберт пожаловался на боли в сердце и сказал, что хотел бы взять отпуск сразу после церемонии открытия Коричневого Дома в конце месяца.
– Вы, как и Гесс, присаживаетесь отдохнуть, когда чувствуете, что умираете, – проворчал Гитлер.
О недавнем срыве, естественно, не было сказано ни слова.
После завтрака Лей отправился покурить в кабинет Кренца, туда к нему и явилась Елена.
– Мне известно, где ты был ночью, – заявила она. – Адольф не знает, а я знаю. И я хочу тебя предупредить. Поаккуратней с Ангеликой. Гитлер ревнив.
Он ничего не ответил. Елена присела к нему на ручку кресла и обняла одной рукой.
– Ты на меня сердишься?
– За что? – спросил Роберт.
– Тогда зачем тебе эти девчонки? Что ты их всюду таскаешь за собой? И глупо, и рискованно.
Он снова не ответил. Она вынула у него изо рта сигарету и, нагнувшись, впилась в губы. Поцелуй был долгим. Пока он длился, вошел Геббельс и замер в дверях.
Это она… Она сама попросила его зайти минут через пять к Кренцу… Вот для чего!
Лей, краем глаза заметивший унылую спину выходящего Йозефа, разозлился не на шутку. Отстранив Елену, он отошел к окну и снова закурил. Что бы ни творили женщины, Роберту никогда еще не доводилось делать выговор в подобной ситуации.
– Для чего ты издеваешься над ним? – спросил он как мог спокойнее. – Дай человеку работать.
– Над кем? – наивничала Елена. – Значит, я была права, ты на меня злишься! За эту французскую липучку? Но я же ее не трогаю.
Лей молча курил.
– Или здесь другое? – прищурилась она. – Моя вина в том, что мне не двадцать? Но твоим театралкам тоже не двадцать, а по двадцать три! Итальяночке было восемнадцать, это я еще могу понять.
Роберт затушил сигарету. Он почувствовал тошноту и тупую, толчками, боль в левой стороне груди. Хелен подошла сзади и, обняв, прижалась к его плечу. Она знала свою силу. Опыт напоминал ей, что она всегда добивалась своего, даже этот мучитель в конце концов сдавался. Нужно только, чтоб он вспомнил…
– Пойдем… Ты ляжешь, а я почитаю тебе любовные записочки от поклонниц. Их с утра уже целый поднос, да еще в букетах столько же. Ты популярен, как миланский тенор.
Цветы и письма начали поступать еще со вчерашнего вечера. Огромные букеты роз заполонили гостиную на первом этаже дома. Не зная, как отнесется к этому не терпевший сентиментальностей Роберт, Кренц распорядился передавать ему лишь конверты. В основном это были послания кельнских дам из высшего света «доктору Лею» с пожеланиями скорейшего выздоровления. Эти же поклонницы подвигли мужей сделать в связи с покушением крупные пожертвования в партийную кассу, что было, как всегда, очень кстати.
За завтраком фюрер сказал Роберту, что тому следует принять кое-кого лично, например, фрау Кирдорф и баронессу фон Шредер, «случайно» оказавшуюся во Франкфурте, за чем непременно последуют новые взносы.
Лею становилось совсем не до шуток. Боль в груди усилилась, толчки сделались острее, а Елена продолжала играть роль заботливой супруги. Дождавшись ухода врачей, она снова предложила ему почитать письма, пахнувшие розовым маслом и «Шанелью», но Лей отказался.
– Хочешь побыть один? – спросила она. «Я и так один», – едва не ответил Роберт, но ему уже не хотелось, чтобы она уходила. У нее были ласковые умелые руки. Именно ее руки, а не прекрасное лицо, глаза, губы или грудь он любил в ней больше всего.
Роберт спокойно проспал до сумерек, а проснувшись, некоторое время лежал и размышлял, куда бы им отправиться с Гретой сегодня. Поскольку приходилось вести ночной образ жизни, выбор был ограничен – пара театров, варьете, какой-нибудь клуб с сомнительной репутацией… Этой девушке с ее воспитанием и аналитическим складом ума едва ли придутся по вкусу глупые претензии и пафос ночной культурной жизни Франкфурта. Вот в Кельне он мог бы предложить ей что-нибудь достойное, например, молодую балетную труппу, работающую в классическом стиле Анны Павловой и Нижинского, вечера органной музыки в знаменитом Кельнском соборе – или, наконец, он мог бы для нее просто поиграть. Поиграть, кстати, можно было и здесь: у Кренцев превосходный беккеровский рояль, – но не сегодня. Как-никак он «в тяжелом состоянии» – во всяком случае, для секретарей и охраны.
Ничего не придумав, Роберт позвонил ей и услышал решительное: «Можно мне к вам?» – «Конечно», – отвечал он без энтузиазма. Его спальня больше походила на больничную палату, а выйти куда-либо он не мог, поскольку в эти часы дом был полон непосвященных коллег и посетителей.
Ему и без того было стыдно перед нею за свою роль, а тут еще это свидание среди медицинских причиндалов. «А может, и к лучшему, – мелькнуло опять. – Скорей разочаруется».
И Роберт не сделал ничего, что могло бы скрасить впечатление девушки; он только встал с постели и оделся, даже бриться не стал. Она видела его раздраженным функционером, героем-охотником, пианистом-неврастеником, суровым летчиком, наконец, адептом сюрреализма – пусть полюбуется на клоуна, вынужденного кривляться во имя внутрипартийных интересов. Хотя побриться нужно было все-таки…
Она вошла, не глядя по сторонам; у нее были те самые «слепые» глаза, которые появляются у женщины в пору первой влюбленности. Со временем она прозревает; во взгляде проступает собственное «я», и тогда женщине уже можно лгать – она защищена…
Грета подошла совсем близко и, подняв руку, коснулась его небритой щеки. Он поцеловал ее в ладонь. Их первые прикосновения друг к другу. Тот же «слепой» взгляд. Он продолжал целовать ее пальчики – один за другим и в обратном порядке – и с удивлением чувствовал, что перестает видеть себя со стороны. Именно так действовал на него хороший французский коньяк – к примеру, перед выходом на трибуну, где его могла неожиданно постигнуть кара небесная в виде заикания, частого после ранения. Или когда он садился за рояль и нужно было забыть все, чтобы вспомнить музыку.
Но забыться с Гретой он себе позволить не мог. Пришлось применить клоунский прием и сымитировать головокруженье. Он прижал руку ко лбу и постоял так, слегка покачиваясь. Потом подвел Грету к креслу и усадил, а сам сел напротив.
– Я только хотела вас видеть, – сказала она. – Я сейчас уйду. Вы из-за меня встали… Я только хотела сказать… Вы правы. Я всю жизнь слишком много думала. Но когда я увидела вас, это было как гипноз. И я хочу, чтобы так было всегда, я хочу быть счастливой.
Она встала и пошла к двери. Почему он не остановил ее? Как мог он не удержать женщину, только что признавшуюся ему в любви?
«Кто я? – прямо спросил себя Роберт. – Порядочный человек? Трус и ничтожество? Или я не люблю?»
Он долго сидел в кресле, тупо рассматривал замысловатый узор персидского ковра, точно не смея, боясь двинуться. Он понимал, что должен переступить через что-то, чтобы продолжить жить, как жил прежде. Но у него не было ни сил, ни воли – только вялость и звон в ушах. Он не заметил, как зашел и вышел врач; как заглянул Пуци и собрался окликнуть его, но передумал. Самому Роберту казалось, что это длилось недолго; на самом деле прошло около двух с половиной часов. Снова вошел Пуци и потрогал его за плечо.
– Роберт, очнись! Что с тобой?
Лей медленно выпрямился… Пуци тряс его. Вокруг плыл туман. Роберт обеими руками сдавил себе голову.
– Не могу больше… Скажи им, объясни… Если это продлится, я сойду с ума.
– Прости, старина, но сказать пришлось бы Адольфу, а у меня с ним отношения, сам видишь, с точностью до наоборот. – Пуци печально усмехнулся. – Когда-то он слушал меня, а теперь, хоть мы и остались на «ты», любой твой каприз для него значит больше, чем все мои логические…
– Каприз?
– Не придирайся к слову. Я понимаю, что с тобой происходит. Может быть, позвонить Рудольфу?
– Если бы ты понимал, то не предложил бы мне этого.
– Тогда держи себя в руках, – резко сказал Ганфштенгль. – Замысел принадлежит Адольфу, а он в таких случаях доводит дело до конца. Но… может быть, я тебя утешу или хоть позабавлю, если скажу, что тебе чертовски завидуют.
– Кто?
– Догадайся.
– Какой идиот может мне зави… – Лей оборвал себя, вдруг поняв, о ком говорит Пуци.
– Я знаю Адольфа в два раза дольше, чем ты, – продолжал тот, усмехаясь. – Все эти годы я наблюдал его едва ли не ежедневно. Те, с кем он считается, это те, кому он завидует. Заметь, именно считается, а не использует.
Роберт качал головой, недоумевая.
– Большего абсурда я даже от Геббельса не слыхал.
– Геббельсу он тоже завидует. Тому, как подвешен у него язык. Хотя со стороны кажется, что это Йозеф копирует Адольфа, да? А может, так оно и есть. Геббельс, как и ты, не понимает своей силы. И Геринг не понимает. А про Гесса и говорить нечего. Вот Рем понимает.
– Что-то я не пойму… – начал Лей.
– К чему я клоню? Да ни к чему, собственно. Нужно же было тебя разговорить.
– Твои шутки, Эрнст, отличаются редкой уместностью.
– Какие шутки? – Ганфштенгль махнул рукой. – Весь первый этаж уставлен розами. Фон Шредерша примчалась на всех парах. Куда только подевалось ее чванство! Партийная касса за три дня почти утроилась. Наконец, в доме четыре красивых женщины, и все четыре говорят только о тебе. Думаешь, Адольфу легко все это выносить? Не знаю, чего он ожидал, – добавил Пуци с иронической улыбкой. – Но не такого уж точно.
– Мне-то что делать? – морщился Лей, потягиваясь. – Сил больше нет.
– Потерпи еще пару дней. Следствие закончат быстро. Опубликуем все материалы и отпустим твою душу на покаяние.
– Пришли мне хотя бы завтрашние корректуры, а то я даже не знаю, какую чертовщину вы там состряпали, – сердито сказал Лей.
– Пришлю, если еще не отправили в типографию, – обещал Пуци.
Но, по-видимому, корректуру уже увезли, потому что вместо нее появилась Елена с черновиками и предложила почитать вслух то, что его интересует. Она выглядела сдержанной и чем-то озабоченной. Около часа она читала, пока он не начал зевать.
– Если ты устал, то достаточно, – сказала она. – Я пойду.
Его это несколько удивило – он был уверен, что она захочет остаться с ним. Но она спокойно собрала все в папку и, лишь минутку помедлив, удалилась.
«Даже она сбежала, – усмехнулся про себя Роберт. – Воистину я зависти достоин!»
Позднее утро началось у него с приема посетителей. Роберт отлично выспался; сердце не болело, голова – тоже. Он с удовольствием принял бы сейчас холодный душ и пробежался бы по свежему снежку на лыжах, но вместо этого…
Баронесса фон Шредер привезла с собою знаменитость – парамедика Феликса Керстена, который, осмотрев Лея, заявил, что тот стремительно восстанавливает свой баланс, назначил массаж и еще какие-то удивительные процедуры, во время которых Роберту предлагалось сидеть на полу, поджав ноги, лицом на восток, «самоуглубляться» и «перераспределять энергию». Керстен был настроен столь решительно, что Лей сделал попытку перераспределить его энергию и недолго думая указал на Гиммлера, который, как и Рудольф, был по натуре мистиком и легко покупался на весь этот парамедицинский сюр.
Лей объяснил Керстену, что коллега Гиммлер очень нуждается в такого рода помощи, поскольку несет на себе тяжкий груз неоднозначных решений.
После визита Керстена его посетила баронесса. Светская львица очень помогла Лею в свое время в Кельне, фактически открыв для него салоны и кошельки рейнских промышленников. Дальнейшее для энергичного и обаятельного Роберта уже не составило труда. Фюрер ездил на Рейн, как на гастроли в Америку, успешно пополняя партийную кассу, поскольку баронесса неустанно создавала ему репутацию некоего рокового мессии, и местная знать выкладывала по 200–300 марок, чтобы поглядеть на этот феномен.