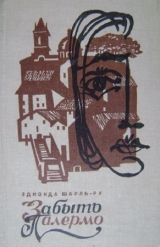
Текст книги "Забыть Палермо"
Автор книги: Эдмонда Шарль-Ру
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 22 страниц)
– Слишком печален твой Туриду, дорогой Эррико… Ноты, мой друг… Надо петь только то, что в них сказано. Сократи немного рыданья, а? И вздохи тоже… Оставь все это Сантуцце… Ей надо плакать, а не тебе. Ты Туриду, человек без всякой совести, соблазнивший честную женщину, сбивший ее с прямой дороги, скомпрометировавший ее, обесчестивший, не забывай этого. Ну… На этот раз в темпе. Начали…
Барон де Д. насвистывал реплики Сантуццы или с увлечением исполнял их во весь голос, и его «О царь небесный» вызывало у вас слезы на глазах. Потом, забывая, где он находится, барон мысленно представлял себе театр, репетицию, себя в качестве дирижера, жесты которого вызывают пение пятидесяти скрипок. Лилась мелодия, которую впоследствии играли во всех кабачках мира, во всех кафе, где оркестры безжалостно ощипали ее до последнего волоска. Но это было потом, а в давние времена она имела стиль и душу. Ибо барон любил музыку и дорожил каждым ее звуком. Он «играл» за арфу, мандолину, за цимбалы; в отдельных мостах довольно поверхностно, ведь Масканьи не Бах, но всегда с пониманием, а когда доходил до самых эффектных моментов, то ни один из них не пропадал. Можно было проследить эти все «pizzicato», содержавшиеся в партитуре, звон колоколов, имитировавших пасхальное шествие; барон воспламенялся до того, что восклицал: «Двигайтесь же! Вперед!..», не отрывая при этом рук от клавиатуры и наполняя тревогой молодого певца, зажатого между пианино и туалетным столиком и думавшего про себя – черт возьми, чего же от меня ждут? Но барон де Д. обращался не к нему, а к толпе невидимых статистов: «Двигайтесь же, черт возьми, вперед! Вас, как быков, надо погонять…» И вдруг слышалась аллилуйя, и целое шествие с горящими свечами пересекало комнату, нескончаемые шеренги детского хора, балдахин для святых даров, и монахи, монахи, монахи… Ах, эти прекрасные дни в Риети, полные восхищения от bel canto!
Трудно представить себе после стольких лет скромное жилище артиллерийского лейтенанта в гарнизоне Риети. Выбора не было, никакого, кроме двух небольших комнат в квартире нотариуса. Пианино не без труда затолкали между кроватью и зеркалом, чтоб нашлось место для обеденного столика, на который молодая супруга каждый вечер молчаливо ставила тарелки. Боже небесный, до чего она была хороша! Прекрасна! Как прекрасна! Едва она показывалась в комнате, все туманилось в голове певца. Она устраивалась на кровати, чтоб слушать его. Где ж еще? Других мест не было… Она ложилась, и теперь уже ничто не мешало смотреть на нее, светловолосую, необыкновенно тоненькую… А ее ножки… Разве можно было оставаться равнодушным, когда она шептала: «Это чудесно, чудесно!» А барон де Д. отвечал ей: «Ты музыкальна, как сама музыка… Ты моя музыка». Именно так это было. Ее голос, ритм произносимых ею фраз, каждая из ее интонаций были музыкальны… Карузо говорил ей: «Не уходите… Когда вы здесь, мой голос сам поет». И урок продолжался, проходили часы, и все забывали о том, что пора есть. Флорентинка, довольно! Но чувства меры у нее не было, это сказывалось во всем – и в безудержной трате времени и даже в манере восторженно смотреть своими огромными глазами с такими большими зрачками. Когда наконец садились за стол, она не касалась еды. О чем она грезила? Что выражали эти бездонные глаза, непостижимо зеленые, смотревшие то на одного, то на другого? И отчего заволакивались они этой дымкой – от трепетного ли голоса Карузо, этого чудесного голоса, раскинувшегося, как золотое небо, над пасмурной серостью всего окружающего, или от чего еще?
Ни барон де Д., ни его жена не присутствовали на дебюте великого певца в 1895 году в театре Массимо в Палермо, потому что в тот вечер у них родился сын. Имена, которыми он был наречен, выбрала мать против желания всех родных. Она хотела, чтоб его звали Родольфо, как поэта из французского романа «Жизнь богемы», которым увлекался сам Пуччини, и, кроме того, Владиславом – имя это было продиктовано теплым чувством к одному из своих дальних польских родственников, – и, наконец, Францем, неясно, из каких соображений. Может, в честь Листа…
Родольфо-Владислав-Франц де Д. Что за сумбур! В Соланто это вызвало одно недоумение. Этакая уйма иностранных имен оскорбляет слух. Во время крестин, которые вел палермский архиепископ, величественный старец долго силился произнести трудные ему звуки, а под конец сердито заурчал что-то и сказал: «Оставим это, вы меня поняли?» После церемонии он не удержался и язвительно заметил, что было бы предпочтительней назвать дитя Антонио, так же как его отца и деда. Земляки тогда бы, наверно, называли молодого барона дон Нинуццо, а не дон Фофо.
…Письмо было отправлено из Трапани. Близость этого места казалась более жестокой, чем даже само предательство; нетерпимое неприличие было в этой близости. Из Трапани… Барон де Д. мог бы добиться, чтоб нашли человека, написавшего письмо, потребовать, чтоб полиция провела допрос, мог выяснить, действительно ли была его жена в этом городе. Она-то говорила, что едет во Флоренцию. Но он заранее представил себе эти ответы, эти бесстрастные лица. Никто не видел. Никто не слышал. Не так-то просто добраться до правды в этом белом, замкнувшемся в себе, неподвижном городке с его пустынными набережными, закрытыми ставнями, уединенными улочками, вытянутыми между домами, как шпаги. Из Трапани… Там было написано это письмо, вызвавшее у барона отвращение к жизни, на этом тусклом выгоревшем мысу, где не перестает свистеть северный ветер, в этом бездушном городке, пахнущем солью. На краю отчаяния барон продолжал повторять: «В Трапани. В Трапани…» Как же она попала туда вместе с этим паяцем, как оказалась в суете этой гастрольной поездки, в этом шуме, суматохе, утомительном таскании багажа с измятыми костюмами, среди поисков внезапно теряющихся париков? Как могла она поехать, да еще в Трапани? Ведь это всего в нескольких километрах от земель предков. И быть там, не стесняясь чужих людей – о нет, не толпы, всего лишь кучки зрителей, собравшихся перед театром, дабы подстеречь того, кто будет Эдгаром в «Лючии ди Ламмермур», чтоб увидеть, на кого он похож, этот неаполитанец, про которого чудеса рассказывают и эти сплетни. Та дама, что вышла, да, да блондинка, говорят, его любовница, она не местная, по слухам, с континента. Возможно, и имя барона де Д. трепали эти бездельники. Что их могло остановить? Ведь не каждый день бывает такой праздник в Трапани и еще этакий скандал, который, как желанный дождь после жаркого лета, может развеять городскую скуку. Сколько небось записочек циркулировало среди светского общества, неприличных рисунков и всяких непристойностей. А тут еще развратность этого тенора, его страсть к хвастовству… К чему ему вздумалось красоваться на террасах кафе «с особой, которую ваше сиятельство не должно было допустить путешествовать в такой скверной компании», – написал барону этот доносчик, сообщивший, что артист развязно разговаривал, раздавал автографы и вообще находился в таком возбуждении, что его легко было счесть пьяным.
Что ж это за любовь? Выставить себя напоказ – разве это любовь? Так одинокий барон де Д. упрекал в этих заочных беседах свою отсутствующую жену, которая не могла его слышать.
Когда я был для тебя всем на свете, когда ни о ком больше ты не думала, разве мы ходили в кафе?
Я любил тебя, и это была наша тайна, уединение нам приносило радость. Мне хотелось видеть одну тебя, ни до кого не было дела. И ты меня любила тоже, моя флорентинка… Только тогда ты познала подлинную любовь, что ни говори… Эти иллюзии немного успокаивали его, он их берег. Ведь была настоящая любовь… Неужели она к нему не вернется? Не может этого быть. Но мысль об измене не уходила. Он представлял жену наедине с другим. Яростная ревность овладевала им, сжимала удушьем горло, заставляла стонать от боли и, наверно, погубила бы, не появись отвращение. Так он научился презирать, Карузо уже не казался ему робким гением из Риети, вдохновенный талант которого он открыл и любил. Нет, Карузо уже был для него воплощением всего смешного, фатом, пересчитывающим своих обожательниц у дверей театра или раздающим автографы с той же серьезностью, как это делает глава государства, подписывающий договор. Этот тупица очумел от своего успеха. И с подобной личностью она могла появиться на публике? Скажи, какая победа… Да ведь он глупец, которому сицилийское вино до того затуманило голову, что он не смог запомнить пару реплик из своей роли… И в Трапани, в этом жалком городке, был освистан… Бог мой, так мало нужно, чтоб человек превратился в посредственность! У этих теноров талант и глупость так легко уживаются… А его невероятное самомнение? Он ведь считал себя Дон Жуаном. Можно ли ревновать к человеку, который фотографировался в столь диких позах? Барон ревнует? Ничуть. Ну и позер этот тип! Умение брать высокие ноты, наверно, плохо влияет на разум. Карузо так изменился. Думает, что ему все дозволено. Петь, напялив на себя шотландскую юбку. Дальше идти некуда! А этот бог пения резвился без всякого стыда, дрыгая голыми коленками, показывая свои ляжки. Так он балаганил в Трапани перед людьми, которые не осмеливаются снять пиджак в общественном месте из боязни оскорбить соседку. Может быть, в Ла Скала это бы дозволили… Но уж во всяком случае не в Трапани, в зале все были вне себя. Ясно, начался скандал. Встал с места кто-то, побледневший от негодования, и закричал:
– Черт знает что, эй, вы! Чего ждете, чтоб вам морду набили? Вон со сцены!
А что же делала она? Куда удалось ей скрыться? И барон де Д. представлял себе, как подвергают его жену всем этим оскорблениям, сыплющимся как грязный дождь. Он весь дрожал от возмущения.
Письмо доносчика рассказало не обо всем, умолчав о потасовке, о давке, о поломанных креслах. Ведь пришлось прервать спектакль.
Быть замешанным в скандале, стать посмешищем – вот чего барон де Д. больше всего опасался. Новость разнеслась в одно мгновение, ее узнали во дворцах Палермо, в гостиных, в загородных виллах. Множество людей сразу прослышали об всем, что случилось. И после этого решиться где-то бывать, показываться на людях? Стало быть, простить то, что немыслимо простить.
Когда рушатся мечты, утрачиваешь иллюзии. Она хотела его ранить, сломить. Она не вернется, это ясно. Барон де Д. все еще помнил Риети и первые дни своей любви к жене, незабываемые дни, проведенные ими в тесной мансарде. Он вспоминал это пианино, огромные глаза жены и как она смотрела на него и на того, другого. Боже мой, как она была прекрасна… Однако выбрала она другого и следовала за ним из города в город как тень. А наше прошлое, моя флорентинка?.. А единая музыка наших сердец, скрипки, которые четыре года пели только для нас двоих, – ты одним ударом разрушила это, уничтожила все. А наши ночи, моя хрупкая, безумство и пламень, разделенная страсть, единство наших тел?.. Ты об этом больше не вспоминаешь? А все остальное? И это было ничем? Значит, ты совсем ничего не чувствовала, прижимая руку к сердцу, чтобы унять его биение, похожая тогда на маленькую растерявшуюся девочку с таким взволнованным лицом. О моя музыка… Когда мы вместе ходили под пышно раззолоченными потолками театра или тихо ожидали в красных гротах лож, пока медленно подымется тусклый занавес, погаснет свет и замрут звуки настраивающегося оркестра, я испытывал радость, не меньшую той, другой, и уже полностью был в твоей власти. Знала ли ты об этом? Помнишь ли ты этих басов с фальшивыми бородами, этих галлов в кроличьих шкурах, подагрических статистов, смехотворные легионы которых вдруг вызывали на твоих губах трепет улыбки, заставлявшей забыть о только испытанном восторге от пения? Иногда ты даже смеялась там, в опере. Но все это уже в прошлом. Не нужно теперь ни Лючии, зябнущей в желтых туманах Шотландии, ни Немой из Портичи, ни Итальянки в Алжире, не будет и флорентинки в моем сердце. К чему скрывать? Все это радовало только вдвоем. Звуки музыки были той дорогой, которой мы вместе шли. Теперь музыка всякий раз пробудит во мне тоскливую мысль, что тебя здесь нет.
Карузо… Это имя вызывало у барона де Д. душевную боль. Но как это ни странно, ему думалось, что он легче бы ее перенес, если тот, другой, пел еще лучше. Да, он предпочел бы, чтоб золотой голос в тот вечер в Трапани остался достойным его прежних воспоминаний. Но зачем опять говорить об этом человеке? Надо забыть его имя. А ее? Ее он больше не увидит. Надо со всем покончить. Со всем. Перестать встречаться с людьми. И навсегда.
Будущее представлялось барону де Д. бескрайней пустыней.
* * *
Как-то Стендаль заметил, что презрение общества мешает продолжать общение с людьми. Эти слова стали отправной точкой короткого письма, в котором барон де Д. просил свою жену больше не появляться в Соланто.
В Сицилии говорят: «Что было, не вернется», и эта поговорка хорошо показывает, что сицилийцы умеют подчинять чувства трезвому решению рассудка. Барон де Д. был подлинным сицилийцем. Ему казалось противным выглядеть несчастным на людях. Чтоб не видели его горя, он предпочел казаться разочарованным. Но признаки внимания, которые его удручали, беспрестанный интерес его родичей ко всему, что свидетельствовало о тяжелых переменах в его жизни, и эта их манера без конца называть его то бедным, то несчастным, все их пылкие излияния, высказываемые с очевидным и даже почти физическим удовольствием, – все это было унизительным. Ему жали руку, едва он ее опускал, чей-то рот со словами ободрения приникал к его уху, кто-то беспокоился, носит ли он теплое белье, без которого и зимой и летом сицилиец боится заполучить самые злые недуги. Под подушки ему клали образки, и даже лица слуг выглядели сообразно обстоятельствам. Все это уязвляло его чувства, ведь барон хотел скрыть свое горе. Что нужно было этим людям, так докучавшим ему своим ханжеством, вздорной болтовней и религиозными талисманами из освященного самшита? Однажды они устроили целый заговор, целью которого было оставить его наедине со священником, специально приехавшим из Палермо. Начав со всяких околичностей, приезжий с некоторой резкостью вдруг сказал: «Поговорим по-христиански», а затем предложил барону адвоката, чтобы начать процесс, намекнув на верховный суд Ватикана и возможность расторжения брака.
– Еще одно слово, – сказал барон посетителю, – и я попрошу вас покинуть мой дом.
Каноник так напугался!
Барон де Д. не хотел порывать ни с христианскими идеалами, ни со своими ближними. С религией он считался. Что же касается его окружения, родичей, дядей, всех этих кузин – все это были люди его среды, и он, естественно, хотел относиться к ним с уважением. «Как и ко всем другим людям», – добавлял он, вкладывая в эти слова свои лучшие чаяния. Он намеревался уважать даже такого, как этот каноник, хотя без гнева не мог о нем вспоминать. Мыслей о разрыве со своей средой у барона де Д. прежде не было, и все же, когда эта идея возникла, он удивился, что не думал об этом раньше. В палермском обществе заговорили о подавленном настроении, о душевной болезни. Дворец в Соланто был на замке, барон де Д. не выходил, никого но принимал, а его сын играл только с деревенскими ребятишками. Некоторые пробовали наудачу при поездках или возвращении из Палермо проникнуть в имение барона под каким-нибудь предлогом. Людей влекло туда чистое любопытство, хотелось поглядеть на двадцатипятилетнего человека, принявшего обет молчания. Можно себе представить, какое удивление вызывало его заточение среди вдовушек, собиравшихся в гостиных Палермо. А как иначе можно было это расценить – пренебрегать близкими, избегать общества, разве легко признать это обычным? Что же это? Не безумен ли сей молодой человек, решивший уйти от мира? Поэтому и пытались проникнуть через закрытую дверь.
Море окружает замок с трех сторон, а с юга к его стенам подступают сады, заросли самшита, уютные тайные пристанища, узкие тропинки, лестницы, стоящие среди зелени статуи. Все это словно ковер, на котором играют тени, раскинутый у подножия замка. Открыты лишь окна, выходящие на море: ощущение неприступности сразу овладевает посетителем. Центральная башня, три террасы на земляных валах, окруженных рвами, – все как в эпоху Карла Пятого. Скорей угадываешь, чем видишь по белому куполу старинную хлебную печь. В сравнении с величием замка деревня кажется очень маленькой, совсем неприметной.
На крепостной стене лежит сторож в низко надвинутой чуть не на глаза фуражке; несмотря на вольготность позы, он похож на настоящего часового. Сторож пребывал здесь целые дни, созерцая небо и не выпуская из рук палки. Тем, кто заговаривал с ним или умасливал его ласковыми вопросами: «Ну, как он поживает?», «Нас волнует, что с ним?» – сторож лениво отвечал, по-прежнему прислоняясь к стене и даже не вставая: «Да очень хорошо», «Лучше не бывает», «Он похоронит еще всех вас». И все это произносилось с видимым удовольствием. Тем, кто пытался настаивать: «Были бы счастливы повидать его», он бросал напрямик: «Мы никого не принимаем», и посетители тут же ретировались к своим экипажам, а сторож оставался на своем неприступном бастионе, гордый тем, что это «мы» он произносил истинно по-королевски.
Тактику полного единения с бароном де Д., способность понять его и совместно разделить его несчастье проводил но только дворцовый страж, но и вся деревня. В запутанных улочках, тянущихся к замку, как гнутые спицы колеса, около сарая с рыбными сетями, шатающаяся крыша которого искала опоры в крепостных стенах, там, где играли полуголые ребятишки, в глубине двориков, на террасах, у порогов домов, на крышах, где сушились томаты, похожие на нити из крови, – всюду жители Соланто связывали свое личное счастье с жизнью этого одинокого человека, одновременно близкого им и далекого, чье существование их неотступно тревожило. Они считали, что видят его. И это было так. Лампа, которая светила всю ночь напролет и озаряла своим светом террасы, была, конечно, его лампой. Когда она гасла, все огни в Соланто угасали. Только она загоралась, как пробуждалась вся деревня и шум раннего утра доносился в замок, слышались шаги спешащих к лодкам рыбаков, топот скота, бредущего на пастбища.
Какая-то связь на расстоянии установилась между хозяином Соланто, уединившимся на своем скалистом холме, и жителями этих жарких улиц, ютящимися в неказистых, не имеющих прошлого домах. Между крестьянами и бароном возникло непрерывное общение, хотя, как это началось, было невозможно установить; как будто деревня участвовала в жизни замка или замок спускался в деревню и тайно приобщался к ее быту.
Зная, что за ним наблюдают, барон де Д. не ощущал своего одиночества. Интерес, который возбуждала его личность, помогал ему жить, хотя он не отдавал себе в этом отчета. И если сам он не замечал некоторых черточек своей странной популярности, то о них сообщал ему его сторож. Без него барон, может быть, никогда не узнал бы, что создала народная фантазия из его невзгод; она не уставала приписывать его персоне необъяснимые чудеса. Да, эта слава была весьма странной… Чьи-то руки писали его имя на стене алтаря, куда раз в год ходили молиться святому Иосифу. Правда ли? Сказали, что да. Эти руки приписывали просьбы крестьян, обращавшихся к барону: «иметь ребенка», «помочь выздороветь», «сделать, чтоб урожай был хорошим». От этой таинственной веры барон неловко себя чувствовал. Только правда ли все это? Однажды, когда барон спустился в сад на утреннюю прогулку, сторож издали показал ему на корзину с фруктами, поставленную под аркой у входа. Тут же лежал ягненок со связанными ногами: дары. Чего же от него ожидали? Прежде барон рассердился бы, но теперь… А сторож тактично покачивал головой. Его сиятельство ведь знает, что они тут в деревне думают. Барон де Д. промолчал, а крестьянин с самым естественным видом добавил, что старые вырезки из газет с фотографиями хозяина Соланто якобы видели приколотыми на стенках жилищ среди всяких религиозных изображений, прямо над кроватями, в которых спали целыми семьями, родители и дети рыбаков Нижней улицы. Барон де Д. невольно задумывался. «За кого же они меня принимают, эти люди?» Сторож поднимал руки к небу: «Они думают, что там вы сможете вступиться за них». Странная это была беседа. Оказывается, среди этих пришпиленных к стенам святых, импровизированных божниц фигурировали и осужденные на смертную казнь, пожизненную каторгу преступники, казненные в Америке на электрическом стуле либо повешенные в Англии. И еще раз сторож почтительно воздел руки к небу: «Они тоже, вы понимаете…» Барон де Д. сразу не разобрался, но когда сторож сказал, что суд и общество всегда несправедливы и что все осужденные на смерть – мученики, барон спросил: «А если они действительно виновны?» Сторож поколебался минуту, потом проворчал: «Виновны? Как вы это понимаете? Иисуса тоже сочли виновным. Разве это не так?» Его сиятельству было нечего возразить. Объяснить этому человеку, какую он чушь несет? Прежде он, может быть, сделал бы это, но сейчас… Зачем его огорчать? Да и вся жизнь барона теперь была полна этими странными событиями. Он то и дело сталкивался с ними.
Во время ужасной засухи, вызвавшей на земле глубокие трещины, когда все дышало страданием – умирающие растения, белые от пыли, и мычание задыхающегося скота, когда гудел ветер и за спущенными занавесями жужжал рой мух, к барону не раз возвращались испепеляющие его приступы ревности, желание бежать, покинуть Соланто, где-то исчезнуть… К его балкону подходили девочки с черными косичками, в непомерно, больших башмаках, какие видишь на ногах клоунов, становились, танцуя, в круг и напевали: «Наш добрый господин, пошли дождик… Сделай, чтоб скорей пошел дождик…» У них были хриплые голоса, трогательные и смешные. Барон де Д. столь же мало замечал их, как ссоры чаек внизу, на скалах. Но голоса их вызывали в памяти образы дорогого ему Соланто. Пожалуй, Соланто да еще имя сына были единственными словами, придававшими смысл долгому настороженному сну, каким стала его жизнь. В сущности, осталось у него только это – Соланто и дон Фофо, замкнутый, отдаленный, смелый, но, по мнению отца, слишком вспыльчивый. Никто не решался с ним спорить. И сказать по правде, это было понятно, если припомнить, какое он получил воспитание… Еще ребенком дон Фофо дружил только с теми, в чьих глазах он – молодой барон – был вожаком. Порабощенные мальчишки… А что он натворил в возрасте, когда является любовь? Попал в еще более худшую компанию. Дон Фофо спал с теми вдовушками, которые получали пенсию от государства и дорожили положением вдовы именно на этом основании. Он посещал этих одиноких женщин из горных деревушек, одетых в черное, невежественных, как рабыни, умеющих говорить только на местном наречии.
Барон де Д. относился к сыну с уважением и жалостью. Ведь это он обрек его на одиночество. Дон Фофо стал бы совсем иным, если б воспитывался согласно правилам своего круга – в пансионатах Палермо, а затем в Риме… Но поздно думать об этом, если уже с одиннадцати лет он жил среди невежественных, суровых и суеверных крестьян. Мог ли он сопротивляться, возражать, бороться? Ребенок попробовал… Сначала он плакал, потом сказал отцу, что у него есть единственное желание – учиться музыке. Однако барон де Д. сделал вид, что не понял. «Поговорим о чем-нибудь другом». Дон Фофо упрямствовал, заявлял, что его не тянет к земле, полям, пахоте. И барону пришлось действовать решительней, принудить упрямого мальчишку заняться сельским трудом. Чтоб утешить Фофо, угрюмо замкнувшегося в себе и загрустившего, отец подарил ему черный кабриолет с хорошей упряжкой и ружье.
В старые времена детям из знатных семей покупали офицерский диплом еще до того, как отправляли их на поле боя. Разве это не одно и то же? Почему же говорили, что он жестоко обошелся с сыном? Кто только в это не вмешивался – и кюре и слуги: «Он такой молодой, ваше сиятельство, такой еще молодой». А барон де Д. смеялся им прямо в лицо. Ему было все равно, кем его сочтут – безрассудным или сумасшедшим. И потом не так уж трудно ему было убедить, что он прав. Хотя бы несколько исторических примеров. Скажем, Морис Саксонский. Разве он не был слишком молод, этот Морис Саксонский, ведь в двенадцать лет он стал адъютантом и в сражении под ним убили лошадь? Ну что? Стало традицией в семье шутить по поводу этой лошади, убитой во время осады Турне. По утрам дон Фофо ездил в деревню, и конюх протягивал ему вожжи, а потом вскакивал на запятки кабриолета. Барон де Д. появлялся на балконе и голосом, полным веселого ликования, кричал сыну: «Приведи мне эту лошадь живой, ладно?», и оба они смеялись. Через три-четыре года дон Фофо свыкся с этой жизнью. Но несбывшаяся мечта о музыке, от которой пришлось отказаться, иной раз вызывала на его лице глубокую печаль.
Все это – и меланхолия дона Фофо, и тайны Соланто, и ад воспоминаний: «Где ты сейчас, безумная моя? На кого смотришь своими огромными глазами? Почему ты так мучаешь меня?» – заставляло страдать барона де Д. Когда сын уезжал, улица затихала, ни смеха, ни песен, глухая тишина, изредка прерываемая криком птиц. Она была угрюмой, эта тишина, словно всю небесную лазурь над островом, державно царившим над морем, затягивало огромной темной сетью. Сетью, такой тяжелой от несбывшихся желаний о бегстве, которым грезили обитатели Соланто.
Барона де Д. не привлекали приключения. Не то чтобы он не любил путешествий или свободы. Но его ум восставал против одной мысли, что можно по своей воле затеряться где-то во вселенной. Эмиграцию же он воспринимал только так: искать спасения от нищеты, чтоб снова к ней вернуться, только в другом месте и к такой же изнуряющей. Да зачем, какой в этом смысл? Трудно найти оправдание подобному намерению, Потерять столько сил и все, что дорого сердцу, – а для чего?
Каждый раз, когда кто-нибудь заводил речь об отъезде из Соланто, барон звал виноватого, предсказывал ему тысячи бед, а в подкрепление доводов вытаскивал напоказ американский журнал за 1907 год, в котором знаменитый антрополог из музея естественной истории доказывал в длинной статье, что южане итальянцы с их плоским черепом ни в коем случае не могут претендовать на равные гражданские права с англосаксами. Там были чудовищные высказывания, которые барон де Д. переводил весьма тщательно. По мнению автора, черепная коробка сицилийца подтверждала, что его умственное развитие немногим выше обезьяньего. Все это заканчивалось так: «Зачем портить нашу расу этим дурным семенем? К чему открывать границы такому сброду? Властям необходимо хоть иногда советоваться с учеными». И сразу барон де Д. без всякого перехода пускался в крик: «Ты непременно хочешь, чтоб тебя называли умственно неполноценным? Разве это счастье – бросить все и жить среди людей, которые считают нас хуже дикарей? Хочешь, чтоб с тобой обращались, как с гадюкой, которую все боятся, чтоб считали тебя гнойным нарывом, постыдной заразой? Ошибешься – поздно будет исправлять, все пропадет, совесть тебя замучит, говорю тебе, потом будет поздно… Ты перестанешь быть нашим… Потеряешь свою честь, станешь жалким нищим». Но остановить этих одержимых было невозможно. И тогда барон де Д. вынимал свой бумажник, давал им деньги, и они исчезали неизвестно куда. По слухам, за океан… Желание уехать охватывало, словно щупальца спрута.
Так думал барон де Д., сидя наверху на террасе, хотя казалось, что он просто следит за полетом ласточек. Он вспомнил Альфио Бонавиа, отправившегося в Нью-Йорк. Невозможный человек. Что же произошло там, в поле, между его сыном и Альфио? Чем они оскорбили друг друга? Стать врагами – это так просто, особенно в этом краю, ведь сицилийцы легко переходят от дружбы к ненависти. Совершенно очевидно, что всю эту историю барону подсунули в явно подслащенной версии. Опасались огорчить. Хотя не нужно быть ясновидцем, чтобы догадаться… Люди не скоро забудут мою беду, – думал барон де Д. И в час злобы грязная брань вырвется, как из прорвавшегося мешка. Этому не помешаешь. Вот почему дон Фофо хотел убить друга своего детства. Если б барону де Д. сказали всю правду, он бы простил Альфио. Черт возьми, можно ли злобствовать на человека за то, что он обозвал вас рогоносцем? А теперь Альфио уехал, в Соланто ужо не вернется. В Нью-Йорке, по слухам, он женился. Остался ли он таким, каким был среди этих чужих людей? «Ты не сделаешь этого, никогда ты не разделишь свой хлеб с ними». Как хотелось бы барону напомнить это Альфио Бонавиа, да не получилось. Тот надменно отказался явиться в замок. Да, маленький Альфио стал упрямым парнем… Он тебе нравился, моя флорентинка, в те времена, когда ради твоего мимолетного каприза он украшал цветами весь дом. Сколько лет ему было, когда ты посылала его к большой магнолии в те счастливые для нас времена? Мальчишка карабкался по стволу, разгоняя птиц, он совсем исчезал в листве, а ты так смеялась! Сколько ж ему было тогда? Шесть, наверно. Эти восковые цветы всегда пахли по-разному: утром нежно, мягко, почти неощутимо, вечером – остро, яростно, как живая плоть, насыщенная солнцем. Раздеться в комнате, полной этого аромата, уснуть. Любить все, что есть на свете, даже вкус свежей воды, которую пьешь, когда проснешься. Чувствовать себя властелином мира, и все это благодаря любви. Господи, как далеки те счастливые дни! Даже нагота служанок, даривших себя барону, даже радости, пережитые с ними, не могли вытеснить из его памяти тень той, прежней его жизни. Не много давали ему эти утехи плоти и ни у кого не вызывали иллюзий, даже у этих добрых девушек, а их не так уж трудно было одурачить. Человек ведь не всегда хозяин своих чувств. Барон де Д. уже почти двадцать лет повторял себе это, двадцать лет, таких богатых событиями.








