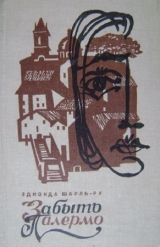
Текст книги "Забыть Палермо"
Автор книги: Эдмонда Шарль-Ру
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 22 страниц)
Глава II
Европейцем не станешь за одну ночь.
Генри Миллер
Бэбс избрала годовщину моего пребывания в «Ярмарке», чтобы отпраздновать ее в итальянском ресторане на Малберри-стрит. Трогательное внимание. Я сказала ей: «Может, лучше пойти в бистро?.. Это поскромней». Но она раздраженным голосом ответила: «Не имеет значения». Считалось, что я вечно все усложняю. Итак, было решено отметить первую годовщину совместной работы и на этом закончить наше обследование ресторанов.
Словом «отпраздновать» Бэбс пользовалась часто. В ее записной книжке этому посвящалась целая куча значков и дат, в которых только она могла разобраться.
День «празднования» начинался соответствующей подготовкой. Бэбс делала себе косметическую маску, потом отдыхала – ноги вверх, голова запрокинута. Подобным заботам она уделяла исключительное внимание, не меньшее, чем религии. Затем приходило время посылать букеты, корзины, карточки, письма, приглашения, депеши, конфеты, согласно тому или другому событию. Какая-то приятельница отмечала годовщину пребывания в новой квартире или желала разделить радость от приобретения образцовой кухни, ей можно было послать открытку с банальной формулой наилучших пожеланий; а толстухе подружке тетки Рози надлежало отправить букет – с тех пор как она излечилась от пьянства, прошло двадцать лет. Одной читательнице Бэбс ежегодно напоминала по телефону о том примечательном дне, когда ей удалось увеличить свой бюст на четыре сантиметра благодаря советам «Ярмарки». Нельзя было забыть и греков, состоятельных судовладельцев. Им Бэбс адресовала телеграмму в день годовщины аукциона, на котором они удачно перекупили Картину Сезанна из Лувра. Бэбс, которая сама при этом присутствовала, рассказывала обо всем торжественно, как о подвиге. Слова «Сезанн», «красные яблоки», «Лувр», «греческие миллионы» звучали в ее устах так значительно. Она весомо ощущала их. Я с особым нетерпением поджидала минуты, когда она подчеркивала свое волнение трепетным взмахом ресниц, ерзала на стуле, будто стремилась кого-то соблазнить, и напоследок внезапно показала в улыбке все свои зубы разом. Ах, эта улыбка, целый мир надежд и восторга!
Странные воспоминания сохранились у меня от совместного обследования ресторанов. Иной раз я вспоминаю об этом с нежностью. Почти год отняло у нас это занятие, оно походило на долгий карнавал. С нами бродил фотограф, добродушный англичанин, оперировавший себе нос. Помнятся молодые люди, которые, узнав Бэбс, радостно ее встречали. Они принадлежали к той породе индивидуумов, которых называют «play boys» – повесы, малообразованные парни, пустые, но добросердечные и умеющие болтать как заводные. Бэбс болтала с ними о том, о сем без передышки. Всегда одно и то же. Легкомысленные историйки, одинаковые жаргонные словечки и любопытство обывателей. Я слушала, и, хотя Бэбс порой раздражала меня, все же я была ей благодарна. Что бы со мной стало без нее? Разве я нашла бы выход из положения? И все же в ее компании я ощущала тяжелую пустоту. Могильную пустоту. Весь год бремя одиночества изводило меня. Тяжело мне жилось тогда в Нью-Йорке. Бытие теряло свой смысл, и это могло меня доконать. Потерять цель в жизни – самое опасное. Как будто бы задержался в летящем стрелой скором поезде, утратил общение с действительностью, время ушло, и уже поздно вступать в битву.
И все же стойкость мне не изменила. «Ярмарка» была для меня только запасным выходом, временным пристанищем. Порой мне не хватало чистого воздуха в атмосфере элегантного бизнеса Флер Ли, охватывало удушье – до того все надоедало. Но у меня была отдушина – мой остров, я всегда могла унестись туда мысленно. Снова вдруг возникали знакомые хриплые крики, шум, визг, лихорадочная суета; кругом меня появлялись детишки – дрессировщики ящериц и светляков, собиратели душицы; моя вселенная возрождалась, я вновь слышала голоса, жалующиеся на горькую нищету, голоса высокие, низкие, пронзительные, как у муллы, зовущего на молитву в Аравии. «Я вами живу, – думала я. – Для вас берегу силы и ненависть. Вы воодушевляете меня, помогаете жить, вы моя надежда, не оставляйте меня».
Только это помогало мне не терять равновесия. Но так не просто вести двойную жизнь – какое это нелегкое дело.
Бэбс уже кое-что поняла и не скрывала своих мнений, «Никогда ты не станешь нашей», – говорила она. Все, что могла, она для меня уже сделала. У нас была общая комната, одно ремесло, общее место службы, общие впечатления, накопившиеся за год, и, наконец, анкета, которую мы вели по ресторанам всего города. Месяцы поисков. Бесконечные посещения всех этих шумных местечек, известных своими «фирменными» блюдами, пышно рекламируемыми в женских журналах. Бэбс справлялась с таким заданием просто на диво!
Как все это было одинаково: торопившийся подойти к нашему столу управляющий, оркестр, венгерский, венский, мексиканский или еврейский, не имеет значения, начинающий играть, как только мы делали первый глоток, метрдотель, следивший за малейшим нашим жестом… Я уставала от этой постоянной помпы, меня смущали эти сцены, вызванные нашим появлением, и как-то однажды я сказала:
– Бэбс, тебя чествуют, прямо как языческое божество. Нас осыпают цветами, дарят безделушки за весьма мелкие услуги. Кто знает, может, последуют авторучки и даже автомобили? Попробуем, хочешь? Скажем, что для того, чтоб фигурировать в числе «хороших адресов» журнала «Ярмарка», надо, чтоб ледяная сосулька в нашем коктейле была не иначе как из розового бриллианта, и самого подлинного. Пребольшого граненого бриллианта, а?.. Попробуем?
И я вспоминаю Бэбс, как она хохотала, искрилась от радости, хлопала в ладоши. Наконец-то я признала значительность ее персоны. Ничто не могло ее так обрадовать. Но если б я хотела быть откровенной, то сказала бы ей так: «Эти люди ведут себя, как деревенские проститутки, не предложить ли им еще разоблачиться?», она бы вспыхнула от злости, Таким образом, некоторое малодушие мне помогало с должной компетенцией пребывать в роли редактрисы из «Ярмарки». Внезапные порывы искренности у меня уже исчезли, скрытность стала привычкой и служила самозащитой.
Но вернемся к нашему кругосветному путешествию, к этой веренице безумных вечеров, которые Бэбс возглавляла со свойственным ей авторитетом. Мы ужинали то в Мексике, то в Турции, каждый вечер переходили из одного полушария в другое, меняя столицы. Только по выходе из ресторана мы приходили в себя, город с его длиннейшими улицами, пестрыми отблесками неоновых вывесок на асфальте возвращал нам здравый смысл. Заканчивался очередной «гастрономический вояж», как выражалась Бэбс, и эта нью-йоркская фантасмагория, многоцветным ковром возникавшая перед нами, помогала нам убедиться, что мы дома и наши путешествия иллюзорны. С меня было более чем достаточно, порой я молила о пощаде. Но всегда где-то на дальней улице славилась (Бэбс на этот счет была удивительно добросовестна) какая-то шведская или индийская кухня, с которой предлагали ознакомиться, и нам приходилось идти туда. Наша жизнь превратилась в затянувшееся приключение, но Бэбс находила ее абсолютно естественной. От одной страны к другой бродила она со своим блокнотом в руках, ни о чем не задумываясь, вроде тех персонажей из пышных балетных спектаклей, которым достаточно сделать одно па, чтоб элегантно скользнуть из снежной Кубани в пески Востока.
Что еще удалось мне заметить в Бэбс во время этих забавных путешествий? Она была неотделима от «Ярмарки», от широких возможностей этого журнала, от его читательниц. «Ярмарка» была нужна ей, как собственная кожа. Иной раз это пренеприятно выглядело. Она привыкла говорить с отталкивающей уверенностью. А вопросы, которые она задавала без малейшего смущения: «Что у вас, настоящий французский ресторан или же только in the French manner?[17]17
На французский манер (англ.).
[Закрыть]» А чтоб она не сомневалась в национальной подлинности ресторана, метрдотелю следовало говорить по-английски с акцентом французского актера Шарля Буайе, а меню обязано было содержать среди дежурных блюд улиток и лягушек. Бэбс вставала и уходила, если этих блюд не было.
Не один раз мне хотелось напомнить ей о том, что ее секретарши чересчур усердствуют. Невидимые трубы заранее успевали известить о часе нашего прибытия. «Это мешает нашему обследованию, оно становится менее интересным, – говорила я. – Ведь было задумано иначе». Она слушала меня с обычным вежливым видом, а потом отвечала: «К чему нам инкогнито? Терпеть не могу». Когда она попадала в какой-нибудь ресторан и не знала, чем он славится, то обычно заявляла: «Приготовьте нам что-нибудь свое…» Потом терпеливо ожидала. Я своими глазами видела, как она не моргнув поглощала баклажаны с вареньем в одном еврейском ресторане, а в подвале на 51-й улице, где повар утверждал, что он грек, преспокойно занялась фаршированными кишками ягненка, нанизанными на страшенные вертела.
Иной раз мы писали совместно, советовались, сопоставляли наши мнения. Я предоставляла Бэбс начало. Ее работа была деликатней, чем моя. Мне надо было описать интерьер, освещение, рассказать, что исполнял оркестр. А Бэбс следовало описать кухню и обслуживание. Основная ответственность была на ней. Я тайком наблюдала, как она, склонившись над записной книжкой, описывала качества гуляша, телячьих ножек в желе, запеченных молочных поросят, супов в горшочках, венских шницелей, шиш кебаба и после очередного блюда давала краткий диетический комментарий, например «вредно для фигуры» или «трудно усваивается»…
Через несколько недель Бэбс пришла к заключению. Есть две формы питания. Одна – рациональная, международная, апробированная: бифштекс, жареный цыпленок, салат, кофе с молоком. Другая, более легкомысленная, – любопытство к кулинарным вкусам разных народов, чаще всего отсталых народов. «Самых отсталых». Это почти всегда кухня бедняков. Люди расхваливают достоинства супа из турецкого гороха, потому что зеленый горошек им не по средствам. Они злоупотребляют соусами – стало быть, это выгодно. Нечего возражать! Трюк в том, что если густо поперчишь, то незаметно, что мясо неважное, а когда скрипки поют, посетитель и вовсе проглотит все подряд. Вот так-то. То, что зовется в Мексике «чиле», в Венгрии называется «паприкой». Вот в чем дело…
Как мне хотелось с ней поспорить!
Что это за мания у нее все делить по категориям, считать важной сущую ерунду. Вдруг она заявляет, что ресторан княжества Лихтенштейн «безумно интересен». Слово «интересен» говорится с улыбкой, похожей на реверанс в честь маленького княжества и его монархов. Пусть будет так. Ресторанчики «Теленочек Жаклины» пли «Яблочное суфле у Жозефа» она описывала, как «более французские, чем сыр «камамбер», или «ужасно парижские». И это мне было безразлично. Но оленье жаркое без костей, которым она наслаждалась в ресторане «Габсбург», мне опротивело еще и потому, что она не переставала говорить о нем. Некоторые слова на нее действовали с невероятной силой. Она и произносила их особо, как будто это были слова не только звучные, но еще и вкусные. На этот раз совсем не олень показался ей вкусным словом, но «Габсбург». Почему? Ведь не Карла Пятого она ела там. Это меня безмерно раздражало. Но разве говорят о таких пустяках? А кроме того, любые возражения вызывали у нее слезы. Пришлось молчать.
Я ожидала перелома, а это было связано с Италией…
* * *
Когда я увидела Кармине у порога дома, я его едва узнала. Он сидел верхом на стуле, сдвинув шляпу на затылок, и курил. Вот уж не представляла себе, что здесь его встречу. Я только собралась выразить свое удивление, как он спросил:
– Вы что здесь делаете? Давно мы не виделись.
Я рассказала о нашей ресторанной анкете и почему я появилась тут, на Малберри-стрит.
– А ваша подруга? – спросил он меня.
– Мы встретимся вечером. Мне захотелось побыть одной, провести здесь целый день.
Он сказал, что попал сюда случайно, да притом в черном костюме.
– Не приходилось носить черные ни разу.
Оказывается, Кармине участвовал в похоронах одного почтенного старика. Все надо было устроить как можно лучше, в старых традициях. Вот почему на нем черный костюм.
– Здесь это не принято. Но ради него – другое дело. Сегодня у нас грустный день.
– Он ваш родственник?
– Нет.
Кармине перевел разговор на другую тему и спросил меня, что я буду здесь делать.
– Мне нужно подготовить материал к очерку в журнале, – ответила я. – Это хороший повод, чтоб пройти до китайского квартала.
Я рассказала ему, что мне надо описать не только рестораны, где мы были с Бэбс, но также и окрестные кварталы, их атмосферу – словом, внести, по выражению Флер Ли, «нотку экзотики».
– С этакой женщиной, наверное, нелегко встречаться каждый день, – сказал Кармине. Он стоял, опираясь на спинку стула, и мы беседовали.
– Она была не в форме в тот день, когда вы ее видели, – сказала я. – Это выглядело пренеприятно. Но на работе, уверяю вас, она молодец. Такие способности, как у нее, не у всех бывают!
– Возможно, – сказал Кармине, – и тем не менее… Пить начинают с малого, но кончают в канаве. Женщину, которая пьет, трудно от этого отучить. Ужас берет при виде таких. Смириться с этим невозможно.
Я сказала, что знаю о его беде. Кармине удивился, помрачнел и глядел на меня сквозь свои дымчатые очки, будто впервые видел.
– Жизнь, – сказал он грустно.
А почему бы не признаться, что я многое знаю о нем, слышала о том, с чего он начинал карьеру, может, задать ему несколько вопросов? Нет, не стоит.
Кармине закурил другую сигарету и улыбнулся, как будто подумал совсем о другом.
– Вы уже здесь бывали?
– Нет, ни разу. Флер Ли не любит, чтоб бездельничали.
– Может, присядете? Так будет удобней.
Я согласилась, и он крикнул по-английски:
– Чезарино! Стул!
Подошел старый официант в белом пиджаке, мягких домашних туфлях. Он спросил, приготовить ли завтрак, хозяин велел узнать. Кармине объяснил мне, что хозяин – это его отец, а ресторан, у входа в который мы сидим, так и называется «У Альфио». И повторил:
– Альфио – это имя моего отца.
Снова мне хотелось сказать: «и это я знаю». И все же я опасалась сделать бестактность.
Теперь, когда мы уже сидели рядом, я рискнула задать вопрос. Ведь я уже второй раз встретила его сидящим на улице. В Нью-Йорке не увидишь людей, сидящих на крыльце своего дома. Часто ли он так делает, желая подышать свежим воздухом?
– Никогда, – сказал Кармине. – Но сегодня день необычный. Странно, но это так. – Переменив опять тему, он спросил: – Вы давно в Америке?
– Порой мне кажется, что целый век. Другой раз, что совсем недавно и что Флер Ли, Бэбс и журнал – одни только сны. Если б у меня был повод вернуться в Палермо, я бы уехала. Но теперь это не нужно.
– Почему?
Мне пришлось объяснить. Но имени Антонио я не назвала. Только рассказала о нашем розовом доме, выходящем к морю, теперь он уже в развалинах, и о моем отце, умершем в плену в Ливии.
Отец поехал как нестроевой врач. А я и мои братья жили в это время под бомбами. Без воды, без газа, без дров. Бабушка погибла во время бомбардировки. Пошла за продуктами и исчезла. Мертвых и раненых тогда собирали с улиц в старые грузовики, которые с трудом добирались до места. Медицинская сестра не позволила мне войти в морг. Я была слишком молода. И притом, сказала она, там все равно никого но распознать. Все лежат вповалку. Бывают дни, когда я спрашиваю себя, зачем я живу. Понимаете?..
Он ответил, что понимает, и добавил:
– Сам я американец, родился здесь. Войну я всегда считал варварством. Сколько пришлось пережить таким девушкам, как вы! А ведь есть люди – и их немало, – которые считают, что это их не касается и что совесть у них чиста. Это подлые люди или же просто идиоты!
Кармине взял меня за руку и спросил:
– Может, хватит сидеть здесь? – Он крикнул через дверь в ресторан: – Мы пошли! – и предложил: – Погуляем немного, я составлю компанию.
Что было приятным на Малберри-стрит – это запахи. Может, от лотков с фруктами и овощами? Или еще из кухонных форточек, когда жарили мясо – подходил час обеда.
– Хорошо здесь, – сказала я Кармине. – Так не похоже на Нью-Йорк…
Но он раздраженно возразил, сказал, что все здесь отвратительно, постыдно и как бы он хотел увидеть при жизни, что уже нет этих негодных бараков и вместо них стоят не менее хорошие дома, чем на Пятой авеню.
– Вам бы следовало зимой здесь побывать, а не в такой чудесный теплый день, как сегодня, – сказал Кармине. – Не судите, как туристка. Когда идет снег и повсюду грязь, тут не так уж уютно и все выглядит более уныло.
Возражать не пришлось, он сказал это достаточно веско.
Если б не черная шляпа и черный костюм, то я бы и на самом деле поверила, что передо мной американец.
– Пусть я говорю, как туристка, зато вы чересчур убеждены в неоспоримости собственных суждений. Представьте себе, что две спорные истины могут уживаться вместе. Задайте себе такой вопрос: а будут ли счастливы эти люди, дома которых вы хотите разрушить? Понравятся ли им ваши стеклянные тюрьмы? Вы уверены в этом, а по-моему, так – и да и нет. Они будут счастливы, но будут и горевать. Но вас это не интересует. Вы хотите, чтоб все было только но-вашему! Решили, и точка. На мой взгляд, это смешно.
– По-вашему, я смешон?
– Да. Особенно когда хотите поучать вроде святого отца.
– Вы просто не в состоянии понять.
– Что именно?
– Чтобы быть иным, мне надо было иметь других родителей…
– А при чем тут ваша семья?
– Сомнения – это слишком большая роскошь для сына эмигранта и пьянчужки. Вам это не понятно? Вы никогда не замечали, что люди здесь готовы растоптать друг друга? Разве не так? Чтобы выжить, надо всегда делать вид, что знаешь больше, чем сосед. Никогда не проявлять ни малейшего колебания. Утверждать себя постоянно. Это единственный выход. Быть самоуверенным даже в пустяках, в том даже, как носишь шляпу. Если не будешь таким, тебя сожрут, уничтожат.
Он замолчал, потом добавил:
– Вы это называете цивилизацией?
Мы двигались вперед, окруженные целой оравой каких-то людей, ходивших за нами по пятам. Кармине то и дело останавливался. Отвечал одному, другому. Тепло и любезно обращался с каждым подходившим человеком. «Ну как, дедушка, все молодеете?» – это скрюченному старику, державшему кондитерскую «У красотки из Феррары». Или же мило шутил и поддразнивал молодых девушек, покупавших в закусочной гигантские сандвичи «Итальянский герой», еще в витрине манившие внимание прохожих.
Мы шли мимо бара, и Кармине предложил мне выпить стаканчик. Вошли. Навстречу нам поднялись три человека, Кармине поздоровался с ними, поговорил, потом хозяин проводил нас к столику.
– Вы не обиделись на меня? – спросил Кармине, опасаясь, что наш резкий спор мог вызвать у меня раздражение. Потом снова взял мою руку со словами: – Мы живем в стране, где чистосердечие не в почете.
– То есть?
– Каждый здесь думает, что он хозяин своей судьбы, но это иллюзия. Кругом нас множество незримых запретов, все мы под надзором и на виду. Пока соблюдаем правила, все хорошо. Но при первом же проявлении характера или, еще хуже, независимости нас уже берут под сомнение. Вот говорят, что люди здесь сердечные, гостеприимные. Не лишено правды. Они такие. Но в то же время очень недоверчивы, и им не нравится, если вы на них не похожи. Этого не простят. Можно преуспеть в делах, быть со всеми корректным, доказать, что ты человек способный, но и это не поможет. В чем-то ты на них не похож, и это им не по душе.
Я предпочла бы, чтоб Кармине немного успокоился, затих. Это бы нас сблизило. Но ему хотелось поделиться со мной, говорить откровенно.
– Послушайте, я расскажу вам одну историю, и вы поймете, почему тут надо держать ухо востро. Страна, правда, велика, и всем бы хватило места. Тем не менее… Известно, что если про кого-то скажут: «Он итальянец», стало быть, его считают аферистом или плутом. Это уж равноценно, и ничего тут не поделаешь. Как и те незримые запреты, о которых я упомянул, такие понятия крепко укореняются. Я хочу рассказать кое-что о себе. Было это в начале года. Меня считали уже не только лидером округа, но и боссом, главным – называйте как угодно, не суть важно. В общем, если вы предпочитаете это слово, я стал хозяином демократической партии в штате Нью-Йорк. Это был огромный шаг вперед… Не к чему придраться, прошел на выборах. Однако не всем это понравилось. Но вы прекрасно понимаете, что надо выбрать себе другое ремесло, если хочешь жить без врагов. Ловушки держали наготове, и я понимал, что при первом удобном случае мне их поставят. Скоро появилась одна из таких провокаций. Пустили слух, что я кандидат гангстеров, что меня выдвинули преступники. Их деньги и поддержка помогли мне на выборах – вот какие пошли кругом разговоры. Сколько страданий причинила мне эта выходка! Однажды я узнаю следующее: один из членов Комитета по расследованию преступлений, который занимался делом Фрэнка Костелло, спекулянта наихудшей марки, короля всей преступной швали Нью-Йорка, при допросе спросил у этого типа: «Вы знаете Кармине Бонавиа?» И тот ответил: «Да, знаю около четырех-пяти лет». Нашлась тьма доброжелателей, немедленно распространивших эту реплику. Я уже именовался личным другом Костелло, его подставным лицом. Долгие месяцы, вы слышите, месяцы я пытался отбросить эту гнусную версию, защищал свое доброе имя. Жил нищенски, боролся со взятками, воевал против любой коррупции и очистил Таммани-холл от подвала до чердака. Все это было тщетно. Разговоры о том, что я обязан своей карьерой гангстерам Нью-Йорка, не утихали. Иной раз заходили так далеко, что я терял терпение. Вам, конечно, говорили, что я поколотил одного журналиста? Да, так и было. Он нахально заявил мне во время одного интервью: «Вы всегда работаете при закрытых дверях. Дело нечисто, значит, вам есть что скрывать. Вы действительно друг Костелло?» Я встал и дал ему в морду. Еще одна история. Несколько месяцев спустя один шофер такси на заднем сиденье обнаружил забытый кем-то пакет. В нем была тысяча долларов мелкими купюрами. Он передал их в полицию и заявил, что среди пассажиров, которых он возил в этот день, якобы был я. Пресса набросилась на эту новость, соответствующе подала ее, и, хотя я в жизни своей не видел ни этой пачки, ни этих денег, меня тут же назвали продажным типом, заполучившим тысячу долларов.
– Стоит ли так огорчаться? Разве все это новость для человека, занимающегося политикой?
Кармине склонил голову. Возможно, он был со мной согласен. Все эти неприятности и столкновения оставили заметные следы на его лице – не потому ли эта глубокая складка меж бровей, мрачный голос и странная, обеспокоенная чем-то улыбка со сжатыми губами, будто он хотел скрыть свои зубы?
– Извините меня, Жанна, – сказал он озабоченно. – Зря я отнял у вас так много времени. Испортил вам весь день.
– Если вы хотите найти повод для извинения, ищите что-то другое, ничего вы не испортили.
– Можно было разыскать что-то более любопытное, чем мои россказни. В этих местах есть чем поинтересоваться.
– А кто сказал вам, что вы неинтересны?
– Вы серьезно? Это замечательно. Я встретил женщину, которая умеет слушать. Мне всегда этого недоставало. Конечно, есть у нас Агата. Но в ней не чувствуешь женской. мягкости. Она держится в сторонке, как маленький зверек, которого трудно приручить.
Я спросила:
– Вы ее очень любите? Не правда ли?
Кармине ответил, что сам не знает.
– Я часто о ней думаю. Она как далекий и недоступный рай.
– Как нужны такие натуры в жизни! Только их долго помнят.
– И вы так думаете? – спросил Кармине.
– Не будь Агата похожа на зверька-недотрогу, вы бы давно бросили о ней думать. Она была бы как все.
Кармине долго смотрел в окно на прохожих. Все затихло кругом, как будто бы время остановилось.
– Что за квартал, черт возьми! – вздохнул Кармине. – Что за квартал!
Подошел официант спросить, не хотим ли мы есть. И добавил:
– Только влюбленные так увлеченно беседуют и ничего вокруг не замечают. Так или нет?
– Будет тебе, – рассердился Кармине.
Официант пошел, чтоб принести для нас острое блюдо «пиццу».
– Нельзя же сердиться на шутку, босс! Я счастья вам желаю.
Кармине улыбнулся.
– Жанна, – прошептал он, – я бы на целый день остался, только чтоб говорить с вами.
Мне долго помнилось, как он это сказал своим резким, немного вульгарным голосом. А вот то, что последовало, уже было трудно поправить. Как лишнее слово, которое все портит, как снег, внезапно оседающий под ногами, как поток водопада. Я до сих пор не могу этого объяснить. Кармине обхватил мои плечи, сжал меня в объятиях, и это было посягательством на мое прошлое, он не имел на это права. Почему? Не знаю. Так я почувствовала. Вот его рука, что у меня с ней общего? Все это поразило меня, но надо было действовать, найти какие-то слова. Тогда я сказала ему об Антонио. Этого имени было достаточно. Оно было стеной, разделившей нас. Кармине очнулся, мгновенно отрезвев от своего порыва. Все, что могло бы нас сблизить, уже казалось невозможным. Он замолк и нахмурился. Я с вызовом спросила, отчего он онемел. Не потому ли, что я бывала в Соланто и знаю деревню, где столько лет провел его отец? Он покачал головой:
– Не шутите, Жанна! Не в этом дело, и вы это знаете. Соланто, Антонио, Сицилия, барон де Д., его сын, ваша прежняя жизнь – для меня это только слова. Всего лишь слова. Я ведь родился здесь. Но вы продолжаете думать о прошлом. Не отрицайте, это именно так, оно останется с вами до конца ваших дней. Куда бы ни уехали, что бы ни делали, ваша юность неразлучна с вами, прошлое никуда вас не отпустит. Вы как Агата… Это судьба. А мое детство лучше забыть.
Тут не о чем было спорить. Кармине понимал все даже лучше меня. Я про себя шептала: «Вы как Агата… Еще такая же Агата», и мне становилось ясно, что сегодняшнее уже не повторится.
Рассеянное выражение снова вернулось к Кармине. Было трудно определить направление его взгляда – может, из-за дымчатых очков, или же сами глаза были этому причиной – очень светлые, с большим ободком вокруг зрачка.
– Кстати, – спросил он, – знали вы, куда уехал барон, покинув Соланто?
Я покачала головой:
– Это было тайной дона Фофо. И к тому же никого не интересовало. У каждого хватало своих дел, где уж тут проявлять любопытство. После трех лет войны нас занимала одна мысль – надо выжить… – Мне показалось, что Кармине не поверил, и я повторила: – Уверяю вас… Это правда. Никто не знал, абсолютно никто, куда исчез барон де Д.
Кармине понял, что так и было. Тихим голосом он проговорил:
– Сегодня утром мы его похоронили. Он жил тут.
Я растерялась.
– Неужели это так, Кармине? – И он заметил, как расстроила меня его грустная весть.
– С этой смертью трудно смириться, – сказал он.
Он тоже выглядел грустным. Мне хотелось узнать подробности, но Кармине глядел куда-то в сторону. Он подозвал официанта, который тут же воскликнул:
– Вы уже уходите, влюбленные?
Он хотел задержать нас немного, угостить кофе или десертом, кроме того, здесь есть посетитель, желавший поговорить с Кармине. Выпили еще по стаканчику. А я думала, он расскажет мне про все, что случилось «потом»…
Немного позже, на обратном пути, когда мы шли, по-приятельски держась за руки, Кармине вспоминал о последних днях барона де Д. С жаром говорил о нем, размахивая руками и часто останавливаясь.
– Никогда он ни в чем не нуждался! – воскликнул Кармине. – Весь квартал был предан ему. Мой отец считал, что это как в Соланто: ему все подчинялись, как прежде. Вел он себя гордо и не принимал помощи, старался никому не быть в тягость. Барон давал уроки итальянского. Учились у него главным образом певцы. Он любил поддеть моего отца, говоря ему: «И я преуспевающий эмигрант – видишь, мы квиты». И оба смеялись.
Каждый вечер он приходил к нам ужинать. Старый Чезарино затеял подавать ему обязательно в белых перчатках. Что за выдумка?.. Лишь только его звал другой клиент, Чезарино снимал перчатки. Только один барон имел здесь право на такой парад.
Певцы-ученики иной раз снабжали барона билетом в оперу. Старик возвращался оттуда в приподнятом настроении, Музыка была его страстью.
Когда наступило мирное время, барон сказал, что в Италию не вернется. «Не стоит, – сказал он, – меня все будет раздражать. Нужны годы, чтобы страна пришла в себя. Это произойдет не скоро. Народ так много пережил. Конечно, опустился». Он говорил об этом лишь со мной, так это его волновало.
В день, когда барону стало плохо, врач сообщил нам, что больной потерял много крови и трудно надеяться, что он выживет. Я пошел его навестить. Барон лежал с обвязанной головой, выглядел очень слабым. Я пытался уговорить его вызвать сына. Но он рассердился: «Ни сына, ни священника. Мне слишком плохо». Успокоившись немного, попросил: «Пришли ко мне Агату. Окажи услугу. Этого хватит… Перед ней мне не в чем себя упрекнуть…»
Я вернулся уже вечером. Барон скончался. Агата плакала. Перед концом он попросил, чтоб Агата его обняла. Она обхватила его, как ребенка, он прижался головой к ее груди, лбом к ее щеке. Он был в полном сознании. «Не хнычь, Агата. Мы здесь вдвоем. Я и ты. Как это хорошо. А у ложа моего несчастного отца стояло девятнадцать человек… Не комната, а городская площадь…» Барон все слабел. Агата взволнованно взяла его руку, хотела поцеловать. Он благодарил ее, говорил, что Агата пахнет Сицилией. «Там! Видишь… Когда поправлюсь, уедем вместе в Соланто. Пусть пока это наш тайный обет». И он потерял дыхание.
Пока Кармине рассказывал это, я снова вспомнила Антонио в те летние дни, когда война была еще далекой тучкой. Невозможно было себе представить, что Антонио может исчезнуть, что Антонио больше не будет со мной. Из далекого счастливого прошлого всплывали фразы, прекрасные мгновения голубых дней, слова, услышанные в море, когда мы плыли вдвоем: «Жанна, времени больше не существует», и другие, позже сказанные слова, их горький, как у слез, вкус: «Уйди, солдат, прочь», отчаянный плач Заиры, крики женщин, прибежавших из кухни.
Так с нами шутит память. Чем помешать ее проделкам? Нет сил для этого. И я понимаю, что Кармине мне тоже не поможет, он не заменит мне другого, и отчаяние, как прежде, гложет меня.
«У Альфио» меня ждала Бэбс.
* * *
Напрасно я пытаюсь снова объяснить себе, почему так произошло. Не получается. Не все поддается объяснению. «Опять ваши интриги!» – крикнула мне тетушка Рози, громко хлопнув дверью. Она была вне себя. Считала, что я во всем виновата, с яростью вопила в своей комнате, что это моя выходка, я уговорила Бэбс. «Без вас у нее и мысли об этом не было!» – выкрикивала оттуда тетушка. Тогда я пригрозила ей, что перееду в гостиницу, зная, что она не хочет этого не потому, что любит меня, а чтоб не утратить авторитета. После этого она вышла из комнаты с уязвленным видом, начала строить из себя жертву и твердить, что ее никто не уважает, к ней никто не привязан, и я осталась.








