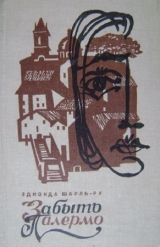
Текст книги "Забыть Палермо"
Автор книги: Эдмонда Шарль-Ру
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 22 страниц)
Человек в черном вышел навстречу Инессе. Она покраснела, ее руки нервно теребили носовой платок.
– Вы приготовили что-нибудь, мадемуазель? Проходите… Ну проходите же!
Он ведет ее, поддерживает.
– Не плачьте так… Возьмите себя в руки.
– Ну вот… Нашлась мне работенка, – прошептала медицинская сестра, готовая вмешаться.
Инесса рыдала. Первый ряд был шокирован. Неодобрительно покачивались аккуратно причесанные шевелюры и накидки из норки. Да, первый ряд был весьма шокирован!
– Ну ладно, ей грустно – это еще в порядке вещей. Но истерика?! Нестерпимо!
– Недаром говорили, что у нее мать пуэрториканка, – шептала тетушка Рози самой себе.
Человек с серыми зубами не знал, как утолить печаль Инессы. Она плакала у него на плече, повторяя: «Самая быстрая стенографистка… Блэзи давала по сто двадцать пять знаков в минуту…» Он отвечал: «Ну да, ну да…», вытирал ей лицо и баюкал как ребенка. Глядя на них обоих – на нее, уцепившуюся за него, разбитую и как бы лишившуюся силы ходить, и на него, очень официального, в своем костюме с полосатыми брюками, – можно было подумать, что перед нами чревовещатель, который держит свою партнершу, копеечную куклу с волосами из пакли и головой, слепленной из папье-маше.
– Ладно, ладно… Успокоитесь, скажите то, что вы хотите!
Инесса проглотила рыдание, обняла шею церемониймейстера и кивнула головой в знак согласия. Он помог ей повернуться лицом к публике.
– Так… Так… Вот теперь вы уже разумная, хорошая девушка…
Инесса вздрогнула, ее затрясло как в лихорадке. Она побледнела, уцепилась за костюм распорядителя, потом за его жилет, схватила за руку, потянула ее к себе и наконец рухнула к его ногам с жалобным стоном: «Ах… Поцелуйте меня… Я ее так любила…»
– Переутомление, – констатировала медицинская сестра, быстро вставая со стула.
…На голубом фасаде кинематографа, выходившем на тротуар Мэдисон-авеню, красовался монументальный, волосатый и мускулистый Кирк Дуглас – отличный пакет розового мяса. Этот образ сразу изгнал из моей памяти Блэзи под ее пуховым одеялом. Чуть подальше в витрине кафетерия лежали холодные цыплята в своих целлофановых чехольчиках. Они выглядели печально, но по крайней мере не улыбались. Пройдя еще несколько метров, я совсем перестала думать о Блэзи. Решительно, воспоминание о ней не имело для меня никакого значения. Да и существовало ли оно? Бывают воспоминания неразлучные, непременные, как детство. То, что я увидела на похоронах, не могло войти мне в душу и вызывало неудержимое желание забыть, избавиться, исторгнуть физически, безразлично где – у афиши кино или на пороге кафетерия.
Это может показаться странным – желание не помнить. А ведь по этому признаку узнают человека, находящегося на чужбине.
* * *
С тех пор как я приехала в Нью-Йорк, прошло много недель, а мне все еще не удавалось ни отрезать от себя прошлое, ни излечиться от желания мысленно возвращаться к нему. А ведь пора было стать более благоразумной, жить настороже, как это делают больные, для которых малейшее движение может стать роковым. Мне не хватало опыта. Бывало, что при виде простого телефона возникали целые ассоциации мыслей, звуков, образов, множащихся с молниеносной быстротой. Я слышала голос, шепчущий мне что-то успокоительное, как будто бы любовь может стать сильнее смерти… Я грезила наяву. Когда эти настроения возвращались ко мне, Бэбс смотрела на меня потрясенная, это было простительно, ведь она не знала причин моей печали.
– Да что с тобой такое? – спрашивала она.
– Ничего… Мне надо позвонить в Палермо.
– Ну сделай это и перестань смотреть каждую минуту на часы.
– Не могу никак кончить статью… Мне не хватает одной туристской справки.
Зная, как часто меняется мое настроение, Бэбс умолкала и принималась за работу, а я уходила из редакционного зала, заявив, что мне нужна тишина и пустая комната, где бы никто не мешал телефонному разговору со столь далеким городом. Едва я оставалась в одиночестве, как мучивший меня голос менял свой тон, а может, я сама переставала верить в его утешительные речи. Я вспоминала… Телефонная трубка выпадала у меня из рук. Тогда я прибегала к превосходному лекарству – выходила на улицу. Ибо Нью-Йорк действовал на меня, как пожар, поглощающий разгоревшуюся искру. Повсюду я видела Сицилию, и эта работа моего воображения позволяла мне сохранять равновесие. Сколько бы ни длилась моя прогулка – час, все утро или целый день, она заканчивалась скитаниями, окутанными прекрасной дымкой моих видений.
Примерно тогда, мне кажется, я стала отговариваться тем, что в стенах редакции мне трудно находить темы для моих статей.
Флер Ли, знавшая, что я отсутствую часто, заявила, что, если мой метод работы докажет свою эффективность, она ничего не имеет против. Она не пожалела красноречия, чтобы разглагольствовать о тайных дорогах, ведущих к успеху. Этим она дала понять, что журналу может стать полезной новая манера работы. Потом был сделан намек на то, что она называла моей «профессиональной неорганизованностью», моими «странностями», сказала, что я безумно растрачиваю время. Видимо, Флер Ли ожидала от меня откровений.
– Ну, когда-нибудь вы скажете мне, почему вы такая…
Я ничего не ответила ей. Флер Ли была не из тех женщин, которые могли бы понять, как можно жить, лелея проблеск надежды.
* * *
Скитаться в городе, где мечтаниям нет простора, где тоска держит тебя в неотвязных тисках… Следовать вдоль Пятой авеню, когда хочется скрыться от всего этого… Беспокойно твердить себе: «Мне нравится бесполезное, величественное, я хочу видеть мраморные фигуры на разрушенных временем фасадах, хочу заблудиться в запутанных улицах, хочу, чтоб в моем квартале громко звучали песни и настежь были открыты двери баров. Я хочу на перекрестках видеть троеликих богов, скульптурные аллегории, струящиеся фонтаны, обычные в моей стране, хотя там воды не хватает. Я хочу загадочности, мне не хватает легенд, драконов, просторных садов и больших звезд в небе, я хочу Палермо». И что же я вижу здесь взамен всего этого? Какое-то строительство и облако пыли, клубящейся над ним. Вблизи останавливается машина. Шофер тоже смотрит на это.
– Вчера здесь был дом, – говорит он веселым голосом. – А сегодня ничего нет… Пусто. Здорово, а?
Он говорит это от души. Внезапная пропажа дома смешит его. Сказать ли ему: «У нас почти три четверти всего было разрушено… А то, что сохранилось, заботливо оберегалось, подкреплялось, а если не хватало возможностей восстановить, то люди покорно жили среди руин…» Но не удастся мне заинтересовать этого человека. Ему это абсолютно безразлично, какое ему дело до того, разрушаются ли дома в Сицилии. Просто надо перестать об этом думать, толку нет от этих мыслей. Чего же ты ищешь, Жанна? Сюжет для прогулок, нужный читательницам «Ярмарки»? Ничем другим незачем интересоваться. Флер Ли сказала напрямик: «Вам надо увлечь неизвестных вам читательниц. За это вам платят. Не теряйте понапрасну времени на улицах, будьте внимательней. Любой прохожий может стать нашим читателем».
И добавила: «Пожалуйста, без поэзии. Дайте что-то непосредственное… Придерживайтесь фактов. «Ярмарка» – журнал весьма конкретный». Эту фразу она подчеркнула решительным взмахом руки, показав свои красивые точеные пальцы. «„Ярмарка“ должна быть полнокровным изданием, понимаете? Ей требуется что-то энергичное».
Я понимала. Но что же предложить им, этим строителям, увлекающимся прозрачностью? Как запретной радостью, они тешатся стеклом. Делают дома из дымчатого стекла, хотят, чтоб стены отражали меняющиеся формы города, который не имеет прошлого. Можно ли отторгнуть прошлое? Откуда-то изнутри, из глубины голубых дней былого пробуждается захватывающее воспоминание. Оно как живой родник, как стремительный поток, прорвавшийся через затворы памяти. Сколько времени следовало за мной воспоминание о каменной стене, которую я так ясно перед собой вижу, покрытой диким жасмином и жимолостью. Вся стена полна жужжанием мошкары. Здесь, лежа в траве, мы впервые поцеловались… Поцелуй в глаза, в губы… А несколько лет спустя, здесь же, когда появились в небе самолеты, я потеряла детскую веру в то, что жизнь будет вечной, потеряла так, как теряют невинность, в той же траве, с пригоршнями земли в руках и мольбой на устах. Можно ли забыть эту стену? Люди не знают, как много могут значить камни. И эта стена, вся в пробоинах, висящая над обрывом, все еще укрывает, спасает, всеми силами сопротивляется, и навсегда эти руины стали убежищем воспоминаний о моей погибшей любви. Люди, не имеющие жилья, сушат здесь, на этих камнях, свою одежду после стирки. Об этом рассказать читательницам «Ярмарки»? О том, как убивали Палермо? Есть в этом что-то непосредственное или же конкретное? Оставалось три дня до праздника святой Розалии, и вот в разгаре ночи настал конец света, такое слепящее зарево, что земля уходит из-под ног, крушение мира возвещают колокольни, падают бомбы, а розовый ураган цветов лавра и аромат деревьев, как и прежде, окутывает город своим душистым дыханием. Рассказать об этой ночи читательницам «Ярмарки»? Мрачная музыка смерти, несущаяся с небес, обрушивалась громовыми ударами на землю, окровавленные марионетки, всеми забытые, валялись на тротуарах, стонали: «Помогите… Доктора…» Эти дрожащие голоса жаждали помощи, а старая больничная таратайка была где-то далеко или сама укрылась от гибели – кто знает… А топот полицейских? Тесный круг проклятых фашистов со сжатыми кулаками, надвигающихся четким, отработанным шагом на разгневанную толпу, чтоб убивать, хватать, грабить. А крики женщин, доносящиеся из темных развалин? О мой город, несчастный мой город… И обезумевшие от ужаса ласточки, взлетевшие и кружащиеся в небесах…
Но «Ярмарка» не место для несчастий. Таков приказ Флер Ли. Наш журнал рассказывает о счастливой жизни, о богатстве и женщинах, которым сопутствовала удача. Разве ты забыла, Жанна, послание, которое тебе вручили? Это указание дирекции, памятка. Таким словом здесь называют письменные инструкции, и когда их дают вам – это уже дурной знак. «Ваша задача не в том, чтобы делиться воспоминаниями с читательницами. Вам платят за то, чтобы вы их развлекали. Опишите им местный колорит». Ну хорошо. Что бы сказала Флер Ли о мосье Джузеппе? Не правда ли, это могло б подойти? Такой забавный персонаж – посредник в разного рода делах. Ох, и трудное у него ремесло – дни напролет торчать в мэриях, стоять в очередях по делам своих состоятельных клиентов, повторять с утра до вечера в коридорах: «Да, уважаемый господин…», «Ну конечно, ваше превосходительство…» Вечно быть занятым уговорами чиновников, а при случае уметь всучить и взятку. «Какие пустяки, почтеннейший…» У него своя особая манера знакомиться: «Мосье Джузеппе к вашим услугам, вот он я». И низкий поклон. Выглядит неизменно корректным, его не видели без галстука. Это чемпион по улаживанию в кратчайшие сроки различных дел. Он славится как мастер по составлению нотариальных актов и приобретению белых билетов для желающих освободиться от воинской службы. Нелегкая это штука – раздобыть такое удостоверение. «Ваше превосходительство, поверьте моему честному слову – мой клиент тяжко болен, это неизлечимая наследственная болезнь, ни один врач не в силах ему помочь, к тому же у моего клиента плоскостопие». Плоские стопы… Пятьдесят лир, ну, в лучшем случае сто лир – вот и все, что получит мосье Джузеппе, если ему удастся вырвать такую бумагу с печатью и всем, что там полагается… Ну как, подходящий сюжет – наш сосед? Это лучший в Палермо делец, он всегда в пиджаке, даже в самое жаркое время. И вдруг я вижу его в одной рубашке, бегает по развалинам, роется в них, вопит в поисках жены: «Агата моя, Агата!» Он шатается, одежда на нем разорвана в клочья, только одна нога в брюках, а на другой видны эти ужасные желваки, у него расширение вен, заработанное, видно, долгим стоянием в очередях, отвратительно вздутые кровоточащие узлы. «Агата моя, Агата, колокольчик мой, колоколенка, голубка, сахарная моя…» Он тогда нашел только ее кофейник и прижимал его к себе, драгоценный кофейник, сокровище фирмы «Везувий», всего на две чашки кофе. Нет, мосье Джузеппе не нужен «Ярмарке». Флер Ли такого не захочет. Она считает, что в хорошо организованной демократии подобным людям делать нечего. «У нас нет посредников в делах. Если надо, все стоят в очереди. Прошу вас, Жанна, оставьте своего мосье Джузеппе в Сицилии, и не будем больше о нем говорить». Стало быть, нужен другой сюжет. И снова я пускаюсь в путь. Опять бродить среди этих гигантских обитаемых колоссов, лицезреть эти удручающие душу башни, размножающиеся с безумной скоростью, глядеть на это сомкнутое стадо массивов, пронзающих небо, сверлящих, насилующих его. Маленькие человечки, устроившиеся на досках, подвешенных под самой его твердью, наводят лоск на эти дома, чистят их, моют, протирают совсем так же, как это делают мойщики посуды.
Ни скамейки вокруг… Ни скверика. На всех перекрестках – новостройки, они лезут вам в глаза настойчиво, как непреходящий кошмар. Опытные работники следят за движением подъемных кранов, учитывают их работу, составляют графики. Один из них особенно внимателен, для удобства рассказа я буду звать его Предпринимателем. С большой буквы. Вот та машина, вращающаяся непрерывно, особенно нуждается в его внимании, она раскрывает свою страшную челюсть, захватывает полупрозрачную плиту и двигается дальше, увозя свою добычу. Совершенно ясно, что без него машина осталась бы неподвижной, парализованной, была бы просто огромной виселицей, вздыбленной в небо Нью-Йорка. Но Предприниматель здесь, и он смотрит на нее из-под широких полей своей шляпы. В Палермо, как только наступает вечер, похожие на него парни стоят неподвижно, как статуи, и вот так же не отрывают глаз от некоторых особ, фланирующих по улице. Можно сказать, что аналогия тут вполне уместна. Здесь тоже дело в том, чтоб все рассчитать. Эта гуляющая куколка на высоченных каблуках пристает к прохожему и пытается его уговорить и увести. «Ты знаешь, что такое любовь, дерьмо ты этакое? Здесь таких, как ты, и не видывали! Прямо дикари, а не люди. One dollar. Do you understand? Ну за доллар, договорились? Понял, что ли?» Она гладит его, щиплет, цепляется за него, пока не затолкнет в какой-нибудь барак, безлюдный подвал, погреб, куда попало… Ну и крик тут поднимался! Ну и шум! Потом внезапно наступала тишина. Все у них отнимали, у наших «освободителей»: бумажники, документы, деньги, фотографии – все. Они пробкой выскакивали из подвалов. Выкрикивали свой военный номер, род войск, звание, как будто это могло помочь. Требовали, чтоб немедленно явился комендант. Им отвечали: «Да, синьор. Конечно. Сию минуту, синьор». Но никто не двигался с места. Никто, оказывается, ничего не видел. Ничего и не слышал. Стоило посмотреть в тот момент на лица этих победителей…
Предприниматель доволен. Это видно по его лицу. Даже самая красивая и шумная девчонка из Кальсы, так ловко вращающая бедрами, что засомневаешься, есть ли у нее позвоночник, даже все они, вместе взятые, из Катании и Мессины, в узких облегающих юбчонках, с красивыми цепочками на шее и медальонами, аж шевелящимися между грудей, девчонки, которые превращают мужчину в идиота, делают его безмолвным, лишают его дыхания, аппетита и всего прочего, – даже им не удалось бы отвлечь Предпринимателя от его дела. Только машина и записная книжка в руке – больше его ничто не интересует. Он, заполняет листок, не сводя глаз с машины.
– Само совершенство! Уж эта не имеет соперниц.
Ему очень хочется перечислить мне все ее лучшие качества. Говорит, говорит… Не может остановиться. Какой же у него уверенный вид, сколько убежденности, превосходства и снисходительности! И как все это меня раздражает! А он все тянет свое:
– Тридцать этажей. Мы их скоро закончим. Чудеса она делает, – говорит он с нежностью, глядя на машину.
– Чудеса?
Смотрите, как он забеспокоился:
– А вы знаете более мощные? Где вы видели лучше? Ну где же?
Да, конечно, я видела лучше, в тысячу раз лучше – в Сицилии, на краю одной дороги, ведущей к береговому обрыву. Там Полифем одной рукой швырнул в море мрачную скалу, прорезанную пещерами, в которые можно въехать на лодке, чтоб укрыться от солнца. Да, он это сделал. Одной рукой сбросил всю эту громаду с утеса. Черт знает какую ломку устроил… Ничего подобного ваша машина не сделает. Сказать ему об этом, что ли? Так не поверит же. Подобный человек не сможет допустить, чтоб эскиз берега изменился из-за плохого настроения какого-то циклопа. Не в его принципах придавать значение этаким бредням. Но у тебя, Жанна, были свои доводы. «Я тебя буду ждать под скалой Полифема…» Можно ли это забыть? Всем хорошо известно, что на свидание туда отправляются в лодке. Боишься, что заблудишься в скалах, – надо окликнуть: «Где ты?» А волны все плещут и бьются о скалу Полифема, о какую же, ведь их по меньшей мере три… Сами знаете, как все это действует на подростков, становящихся втайне взрослыми. Только они еще немного в разладе с новым для них миром.
Однако я отвлеклась. Ну что же, поспорить с этим незнакомцем? К чему? Но он настаивает, хочет знать точно:
– Если вы видели лучше этой, расскажите подробней.
Да, лучше, куда лучше. В Вальверде. Там своды главной церкви были расписаны в одну ночь рукой свыше. Да, да, небесной рукой, вы меня поняли? Автопортрет мадонны, удивительно, а? И тем не менее так. Иначе не объяснить, как появилась эта картина столь внезапно в глухой деревеньке в долине Демона, как бы в возмещение за действующий опасный вулкан и вечные землетрясения. Ты это расскажешь Предпринимателю, Жанна? Ведь он смотрит на тебя. Он очень благожелателен. Чего он от тебя ждет? Да, конечно, поддержки, ему требуется утешение. Американцам это очень нужно, их стеклянные дома, сооруженные в эпоху опасности с воздуха, играют ту же роль в нью-йоркском пейзаже, что и сильные успокоительные средства, которые они энергично применяют. Они тоже поддерживают оптимизм.
– Слушайте, если вы видели более совершенные…
– Крепость, построенную без помощи машины, нависшую над самой бездной и в таком ракурсе, что от одного взгляда на нее начинается головокружение.
– Любопытно. А где это?
– В Сицилии, на крутой скале…
– Трудно представить архитектора, который…
– О, знаете ли, архитектор…
– Так ведь он был… С машинами или без них?
– Там говорят, что это был Сатурн… Я ничего не выдумала, поверьте. Это называют Аркой Сатурна. Другого объяснения нет.
Что ты сделала, Жанна? Все пошло к чертям. Теперь с этим незнакомцем говорить нечего. Ведь тебя предупреждали. А инструкции Флер Ли? Почему ты забыла о них? «Уже тридцать лет мы несем ответственность за судьбы наших публикаций и, как нам кажется, хорошо знаем свою аудиторию. Основное правило: не возражать ей. Аудитория полагает, что вы с уважением относитесь к ее убеждениям. Итак, ограничьтесь экзотикой, колоритом. Увлечение прошлым – это ненужные грезы». Что ты сделала, Жанна? Он тебя выгонит отсюда.
– Каждый имеет право на свою точку зрения. Вы позволите мне иметь свое мнение, не так ли? А теперь вон отсюда! Убирайтесь! Вход на строительство запрещен. Не нужны тут посторонние, крутятся, шпионят да еще издеваются.
Еще немного, и он выразится словами директорской памятки: «Вы иностранка, не забывайте этого».
Своими нелепыми разговорами и замечаниями ты его разозлила, Жанна. Он ненавидит иностранцев. Он орет:
– Слишком вас тут много! Черт знает кому мы даем приют, всем кому попало. Все это лодыри, жирные твари, белоручки.
Он испытывает к ним страшное отвращение, откуда бы они ни пришли, кем бы ни были, да и ко всему их прошлому с их пещерным жильем третичной эпохи, с тяготами и грязью их жизни. Пусть они возвращаются туда, откуда явились. Все это рвачи, все они одинаковы. Раз ты тут, Жанна, придется за всех расплачиваться. Как из мешка, сыплет он на тебя кучу бранных кличек, какими на нью-йоркском жаргоне награждают итальянцев, испанцев, евреев, всех этих смуглых, нежелательных, невежественных, явившихся со дна людского, уроженцев жалких земель, всех этих паразитов, подыхающих с голоду… Чего от них ждать, спрашивается?
– Wop… Dago… Spike… Kike… Убирайся, кучерявая. Тут для тебя слишком хорошо.
Конечно, твой собеседник, Жанна, не сдержит слез при виде статуи Свободы – ведь для него это символ родины, терпимости, гостеприимства. Он ее очень любит. Этому способствует и ее внешность: лоно матери, респектабельность, скромность, благоразумие. Она стоит лицом к этим жалким землям и светит им издали, как желанный маяк. Но этот факел, которым она потрясает, подобен крепкой полицейской дубинке. По воскресеньям вместе с семьей он тут гуляет и любуется ею. Но сегодня будничный день. Ты, Жанна, похитила у него время, которое он должен провести со своей машиной. Твое присутствие здесь не требуется, ты ему осточертела. Вон он уже плюет. Шарик жевательной резинки попадает тебе прямо на носок туфли. Он дает тебе понять, что пора убираться, выгоняет тебя. «Пошел прочь, мусульманин!» – слышалось, бывало, в Палермо, только слова эти звучали без всякой злобы. Этого неотесанного человека вспыльчиво выбранили бы мусульманином просто по привычке. Вот уже пятьсот лет так говорят: «Заткни глотку, мусульманин!» Фраза эта появилась в те далекие времена, когда вторгшиеся варвары громили берега Сицилии. Черные галеры и красные паруса… Громили, штурмом брали города, увозили женщин и оставляли за собой только трупы. Все это глубокая древность, но и ее иной раз неплохо вызвать из небытия, чтоб заново воскресить страхи прошлого. «Прочь, мусульманин!» Это почти не брань. Просто вошедшая в быт поговорка, к которой еще можно добавить: «Пусть тебе сатана нос утрет». Чего тут молчать? Балагурство никому не вредит. Подумаешь… Никакой ненависти тут и не примешивается. Просто надо освободиться от начавшегося раздражения, этого мелкого демона, и изгнать его наиболее безобидным образом: «Прочь, мусульманин!» Ну и побранись по-молодому, побреши, наври, дай выход разбушевавшимся чувствам: «Ну и морда у тебя, даже треснуть, и то противно». Иногда почувствуешь себя крепче, мужественней, но при чем тут злость? Давно известно, что ругань стареет, как и люди, которые ее придумали. Брань также покрывается морщинами, теряет свой смысл, вянет, и на нее садится пыль, и все-таки она продолжает быть в ходу. Ну что же, выскажемся.
– Прочь, мусульманин!..
Теперь у нас равный счет.
Сегодня меня ждут в «Ярмарке», журнале немыслимых успехов в жизни, шикарных туалетов, просторных апартаментов и непомерного богатства. Являешься с двухчасовым опозданием. Встречают с какой-то слащавой значительностью и лицемерными улыбками, возникшими на почве всяких сомнений, связанных с моей личностью.
– Ну, что нового?
Взгляд Бэбс и ее полная внутреннего волнения улыбка достаточно ясно выражают, что ты, Жанна, просто ходячее бедствие, наисквернейший пример для других, ты кончишь тем, что тебя вышвырнут за дверь.
– Ты, видно, не спешишь, да и со статьей не торопишься…
Стражи порядка штурмуют меня со всех сторон – ворчание секретарш, редакторские пожимания плечами, а телефонистка с презрением бросает мне кучу принятых ею указаний.
Вы заблудились? Это, наверно, единственное объяснение. Нет? Увлеклись спором. Скажите, пожалуйста, и с кем же?
Вы, конечно, догадываетесь, что в редакционном зале атмосфера несколько перенасыщена скрытой враждой между пожилыми женщинами в поре заката и молодыми карьеристками, готовыми подмять их и прочее… И вот я подвернулась как глоток свежего воздуха. Кое-кто пытается проявить лживый интерес или просто для забавы силится вовлечь меня исподволь в одну из сальных бесед «с перчиком»… ну, европейского пошиба: «Не было ли у вас свиданьица?..» Нет, не дать себя поддеть. Сдержаться. Можно себе представить, какой бы невероятной выглядела в их глазах эта внезапно затеянная на улице дискуссия с незнакомым человеком, и эта грубая перебранка, и взрыв ненависти к иностранцам, обрушившейся на меня как удар грома. Я инстинктом ощущала, что мой рассказ об этом не имел бы ни малейшего успеха и что он мог быть просто «вредным для редакционной карьеры», если следовать терминологии тетушки Рози. Но и мое молчание портит дело… Все смотрят прямо на меня. Вот там, у телефонов, те, кто за столами, кто за пишущими машинками, да еще и главная редакторша, торжественно приступившая к поучению:
– Необходимо, чтоб каждое наше движение, каждая наша мысль могли стать для читательниц журнала хлебом насущным. Все наши поиски и замыслы призваны усилить влияние наших статей.
– Я знаю… Я знаю.
Сию старую песню я знаю просто наизусть, и от пронзительного голоса Флер Ли меня начинает мутить. Хотя это ее обычный тон, мне кажется, что голос ее стал еще пискливей, еще скрипучей, чем прежде. Может, она выпила больше чем следует. Это с ней случается в штурмовые дни, когда журнал запаздывает с выходом или же его тираж падает.
– Беда в том, Жанна, что ваша оригинальность не всегда уместна. Слишком часто вы забываете о том, что наши читательницы жаждут воспринять от нас благовидные, пристойные чувства. Вы понимаете? Путешествие для них означает только одно – яркие, эмоциональные впечатления, которыми будет приятно поделиться в дружеском кругу. И не больше. Ну и дайте им то, чего они от вас ждут.
Я безгранично устала. На меня напала тоска.
Пока Флер Ли продолжала свою речь, я чувствовала, что меня охватывает поток еще не ясных мыслей, какое-то предчувствие, еще расплывчатое, туманное, предчувствие того, что в недалеком будущем случайности жизни дадут мне возможность внести смятение в сердца таких вот образцовых, энергичных, преуспевающих женщин. Ну, если не всех, то хотя бы одной из них (пусть бессознательно, это, видимо, было предчувствием того, чем для меня станет встреча с Кармине Бонавиа и какие она будет иметь последствия). Это было чувство надежды, что настанет день, и Соланто будет известным, и одно это слово, одно это имя, произнесенное вслух, воскресит в Нью-Йорке потерянный континент, его просторы, душистый запах, скалы, возродит мертвый мир – мой мир и возбудит желание побывать в тех местах, мечты о лодке, о весле, скользящем по воде, о влажной земле в час полива, о солнце, уходящем на закате за пурпурные скалы. И я сама удивилась тому, что вдруг порывисто воскликнула каким-то новым для себя тоном: «У вас будет эта статья. Скоро получите».
* * *
– Ты неплохо вышла из положения!
Бэбс одобрила мою работу. Я ей прочла, свой очерк. Она «шла» за мной до самой виллы, видела лежащие в траве обломки разрушающихся статуй, и ей тут было по душе. Я помогла ей оценить прелость этих мест. И старую стену крепости с каменными персонажами легенд и сказок, описанную мной со всеми деталями. Она увидела чудовищ-тарасков, которых и поныне в виде чучел носят в праздничных процессиях. Перед ней шли изображенные в камне калеки, сатанинская орда злых волшебников, по ночам превращающихся в волков и преследующих людей; появлялись невиданные змеи, на хвостах у которых вторая голова, сказочные животные из рыцарских романов, полулошади-полугрифоны, люди-собаки, играющие на незнакомых инструментах, танцующие толстяки – мамамуши[7]7
Этим словом Мольер называл в комедии «Мещанин во дворянстве» чванных вельмож.
[Закрыть], еще какие-то смешные фигурки с голыми задами, присевшие на задние лапы. Я вызвала для нее в памяти и странный огромный силуэт статуи в высоком парике, какое-то лунное страшилище, маркиза из ночного кошмара, сторожившего этот покинутый сад.
Бэбс слушала меня с увлечением, пожалуй искренним.
– Это покажется интересным… Я думаю, что многим захочется побывать в этом доме.
– Почему же?
– А потому, что этот дом из волшебных сказок… – Вроде Диснейленда, только восемнадцатого века. Эти твои храмы, знаешь ли… Сегест, Агридженто… Прежде всего все они похожи, и у тебя волей-неволей создается впечатление, что ты их уже видел или какой-то из них что-то напоминает. Колонны, фронтоны… Вашингтон полон всем этим. А вот твои гномы…
– Ты так думаешь?
– Да я уверена в этом… Только условимся, что ты расскажешь о смысле всех этих украшений, а если у тебя не найдется нужного объяснения, то ты можешь заявить, что все это тайна, над которой мучаются самые знаменитые археологи. Другого пути нет. Наши читательницы терпеть не могут, когда их сбивают с толку, и я их понимаю. Зачем тогда тратить на этот журнал пятьдесят центов?
– Не надо волноваться…
– Хорошо. Что же означают эти статуи?
– Это символы, которые спасают.
– От чего? – Бэбс притворялась, что не понимает.
– Спасают от темных сил, – повторяла я терпеливо. – Заколдованная стена, иначе говоря.
– И эти нелепые вымыслы ты находишь серьезными, хочешь, чтоб я в это поверила?
– Да что ты видишь в этом нелепого? Не веришь в сверхъестественное? Но это вполне серьезно.
Бэбс возмущенно тряхнула звенящими браслетами. Даже не нашла что сказать. Ее лицо странно застыло, и я подумала, что она вот-вот заплачет. Как будто внезапно лишилась твердой опоры. Но какой? Может, тетушки Рози, служившей ей зеркалом, в котором она привыкла видеть отражение своих мыслей? При соприкосновении с чем-то уводившим ее в сторону, к тому же, по ее мнению, достойным полного забвения, как и все прочие легкомысленные измышления людской отсталости, Бэбс испытывала чувство смятения. А я настаивала на своем.
– Если признать, что некоторые явления не подвластны контролю человека, то…
– Мне противны такие разговоры.
– Но тебе придется делать это.
– То, что не поддается объяснению, унижает меня.
– И все же это не причина, чтобы так раздражаться.
Бэбс смотрела на меня с волнением. Глава ее были полны слез.
– Но, Жанна, я хочу одного – убеди меня. Если подобные явления существуют на самом деле, поговорим о них. Я жду твоих разъяснений. Говори. Как, например, распознать дурной глаз?
– Это невозможно.
– Почему?
– Чем он зловредней, тем меньше об этом знают.
– Люди, которые хитрят, противны мне, – отрезала Бэбс с вернувшейся к ней уверенностью. – Это лицемеры.
– Не понимаю, при чем тут лицемерие?
И опять я разозлилась. Бэбс не понимает, потому и сопротивляется. Все, что я рассказывала, не было заранее предусмотрено. Просто ключом били, искрились все эти воспоминания, доставлявшие невероятную радость. Они появлялись подобно песенкам, мелодии которых, едва возникнув, влекут за собой самые разные ассоциации. Вспомнится забытый мотив, насвистываешь его, потом тихо напеваешь и спрашиваешь себя, как это мне удалось припомнить? Так я позволила в этот момент воскреснуть всем страхам моего детства. Я не виновата в том, что на этот раз они мне показались куда опасней, чем в те времена, когда я узнала их впервые. Мне не хватало, пожалуй, настоящей английской гувернантки, хорошо накрахмаленной согласно викторианским традициям. Но в Сицилии не в ходу подобный товар, и нас поручали до монастырского воспитания просто попечению кормилиц. И виновата ли я в том, что, как только я стала соображать, меня до десяти лет начиняли всякими вымыслами о мертвенно-бледных молодых людях (это всегда были единственные сыновья), иногда благородного происхождения, которые погибали от дурного глаза ненавидящего их соседа? Слышала я и о том, что достаточно пробормотать сквозь зубы определенные магические изречения, и лодка тут же пойдет ко дну или брат влюбится в сестру и одно за другим начнутся самоубийства. И что я могла сделать, если подобные бредни казались мне вполне возможными? Востоку ли, Азии, которых я не знала, или же капле чужеземной крови обязана я этой приверженностью и суевериям?








