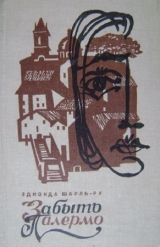
Текст книги "Забыть Палермо"
Автор книги: Эдмонда Шарль-Ру
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 22 страниц)
Глава IV
А что делают вечером? – спросил он.
В Америке по вечерам все сидят и едят.
Элио Виторини
Он сказал себе: «Я пропал», услышав над собой шум. На высоте его головы появились чьи-то ноги. Он еще раз подумал: «Пропал», – в полном убеждении, что человек, которому принадлежали эти ноги, убьет его. И поспешно закрыл глаза, чтобы не видели, что он еще жив.
– Ты меня слышишь?
Голос казался скорее смущенным, чем грозным. Опять:
– Ты меня слышишь?
И Джиджино удивленно приоткрыл глаза. Он быстро оглянулся и увидел себя лежащим на земле. Решил, что умирает, и снова потерял сознание.
Как в тумане слышал он шум, чьи-то шаги, голоса. Ему показалось, что на плече у него лежит чужая рука, и он застонал.
– Опять в обмороке, – пробормотал голос.
И Джиджино понял, почему он ничего не чувствует.
Самым неприятным было что-то мокрое, что текло по спине. Пот? Нет, пот не такой липкий. Значит, кровь.
– Надо заткнуть, черт возьми…
Кладут повязку, пытаются прекратить кровотечение, что-то говорят.
«Меня, кажется, перевязывают», – подумал Джиджино.
Он попытался совладать с головокружением, силился ровней дышать и медленно приходил в себя. Увидел подвал, в который через отдушину проникал свет и запах рынка – едкая смесь соли, прокисших водорослей и влажных корзин для рыбы. Это были знакомые запахи. Он повернул голову, осторожно оглядел потолок, а потом заметил человека, черные очки которого так дико выглядели в этом погребе. Он подумал, что ошибся. Но темень не была уже такой плотной, и сомнение отпало: это был тот самый американец, который хотел убить его, теперь он стоял рядом и улыбался. И улыбка у него была другая, робкая, почти смущенная, не такая самоуверенная, как прежде.
– Мне очень жаль, – сказал Кармине. – Я в самом деле очень сожалею.
– Меньше, чем я, – злобно ответил Джиджино. Но он тут же сдержался, подумав: «Злиться сейчас не время», и договорил: – Ну ладно, привет, – уже более примирительным тоном, вежливо, мягко, как молодой человек, пришедший в гости.
– Привет! – ответил Кармине.
И между Джиджино и тем, кто ударил его ножом, начался почти спокойный разговор.
– Зачем мы здесь? – спросил Джиджино.
– Люди помогли нам укрыться.
– На рынке была полиция?
– Да.
– А, я так и понял, – сказал Джиджино.
– Что ты понял?
– Эти люди думали, как себя выручить.
– Выручить? От чего?
– От всего… Мы в неподходящее время вдруг стали драться у их дверей. – Джиджино подумал и добавил: – Как бы то ни было, они правильно поступили. Я здорово рисковал.
Кармине огрызнулся:
– Так ведь я еще больше тебя рисковал, а?
Джиджино здоровой рукой показал, что это не так.
– Нож-то был у меня, – опять сказал Кармине.
– Ах, это! Драка – это пустяки. Тут найдешь, как отбрехаться. – Джиджино вздохнул. – У меня дело серьезней. Я торгую без патента. Пять раз попадался. Здесь не такая уж легкая жизнь, понимаешь?
Кармине молчал. Сердце его наполнилось глубокой жалостью, и это необычное чувство захватило его целиком. Он не мог без сочувствия смотреть на этого подростка, лежавшего перед ним, опершись на локоть, как сраженный на арене гладиатор. Какой серьезный взгляд, и эта горькая складка у рта при таком вызывающем голосе и нраве скверного мальчишки. Забыть бы жалость и сменить ее на злость, которой он был прежде объят. Вот что требовалось Кармине. Но он с трудом проговорил:
– Знаешь, парень, ты вывел меня из себя.
Но не почувствовал злости. Только усилилась щемящая душу нежность, поднимавшаяся в Кармине.
* * *
Продукты в погреб спускали сверху на веревке.
Каждый раз, когда открывался люк, чтобы спустить вниз корзину с едой, раздавались ободряющие голоса:
– Ну как там, все в порядке?
Или же:
– Ну что, мужчины, дело идет на лад?
– Появлялись лукавые лица, из люка они видели решительные, блестящие глаза, кто-то подмигивал и говорил:
– У входа четверо стоят. Но увидите: сдрейфят они. Как только они уберутся, мы вам сообщим.
И люк захлопывался.
Можно было подумать, что жители этого дома занимаются только тем, что обманывают полицию и срывают ее планы.
Однажды из люка появился доктор. Как с неба свалился. Сказал, что живет в этом квартале и обо всем знает.
– И потом, – сказал он, – я бываю тут и там, я привык.
Он ничуть не был смущен. Пациенты, спрятанные в погребе, его не пугали, может, работа в подвале была его тайной утехой.
Джиджино он осмотрел с большим вниманием.
Нож вошел под лопатку. Рана была серьезной и очень глубокой.
– Он потерял много крови, – сказал обеспокоенно доктор. Потом посмотрел на кончики своих ботинок, на землю и добавил: – Сделать бы переливание.
И все повторял: «Переливание, переливание…», продолжая глядеть на свои ботинки, как будто оттуда могла хлынуть нужная больному кровь.
Кармине выслушал все указания с видом опытной сиделки. Нужно было поить раненого, делать ему в определенные часы перевязки. Доктор рекомендовал полную неподвижность. Потом справился, не собираются ли они что-нибудь передать своим родным. Он бы смог им помочь, пусть скажут.
– Моя жена в «Палермо-Паласе», – сказал Кармине.
– Знаю, – прервал его доктор. – Портье – мой друг. Сообщим. А ты?
Джиджино пожал плечами.
– Быстрей, – настаивал врач. – А то твоя мать кинется искать тебя по полицейским участкам. От нее неприятностей не оберешься, лучше предупредить.
Джиджино зло процедил сквозь зубы:
– Ни матери, ни адреса.
Тогда доктор жестом показал: «Ладно, ладно. Ни о чем больше не спрашиваю».
Люк открылся, и врач исчез, оставив им целый арсенал дезинфицирующих средств.
* * *
Джиджино принял как должное заботы своего бывшего врага. Он давал приказания, а Кармине выполнял их с быстротой человека, немного озадаченного, но сознающего свою вину.
Когда Джиджино скверно себя чувствовал, он опирался на локоть и сердито брюзжал:
– Когда мы выберемся из этого морга?
Но, даже ворча, он обращался к Кармине на «вы».
– Вы чересчур нажимаете с этим йодом…
– Я?
– Да, вы.
И Кармине разбавлял йод, разводил его водой. Он присаживался на корточки у ног раненого, и ему было тяжело видеть этот полный затаенного страха взгляд. Он пытался дезинфицировать рану. Но из-под кожи выступала кость. Со множеством предосторожностей, чтоб не усилить боль, Кармине двигал руку мальчика и сам при этом мучился так, как будто у него самого выступила кость и текла кровь по спине.
Странно, но Джиджино имел над ним особую власть. Кармине еще не доводилось встречать существо столь надменное, несмотря на безвестность, и столь свободное, невзирая на жизненную нужду. Даже в глубине этого погреба Джиджино ощущал малейшие перемены ветра и вдруг заявлял:
– Сколько мороженого сожрут сегодня туристы!
Он нервничал, злился, упрямился, он цедил слова сквозь зубы.
– А ты откуда знаешь? – спрашивал Кармине.
И Джиджино молчал, оставаясь неподвижным, по-прежнему опираясь на локоть, как будто следил за приметами, которые он один мог заметить.
– Откуда я знаю? А вот…
И он показывал на зыбкую тень на стене, прислушивался к далекому хлопанью ставен, замечал, что вечером прохлада не пришла, и кричал: «Да что ж вы, не видите, ветер изменился?» – как будто это могло их чем-то обрадовать, как будто эта тень на стене и хлопанье наверху могли его заставить забыть о крови, текущей по спине. Так ли уж было важно знать в этом погребе, откуда дует ветер?
– Ветер стихает, мосье, поверьте мне…
И Кармине верил. Джиджино раскрывал ему свои секреты, свою жизненную мораль, он нередко утолял свой молодой голод там, где был хилый забор или обрушилась садовая стена, за которой зрели гранаты, грейпфруты, виноград… Но ветер был неизменной темой, то он был нужен, то все портил, то он причинял лихорадку и плохой сон, к нему надо привыкать, как к нужде, с которой никогда не покончить.
Жизнь казалась Джиджино легкой. Только успевал сказать: «Голод что-то одолевает» – и тут же принимался есть. После первого завтрака сразу засыпал, как-то беспечно валился набок, и Кармине клал его голову к себе на колени. Смотря на этого свернувшегося, как дитя в материнском лоне, мальчишку, Кармине представлял, каким было его детство. Это было как открытие, как внезапное озарение. Джиджино рассказал ему про себя, и многое для Кармине прояснилось.
«Это мой друг, мой брат, – думал он. – Как же я раньше не догадался?»
Он старался поддержать раненое плечо мальчика, сделать удобней его позу. Кровь, сочившаяся через повязку, стоны, вырывавшиеся во сне из этого гордого рта, волновали Кармине. От гибкого, сонного, одинокого тела, как от щенка, веяло деревенским запахом. Кармине долго не мог определить, чем именно. Ему казалось, что Джиджино пахнул садом, мускусом, корицей, сильным и чистым запахом. Но когда он обнаружил в карманах мальчика лепестки жасмина, заметил, что вся одежда пропитана их ароматом. Вот чем пахло от Джиджино.
Джиджино бредил, и Кармине не всегда разбирал о чем. Раз он услышал слово «голоден», в другой раз у мальчика дергались ноги, он стучал своими босыми пятками, будто удирал от кого-то, и эта лихорадочная борьба с кошмаром мучила Кармине. Он почувствовал себя ответственным за этого страдающего подростка, голова которого лежала на его коленях, за его болезненную испарину, за его горькое детство, за то, что этот детский рот уже перестал улыбаться. Сильней, чем родина, породнила его и Джиджино эта подвальная камера, робкий свет, просачивающийся через отдушину, глухой шум там, наверху, на ночном рынке, чем-то напоминающий лошадиное фырканье. Кармине вспоминал все собственные горести, обиды, жизнь в Нью-Йорке, унижения, муки оскорбленного самолюбия. Он шептал:
– Нью-Йорк – город изгнания, заставивший меня отступиться от моего народа… Ненавижу тебя, Нью-Йорк. – Но даже эти переживания не смогли заставить его забыть о Джиджино: значит, прошлое потеряло для него всю значительность.
Скрип люка и шепот обитателей дома вернули Кармине к действительности и той странной обстановке, в которой он находился.
– Их уже только двое.
Кармине подскочил.
– Что такое? – спросил он.
– Это мы… Мы… У дверей остались двое полицейских. И еще двое – те около церкви святой Эулалии Каталанской. Еще немного обождать. Они потеряют терпение. А для вас есть письмо.
Кармине поблагодарил.
Письмо было спущено на веревке вместе с миской. Это было послание, сочиненное в третьем лице и извещавшее о том, что из осторожности мадам посоветовали вернуться в Нью-Йорк.
Джиджино проснулся.
– От портье? – спросил он, показав на письмо.
– Как ты узнал?
– От кого же еще?
– Ну, не знаю. Могло быть и от жены.
– Нет, – ответил Джиджино, – это от портье. В хороших отелях всегда есть такие люди.
– Он посоветовал моей жене уехать.
– Она бы все равно уехала.
– Почему?
– Женщины не прощают.
Кармине подумал, что Джиджино прав. Мужчины более благородны. Духовно выше. Щедрее. Он это знал, он понимал. «Я нарушил то, что предписано обществом. Бэбс мне этого никогда не простит. – Но тут же подумал: – Какое мне до этого дело? Теперь я играю в другой команде».
Джиджино повторил:
– Нет, женщины не прощают.
И Кармине спросил его:
– Откуда ты это узнал? – думая, что он запомнил чьи-то слова. Но Джиджино, не подозревая значения, которое Кармине вкладывал в это, ответил:
– Узнал на пляжах, мосье, на пляжах, где бабы ведут себя откровенно. – Потом он оглядел погреб, миску с остывшим супом на земле, свою рубаху, запятнанную кровью, и сказал: – Можно подумать, что снова война.
– Война? – удивился Кармине. – Так ведь тебя еще на свете тогда не было.
Джиджино задумался.
– Да нет, наверно, был уже, я ведь что-то помню. А вы думаете, чтобы знать, надо непременно увидеть? Война – это содом, гнилой дух.
– А американцев ты помнишь, Джиджино? – спросил Кармине. Ему хотелось, чтоб он их помнил. Тогда бы они имели что-то общее, эта мысль его неизвестно почему взволновала, как если бы у них появился общий друг или женщина. – Ну, Джиджино, скажи мне…
– Знаете, – сказал Джиджино глубокомысленным тоном, – у нас в квартале из американцев были только негры. – И так как Кармине рассмеялся, Джиджино добавил: – Что вы за человек? Вчера хотели убить меня, сегодня я вас рассмешил. Как вас понять?.. – И договорил: – А как понять, почему люди становятся врагами?
Но в этот момент боль стеганула его, как удар кнутом, и он уже не мог говорить ни о войне, ни о женщинах, ни о ветре. Ему было не до этого.
* * *
У смерти свои хитрости. Она скрывает свой приход, а первые гонцы, предвещающие ее победу, могут быть даже ложно поняты. Кармине стал жертвой такой неразберихи. Он еще упрямо надеялся, пытался сберечь иллюзии. Свернувшись в уголке подвала, он глядел на мальчика и искал в его усталых чертах признаки будущего выздоровления. Вот хотя бы румяные щеки, право, он лучше выглядит, цвет лица совсем другой. Да и голос его снова стал резким, как прежде, когда он продавал жасмин, только немного хриплым. Джиджино жаловался, что ему что-то мешает в горле. А если б он попробовал кричать, как прежде? Наверно, его услышали бы на всех перекрестках. А этот зуд вокруг раны – так, верно, бывает при заживании.
– Кровь у тебя перестала сочиться, – сказал мальчику Кармине.
И правда. На повязке больше не проступали кровяные точки.
– Правда? – с волнением спрашивал Джиджино. – Больше не течет? Чему удивляться? Я похож на опустевший мешок.
Но Кармине не ощущал грозной опасности, не замечал тяжелого присутствия смерти, идущей прямо к цели и уже схватившей Джиджино.
Желая занять мальчика, он рассказывал ему об Америке, расписывал ее во всем могуществе, конечно, не из удовольствия или торжества – сам-то он привязался к своей мрачной тюрьме, – но потому, что верил: может, это и ускорит выздоровление Джиджино, даст ему бодрость. Мальчик внимательно слушал, как всегда опираясь на локоть. Кармине уверял:
– Как выберешься отсюда, судьба твоя изменится, еще будут лучшие времена. Еще день или два, Джиджино, и вот увидишь, мы уедем. Я возьму тебя с собой. А потом ты станешь богатым.
– И вы в это верите?
Джиджино, пожалуй, сомневался. Он испытывал тяжелую боль в ногах и в плече. Странная боль, которая вызывала судороги. Иногда она начиналась в плече и охватывала всю руку, другой раз, наоборот, шла от руки вверх, вызывая нестерпимые конвульсии. Но Джиджино повторял:
– Вы верите в это? Будем надеяться. Пока я в таком виде, вам не придется отсюда уйти.
– Ты уверен?
– Да. Мы как жених и невеста. Даже хуже, я не могу выйти без вас, а вы без меня.
– Почему?
– Все испугаются, что вы поднимете тревогу. Здесь боятся доносчиков. В каждом из этих домов есть свои тайны. Понимаете? И потом все дома сообщаются в первом этаже… Да, мосье, так можно обойти всю площадь, не выходя наружу. Такая постройка. Если полицейский попал хоть в один из этих домов, он уже опасен для всего квартала.
– А если я все же выйду? – спросил Кармине.
– Не пройдете и двадцати метров. – В руках Джиджино появилось воображаемое ружье, и, щелкая языком, он выразительно имитировал сухой звук выстрела. – Пробьет ваш час, – коротко сказал он. И так как Кармине еще не понял, он добавил: – Следят. Отовсюду. Из окон, с крыш, с балконов. Живут там наверху, на горе, высоко, как ангелы, но держат автомат наготове. Женщины бывают у них там. Я вас предупреждаю, надежды на удачу нет. Они здорово стреляют.
В голосе Джиджино не было злости. Он говорил все это с явным сожалением, как будто понимал странность положения и пытался извиниться за это. «Меня тут нечего винить, – подразумевалось в его словах. – Просто таково положение». Но вслух он не сказал этого.
Скрип, и дверца люка открылась, как огромный слепой глаз, а голос наверху шепотом сообщил новости: карабинеры пока тут, неизвестно почему не убрались. А потом весь день было тихо, столь густая, непроницаемая, ужасная тишина, будто черная дырка, в которой укрылись Кармине и Джиджино, была на глубине в тысячу миль под землей.
И вдруг Кармине как осенило. Он осознал неминуемое – скорую смерть Джиджино, которую предсказали несколько мелких примет и наблюдений. Сколько он передумал и перечувствовал, пока свыкся с этой мыслью! Трудно было отвести взгляд от тела больного мальчика. Кармине был охвачен отчаянном и страхом, ему казалось, что близятся последние минуты. Он удивился необычно черным, блестящим волосам мальчика, гладким, как у индийцев. И тут же вклинилась мысль: после смерти эти волосы потускнеют. С этой минуты Кармине видел Джиджино таким, каким он был на самом деле, – гибнущим, распростертым на земле, задыхающимся, с прилипшими от пота волосами…
Весть о близости конца неведомыми путями проникла в дом. Теперь уже не только новости спускались вниз, но и женщины всех возрастов. Они опустили лестницу и сползали по ней, как черные тараканы. Похожие на таинственную секту плакальщиц, стали вокруг Джиджино. Явился врач и подтвердил, что конец близок. Джиджино терял сознание. Мальчика терзали жестокие судороги, он не мог ни пить, ни говорить, губы его покрылись розовой пеной.
– Поздно, слишком поздно, – повторял врач. И когда Кармине прокричал ему в ухо: «Что слишком поздно?», доктор ответил: – Никакой надежды, вы поняли? – Он заговорил о том, что надо дать что-нибудь наркотическое, сделать укол, а потом с покорностью перед неизбежным произнес: – Столбняк.
И Кармине все еще слышал это ужасное слово после того, как врач ушел, а он остался один у лестницы, бессильный перед тем, что надвигалось.
Смерть Джиджино дала ему силы принять решение. Все произошло мгновенно. Времени было мало, и нужно было знать: идти или отступать? Кармине направился к Джиджино, увидел, как он катается по земле и тело его сотрясается от жестоких конвульсий, и оттолкнул молившихся и осенявших себя крестом женщин.
– Я отнесу его в больницу! – закричал он.
– Зачем в больницу? – спросила одна из женщин. – Он все равно не выживет.
Кармине склонился над Джиджино, потрогал еле слышный пульс. Попытался поднять его, но не смог. Скрюченное тело утратило гибкость, и, дотронувшись до него, Кармине вздрогнул от ужаса, прошептав:
– Погоди, малыш, – и в голосе его звучало отчаяние. Он позвал: – Джиджино, Джиджино! – тем шепотом, каким говорят с умирающими, со страхом внимая собственному голосу, будто он мог вызвать сюда призрак смерти.
Мальчик открыл глаза, пытался что-то сказать, но в горле его раздался хрип, а в углах рта появилась пена. В этот момент Кармине решил: «Действовать, и немедленно». Он снова сказал:
– Жди меня. Я иду за помощью.
Тогда Джиджино хрипло, но внятно произнес его имя, и резким прыжком Кармине ринулся к лестнице, к люку. Все свои дальнейшие движения Кармине как будто видел со стороны. Он помнил, как повторял: «Ну подожди меня, малыш, подожди», успел перед уходом отереть пот с лица Джиджино, поцеловать его, вдохнув этот таинственный и теплый запах, который он так долго не мог разгадать, – запах жасмина от одежды, превозмогший страшный запах смерти. Потом подбежал к лестнице, проскочил, карабкаясь и держась за веревки руками, через люк и удивился, что в первом этаже было так пусто. Наклонив голову, как человек, который собирается нырнуть, Кармине двинулся к порогу.
Вдали виднелась опустевшая площадь. Был полдень. Мелькнула мысль: «Я хотел быть человеком удачливым!»
Он был один на площади. Но где-то – он не мог сказать точно, где именно, – Кармине угадывал присутствие следящего за ним человека, и на мгновение ему показалось, что он не так одинок.
Уже ничего больше не существовало, кроме этой площади, его, Кармине, и того человека, который должен был его убить. Где же он? Кармине искал его взглядом, и это заняло все его мысли. «А что, если мне удастся быстро добежать до той стены напротив, – думал он, – и до той улицы, может, добегу?..» Но ему тут же послышался свист пули, даже сама эта пуля увиделась, гладкая, круглая, она вонзится в него и наконец-то отпустит свободным.
«Подумать только, что я умру из-за этого мальчика», – сказал он себе.
«Подумать, что это будет в Палермо».
«Подумать, что я умру в этот час и здесь».
Стоя в дверях дома, Кармине смотрел на площадь, на обнаженную, раскаленную солнцем мостовую. Словно пляж из гальки. Жара всей своей тяжестью висела над городом. Нужно было ринуться в это палящее, как в вулкане, пекло. Кармине выскочил и пробежал несколько метров. На середине площади он остановился. Свет, жара и шум сменились тьмой, холодом, тишиной. Но перед тем, как покачнуться и упасть, Кармине ощутил глубокую радость, успев сказать: «Я остаюсь здесь». Он умирал лицом к земле, распростертый на мостовой.
Палящее, беспощадное южное солнце жгло окруживших его тело людей.
Когда его понесли, Кармине уже был мертв.








