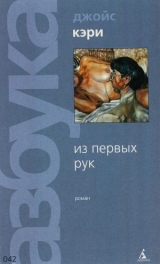
Текст книги "Из первых рук"
Автор книги: Джойс Кэри
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 28 страниц)
Глава 13
Если, диктуя эти мемуары своему почтенному секретарю, отпросившемуся на полдня из молочной лавки, я могу позволить себе одно лично меня касающееся признание, которое все равно не увидит света, вот оно: у меня вовсе не было намерения стать художником. Вы скажете – у кого оно есть? Но у меня-то как раз было намерение ни за что не становиться художником. Я вырос в семье художника и не мог забыть, как мой отец, щуплый старичок с седой бородкой, плакал однажды в саду. Я не знаю, почему он плакал. В руке у него было письмо; возможно, в нем говорилось, что Академия отвергла еще трех джимсоновских девушек в еще трех джимсоновских садиках. В молодости я ненавидел искусство и был рад, когда мне представился случай поступить на службу. Дальний родственник матери, живший в Эннбридже, недалеко от Эксмура, пожалел нас и взял меня к себе в контору. Он занимался производством сельскохозяйственных машин. Когда в 1899 году я переехал в Лондон, я был типичный клерк. У меня был котелок, квартира, славная женушка, славный карапуз и счет в банке. Каждую неделю я посылал мамочке деньги и помогал сестре. Милый, респектабельный, счастливый молодой человек. Ах, что это была за жизнь!
Но однажды, когда я сидел в нашей лондонской конторе на Бэнк-сайд, я нечаянно капнул чернила на конверт и просто от нечего делать стал размазывать кляксу пером, чтобы она стала похожа на лицо. И не успел я опомниться, как уже рисовал фигуры красными и синими чернилами на этом самом конверте. И с той минуты я погиб. Все старались мне помочь. Хозяин послал за мной в конце месяца и сказал:
– Мне очень жаль, Джимсон. На вас опять поступила жалоба. Я предупредил на прошлой неделе, что прощаю вас в последний раз. Но мне не хочется вас выгонять. Другого места вам не найти, и что тогда станется с вашей бедной женой и ребенком. Послушайте, Джимсон. Я вас люблю, все здесь вас любят. Вы можете мне довериться. Скажите – что с вами случилось? Не бойтесь. Я не стану вас упрекать. Влезли в долги? Надеюсь, вы не играете в азартные игры? Вам хватает на жизнь? Возьмите на два дня отпуск и обдумайте свое положение.
Но я мог думать только об одном – как мне правильно нарисовать мои фигуры. Я начал как классик. Конец восемнадцатого века. И страшно бился над анатомией и законами перспективы.
Перебирает каждый нерв,
Как скряга золото свое.
Я провел данный мне отпуск в классе натуры, и когда вернулся на службу, вылетел оттуда на следующий же день. Спору нет, у меня было тяжелое заболевание. Я подхватил опасную инфекцию – прогрессирующее искусство. Меня лихорадило часов по двенадцать в день, и в том же году я выставил одну картину в Обществе акварелистов. Суперклассическую. Ранний Тёрнер. Почти Сэндби.
Жена моя буквально голодала, мы заложили чуть ли не всю мебель. Что с того? Нет, конечно, я немного огорчался. Но я чувствовал себя Старым Мастером. Старым я и был, очень старым. Я находился примерно на том этапе, на котором мой бедный папочка получил нокаут. Я хлебнул немало горя, пока накопил опыт и приобрел технику, и собирался теперь писать так всю свою жизнь. Только так, и никак иначе. Я знал все правила. Я мог состряпать картинку, все, как надо, за полдня. Конечно, вы не назвали бы ее плодом воображения. Так, поделка. Вроде свежей сардельки. Округлые формы. Но я был машиной для приготовления сарделек. Я был Старая Школа, Старый Классик. Старая Вера.
Но быстро увядает он
И тенью свой обходит дом,
Где блещут злато и жемчуг,
Его добытые трудом.
Я даже продал несколько картин; миленькие акварельки – виды лондонских церквей. Но однажды я случайно увидел картины Мане. Какие-то типы смеялись над ним. Он меня ослепил. Как вспышка молнии. У меня прорезались глаза, и когда я вышел из музея, я был другим человеком. Я увидел новый мир, мир красок. Разрази меня гром, сказал я, я был мертв и сам этого не знал.
И вот из углей очага
Младенец-девочка встает.
Я чувствовал, как она прыгает. Но, понятно, Старый Классик не отступил без боя. Церковь против Дарвина, палата лордов против радикалов. А поле битвы – я. Весело мне пришлось в том году. Я вообще не мог писать, я заляпывал свои аккуратненькие урбанистические акварельки импрессионистическими мазками. А из импрессионистических пейзажей делал такую кашу, что самому глядеть было тошно. Понятно, я растерял всех своих покупателей. В первый раз, но не в последний. Но это меня не расстроило. Меня до смерти пугало другое – я не мог писать. Я был в таком состоянии, что не заметил, как нас распродали с молотка, как от меня ушла жена и умерла мать. И хорошо, что умерла, не то пришлось бы ей идти в приют для престарелых. Думаю, она умерла от горя, видя, как ее младшенький катится в тартарары.
Конечно, я был опечален. Я думал, что мое сердце разбито. Но даже на похоронах я не мог бы сказать, что меня мучает больше – смерть бедной мамы или мои кошмарные картины. Я не знал, что мне делать. От моей старой мазни меня тошнило. В живом мире, который мне вдруг открылся, она выглядела как разложившаяся падаль, которую забыли зарыть. А новый мир не давался мне в руки. Я не мог ухватить его, этот трепещущий свет, эту парящую паутину красок. Неконкретные, неземные краски, ощущения души, деву-видение.
И плоть ее – то плоть огня,
Кипяще злато и жемчуг,
И чтоб ее запеленать,
Он протянуть не смеет рук.
Она идет к тому, кто люб,
Ей все равно – красив, урод.
И вскоре гонят Старика,
Как попрошайку от ворот.
Я настиг ее примерно года через четыре. Во всяком случае, я начисто избавился от величественного стиля, от старой веры. Пришел к чистому ощущению, без единой мысли в голове. Птица небесная. Арфа под ветром. Многое из моей мазни было даже недурно.
И меня покупали. В те годы я заработал больше, чем за всю свою жизнь. Людям нравится импрессионизм. До сих пор нравится, потому что за ним не кроется мысль. Он ничего не требует от вас... просто приятное ощущение, милая песенка. Смотрится в гостиной. Пирожное к чаю.
Но мне надоели сласти. Я вырос.
И когда мне показали комнату, полную моих кондитерских изделий, меня чуть не вырвало. Как дедушку, которого пригласили на чай в детскую. Я просто не мог больше покрывать эклеры глазурью. Мало-помалу я перестал писать. Вместо этого я пустился в споры. Споры, книги и вино; политика, философия и кабак; все, что делают те, кто не может делать ничего другого. Кому дальше ехать некуда. Я дошел до такого состояния, что стал бояться темноты. Да, да, с приближением ночи меня буквально трясло. Я знал, что меня ждет. Пустота, всасывающая мой череп в черную стеклянную бутыль... в полной тишине. И я напивался, чтобы в моем фонаре был хоть какой-нибудь свет.
В чужих домах ища приют,
Он со стенаньем вдаль бредет,
И так живет, согбен и слеп,
Пока он Деву не возьмет.
А затем я начал понемногу делать карандашные наброски, этюды; снял у кого-то с полки Книгу Иова с иллюстрациями Блейка, заглянул в нее и скорей закрыл снова. Словно человек, который скатился с лестницы в погреб и раскроил себе череп, а потом распахнул окно и увидел необъятный простор. Я стал пробовать себя в композиции, делал копии, часами бродил вокруг статуй в Британском музее и размышлял, глядя на торс потрепанной старушки Венеры без рук, без ног, без головы, со щербинками на телесах, стараясь понять, почему этот обрубок кажется куда важнее, чем какая-нибудь красотка буфетчица с золотой челкой или заросший лилиями пруд.
Старик обнять ее спешит,
Чтоб побороть сердечный хлад.
И меркнет хижина пред ним
И чудесами полный сад.
Прощай, импрессионизм, анархизм, нигилизм, дарвинизм и дуракаваляние – дурака скрутил ревматизм. Приветствую тебя, неоклассицизм! Вы скажете, это тогда носилось в воздухе. Было начало века, когда молодые либералы стали отворачиваться от политики laissez faire {15}15
Невмешательства ( фр.).
[Закрыть]и искать своего Маркса, наука дала крен в математику, а старые натуралисты оказались на мели в компании бывших людей; им пришлось самим хвалить свой товар, всем остальным он приелся. А я изучал Блейка, и персидские ковры, и рафаэлевские картоны и принялся разрисовывать стены.
Но я соскребал большую часть того, что стряпал. Мои фрески выглядели плоской подделкой под старых мастеров, суррогатом, манерной, напыщенной мазней. Они были не к месту и не ко времени в том мире, в котором я жил, новом мире с новыми нормами.
Я попал в еще худший переплет, чем в прошлый раз. Пил еще больше. Чтобы не потерять чувства собственного достоинства. Но вино уже не оказывало прежнего действия. Я был мрачен, даже когда был пьян. Мне казалось, я ни на шаг не приближаюсь к цели. Если у меня вообще была какая-нибудь цель.
Луна и Солнце прочь бегут,
Весь мир снедает пустота,
И нет ни пищи, ни питья,
Вокруг пустыня разлита.
И конечно, никто ничего у меня не покупал. Люди не понимали, что я хочу сказать. Возможно, я и сам этого не понимал. Меня словно зельем опоили. Я не знал, гонюсь ли я за настоящей девой или за вурдалаком в образе феи.
Уста младенческие – мед.
Улыбка уст – вино и хлеб,
Игра неистовых очей
Влекут к усладам юных лет.
Она бежит его, как лань,
Средь чащ, взметнувшихся кругом,
А он за ней и день и ночь,
Любви уловками влеком.
Главное – заарканить форму. А она так стыдлива. Сезанн и кубисты поймали своих дев, когда вытолкали взашей старую песочницу импрессионизм. Но кубисты сделали это слишком легко. Они сбили их с ног ударом молотка, раскололи на куски и связали куски, проволокой. Большинство дев преставилось, а остальные стал побольше походить на клетки для птиц, чем на воплощение интуиции и восторга. Сезанн был настоящий мастер. Классик. Оркестр в полном составе. Что же, я думаю, бедный старый Сезанн блуждал в пустыне еще дольше, чем я... блуждал всю свою жизнь. Дева убегала от него так быстро, что он вряд ли ловил ее чаще раза а год. А стоило ее поймать – ау, ищи ветра в поле.
...Влеком Любовью и Враждой.
И перед ним среди дерев
Страстей возникнул Лабиринт,
Где рыщут Вепрь, и Волк, и Лев.
Я сам сделал несколько кубистских картин и думал, что наконец посадил свою деву под замок. Хватит тревог, хватит погонь. Вывел формулу нового классического искусства. И понятно, многие другие думали так же. Многие из них играют в кубики и по сей день, и имеют постоянный годовой доход, и спокойно спят в постели, и покупают женам нарядные платья, и посылают детей в закрытые школы.
Деревья сладостный дурман
На сей расцветший край лиют,
Вокруг взрастают города,
Пастушьи хижины встают.
Куб-сити. Асфальт. Все удобства. Современная демократия. Организованный комфорт. Бюрократический либерализм. Научное управление. Полная гарантия. Но я там недолго прожил. Началось несварение желудка. Я не мог забыть прекрасную деву, а возможно, и она вспомнила меня. После 1930 года даже Хиксон перестал меня покупать. А сейчас мне кажется, что я никогда больше не смогу писать. Дева совсем скрылась. Я со стенаньем вдаль бреду, в чужих домах ища приют.В полиции, например. Давно пора. Я становлюсь слишком стар для этой шаткой жизни.
Глава 14
Все, кроме Гарри, смотрели, как Берт накладывает последний слой смолы на свою любимую заплату. Гарри смотрел на небо. Он не вмешивается в чужие дела.
–Ну, – сказал Фрэнк, распаляясь, словно кто-то хотел его надуть. – Чего мы тут торчим? Что у нас – вся ночь впереди, что ли? Будем мы что-нибудь делать или нет?
Берт, все еще не отрывая глаз от заплаты, надел пальто, настоящее пальто старого моржа с Гринбэнк, с кокеткой, двойными швами и двумя разрезами позади. Сооруженное примерно в том же году, что и Хрустальный дворец {16}16
Хрустальный дворец – огромный павильон из стекла и чугуна; построен в Лондоне принцем Альбертом, мужем королевы Виктории, в 1851 для Всемирной выставки. Сгорел в 1936.
[Закрыть].
– Ладно, сынок, – сказал он. – Ладно, ладно, ладно. – Он зажег спичку и поднес ее к своей работе – посмотреть, как она выглядит при свете. – Ладно, ладно, я иду. – И он стал пятиться задом, пока лодка не скрылась из виду. Тогда он повернулся и зашагал дальше, вытянув голову, как старый пес, обнюхивающий фонарный столб.
–Надо повидать мистера Планта, он придумает, что нам говорить, – сказал Оллиер; он так и не перестал беспокоиться. И пусть себе. Как бы Оллиер за вас ни беспокоился, он не станет навязывать свою помощь. Слишком хорошо воспитан.
–Что вы за него волнуетесь? – сказал Фрэнклин. – Он все равно конченый человек. Сам себе вырыл могилу. И почему бы и нет.
Молодой Фрэнклин – славный паренек. Он все принимает близко к сердцу. Вот почему он всегда ждет наихудшего.
–Верно, – сказал я. – И я предпочел бы поменьше шума.
Мистер Плант, и никто другой, помог мне, когда у меня были неприятности в прошлый раз. Прибежал прямо из мастерской, очки чуть не падают с носа, руки черные, как сапоги. «Что случилось, мистер Джимсон?» – -«Меня вызывают в суд за то, что я грозил Хиксону по телефону». – «Какой позор! Если есть на свете невинный человек, мистер Джимсон, это вы». – «Да нет, – сказал я, – все правильно. Я действительно угрожал». – «Но вас до этого довели... Нам нужен адвокат».
Меня это вовсе не устраивало. Всю свою жизнь я старался держаться подальше от суда. «К чему нам гласность, мистер Плант? Как бы что другое не выплыло на свет». – «На это они и рассчитывают, – сказал Планти, бледнея от негодования. – Это травля. Я знаю человека, который их утихомирит». – «Нам адвокаты вовсе ни к чему, Планти». – «Но это мой долг, мистер Джимсон. И если мы не добьемся справедливости в суде, я обращусь в парламент. Я знаю, кто нам нужен... Тот адвокат, что защищал этого беднягу, Рокуэя». – «Того, который душил девочек?» – «Да, да, бедный парень». – «Он, кажется, выкрутился?» – «Да, нам удалось его вытащить. Но он так и не стал прежним... Скандальный случай». – «Я помню, об этом писали во всех газетах». – «Вот. Вот. Грязные писаки. Если бы нам удалось избежать шумихи, у бедного мальчика еще был бы какой-нибудь шанс. Ему было всего восемнадцать. Но известность вскружила ему голову. И конечно, он снова попал в беду». – «Опять посадили?» – «Посадили. Это было десять лет назад. Страшно подумать». – «А девочки?» – «Девочки?..» – сказал Планти и поглядел на меня, разинув рот и сморщив лоб гармошкой. Потерял почву под ногами. Он упустил из виду девочек и теперь не знал, что с ними делать. У него не было подходящих инструментов. Он тогда пользовался не Спинозой, а смесителем для цемента из Ветхого и Нового завета. – «Девочки... – сказал он наконец. – Бедняжки. Ужас! Кошмар! – И он потряс головой, как старый пес, которому докучают слепни. – Загадка! – Он немного воспрянул духом. – Как знать – верно, в этом есть свой смысл», – сказал он. «Ну да, – сказал я. – Это значит, что удел девочек подставлять свои шеи юным негодяям вроде Рокуэя. Было их уделом и будет». – «Нет, нет, – сказал Планти, – в этом есть свой смысл. И как бы то ни было, – сказал он, еще больше воспрянув духом, – мы вызволили бедного парнишку, вызволим и вас». – «Мне не нужна справедливость, – сказал я. – Мне нужно снисхождение ввиду моего престарелого возраста, ревматизма и будущих заслуг перед британской нацией... году так в две тысячи пятисотом. Когда ей, возможно, понадобятся хоть несколько настоящих художников в ее истории, не то для нее самой не будет места в истории».
Но, конечно, Планти и слушать ничего не желал. Под всеми его иноземными философиями скрывается чистейшей воды англичанин, а под всеми его эскападами – чистейшей воды английская вера. Он любит сражаться с законом. «Нет, нет, – сказал он, – Никаких компромиссов с этими негодяями». И он принялся устраивать собрания и собирать деньги по подписке, пока мое имя не стало смердеть на много миль вокруг. И он нанял адвоката Г., который был похож на мальчика из церковного хора, только с лысой, как яйцо, головой. Он пришел ко мне в мастерскую и, когда я рассказал ему о себе и моих развлечениях, сказал: «Нам остается одно – делать упор на то, что вы чудак». – «Вот уж ни к чему, – сказал я. – Не забывайте – я художник. Вы же знаете, что это значит для присяжных. Чуть ли не хуже актрисы». – «Это я и имею в виду, – сказал он. – И вы, верно, современный художник». – «Близко к тому», – сказал я. «Да, – сказал он, – трудный случай. Что ж, будем держаться за ваши чудачества и уповать на лучшее». И когда начался суд, он с ходу стал забрасывать Хиксона грязью. Потрясающе! Этот человек оказался настоящим поэтом. Вы бы послушали, как он расписывал, будто бедный старый Хикки – кровопийца, который по дешевке скупил мои картины и всю свою жизнь только и делал, что эксплуатировал бедняг вроде меня.
Я чуть из себя не вышел, слушая, как на бедного старого Хикки собак вешают, и вообще все, что они болтали. Ничего не зная ни об искусстве, ни о картинах, ни о Хикки, ни обо мне и, что хуже всего, и не желая знать. Я хотел было сказать этому типу, что я о нем думаю, и дважды пытался вправить им всем мозги и заставить их понять, что картина – это вам не мешок муки, которая то дорожает, то дешевеет на рынке, что купля-продажа картин – дело тонкое, и заниматься им должны знатоки, и чем их меньше, тем лучше. Нас с Хикки вполне хватило бы на один вечер.
Но когда я увидел, какие они все серьезные, как полны благоговения, даже полисмены стоят без фуражек, словно в церкви, я сказал себе: не дури, Галли, они делают все, что могут, и на большее они не способны. Они знают, что о справедливости здесь нет и речи, что такой штуки вообще не существует, но они должны делать свое дело – вертеть ручки от старой сосисочной машины; и правда, что сталось бы с миром, исчезни вдруг сосиски?!
Поэтому я промолчал. И в конце концов получил месяц вместо недели. Но для Планти это была великая победа. Она принесла ему громкую славу в районе Гринбэнк, и он долго купался в ее лучах. Настоящий британский герой. Что ему суд, что закон! Он им всем показал, где раки зимуют.
Мы свернули по набережной к востоку. Поднималась луна, словно кто-то зажег фонарик возле дальнего края крышки от блюда. Белый свет туманом сочился в синеву. Над головой небо было темное, как берлинская лазурь. Звезды сверкали, как фары. И медленно текла река цвета чугуна в чушках, словно поток застывающей лавы.
Этот свод пригодился бы мне, сказал я. Мне нравится, что от него откушен кусок, там, где поднимается луна. Словно темный собор, в котором освещена лишь одна ниша в притворе. Я бы предпочел более четкую линию горизонта. Возможно, получу ее, когда луна полностью задерет свой нос. И вокруг – ореол. Арка. Она даст масштаб и композицию всему небесному своду. Эх, сказал я, вот бы мне написать этот свод, эту небесную высоту, эту нетленную крышу, это небьющееся блюдо для горячих пирожков, тяжелое, как десница судьбы, надежное, как Английский банк, величественное, как начало начал. Первооснова всего сущего. Постучите по нему костяшками пальцев – и оно отзовется, как пустая репа.
–Э-ге-гей, – сказал Берт, – вы куда?
Устремив нос к небесам, я не заметил края тротуара. А когда Берт снова поднял меня на ноги, под фонарным столбом, под небесным сводом стоял, поджидая нас, маленький Планти, такой маленький и аккуратненький, что я невольно улыбнулся. Как мошка в черном янтаре.
Планти был в своем выходном синем костюме, в чистом воротничке на три номера больше, чем надо. Галстук-бабочка цвета электрик прикреплен запонкой. Котелок, брови и усы расчесаны в разные стороны.
–Добрый вечер, мистер Джимсон. Добрый вечер, друзья. – Глаза его выскакивали из орбит и снова туда прятались, как дети у двери в детскую перед елкой.
–Будет сегодня клуб? – сказал я.
–Да. У меня, – сказал Планти и попытался выпятить грудь. – Приедет профессор Понтинг. Профессор Понтинг из Америки.
–Профессор чего? Сортирных наук? – сказал Берт.
–Профессор – крупный специалист, – сказал Планти, засовывая палец за воротничок. Желая убедиться, хорошо ли сидит запонка.
–Специалист по чему?
–Он известен по всей Германии, – сказал Планти, трогая галстук, желая убедиться, там ли он еще. Планти нервничал. Это был для него большой день. В его клубе будет выступать профессор.
–Хороший вечерок, мистер Джимсон, – сказал он и быстро посмотрел вокруг, желая убедиться, действительно ли он так хорош.
–Куда уж лучше, – сказал Берт. – Не вечер, а красота. Сыровато немного.
Планти вздохнул, но посредине вздоха сдернул с головы котелок и свирепо взглянул на него, чтобы ворс не вздумал взъерошиться, пока не окончится вечер. Затем снова надел его и сказал:
–Прекрасный, прекрасный. Никогда не видел таких звезд. – И он быстро взглянул наверх, желая убедиться, что они все еще светят.
–Гитлеру на радость, – сказал Фрэнклин.
–Пошли, сынок, – сказал Берт, беря его под руку. – Пошли, пошли.
–Правда, ноги немного мерзнут, – сказал Планти, притопывая по панели, желая убедиться, что у него мерзнут именно ноги.
–Пошли, – сказал Берт, беря Планти под руку свободной рукой. – Пошли, пошли.
–Мне надо приготовить все для собрания, – сказал Планти.
–Еще есть полчасика.
–Нет, – сказал Планти, – не больше двадцати минут.
И мы все пошли в «Три пера».
–Я угощаю, мистер Джимсон, – сказал Планти, – сегодня моя очередь.
Я сказал:
–С прошлого Рождества.
Но он не ответил. Поднял руку и заказал всем по кружке. Наполеон на поле брани. Великий день. Что ж. Не мне возражать.
Я люблю маленького Планта. Настоящий старый Король Морж. Род: Нонконформиссимус. Вид: Синешкурус кривоногус. Постоянный, как разбитый барометр. Ставит одну ногу перед другой; они у него скрюченные.
Отец Планта был водопроводчик. Старое фамильное ремесло. Хорошая профессия, много денег. Планти тоже хотел стать водопроводчиком. Но во время Бурской войны он пошел воевать за буров. Его мать умерла, а отец женился на многодетной вдове. Когда Планти вернулся домой, для него не оказалось места. Он занялся сапожным делом, завел славную маленькую мастерскую и славную маленькую жену. И тут бац – мировая война. Демократия в опасности. Снова армия – заманил лорд Дерби. Славная маленькая жена снюхалась с дезертиром, продала мастерскую и была такова вместе с деньгами. Плант получил одну пулю в колено, другую в желудок и перенес четырнадцать операций. Всякий раз, как он находил работу, выходила из строя нога и приходилось ложиться в больницу. Стал пить и сломал вторую ногу. Тогда он взялся за ум и принялся за починку обуви; рассорился со своим священником и ударился в анархизм. Нонконформизм передавался в их семье по наследству. Отец его тоже был мирским проповедником.
–Красивую картину вы нарисовали, мистер Джимсон,– сказал он, ставя на стол свою кружку с непреложностью заповедей Моисея. – Грандиозная тема – грехопадение.
–Я решил бросить живопись, – сказал я. – Немного поздно, но, быть может, я все же начну себя уважать прежде, чем умру.
Планти покачал головой, подергал галстук. Он был потрясен в самых своих основах и не мог больше доверять даже резинке от галстука.
–Вы видели Джима, мистер Джимсон? – спросил Альфред из-за стойки.
–Да, спасибо, Альфред.
–Подумал: стоит вас предупредить.
Альфред не сплетник. Но хотел бы им быть. Похож он на белого кролика, припудренного спереди розовой пудрой. Глаза у него бледно-голубые, как снятое молоко. Ему бы родиться женой деревенского булочника и выдавать новости с пылу с жару вместе со свежими булками.
Хлопнула дверь; рука моя подпрыгнула сама по себе и плеснула пиво прямо мне в нос.
–Не волнуйтесь, мистер Джимсон, – сказал Альф. – Сюда они не придут, а Джим – могила.
–Да, вы оба умеете держать язык за зубами... как луковый дух, наевшись луку, – сказал я.
–Должен уметь при моей работе, – сказал Альф, стирая пальцем пятнышко со стакана. – Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не говорю. Вот золотое правило для того, кто стоит за стойкой. Вам нечего нервничать.
–Я не нервничаю, – сказал я. – Это мои руки нервничают. Но если полисмены не поторопятся, я перебью здесь все стекла.
–Я вас понимаю, – сказал Альф. – Нет хуже, чем вот так болтаться в воздухе. Чего только не вообразишь. Много ребят попадало в беду из-за этого.
–В чем дело? – сказал Берт. – Кто болтается в воздухе?
–Убийца из Линкольна, – сказал я. – С самого утра.
–Мистер Джимсон шутит, – сказал Планти. – Он художник, а художник знает цену жизни.
–Продаете или покупаете? – сказал я. – Кто больше даст за прославленного Галли Джимсона? Крепок телом и духом, если не считать артрита, конъюнктивита, свербита, пердита, колита, храпита, бронхита, дерматита, флебита, ревматита и периодической задержки мочи.
Планти потряс усами. Я его огорчил. Люблю огорчать Планти. Вечно пытается спасти меня от самого меня. Обратить на путь благоразумия. Не нравятся мне эти обращатели. Всегда у них кастет за пазухой. Подбираются с фланга для атаки через черный ход. Запри хоть все замки, они и тогда будут подсматривать сквозь замочную скважину.
–Мистер Джимсон вовсе так не думает, – сказал, покраснев, Планти. В нем до сих пор сохранилось кое-что от сержанта, воевавшего в Бельгии. – Для чего же и существуют художники, как не для того, чтобы показывать нам красоту мира?
–Вот как? – свирепо сказал я. – Что такое искусство? Распущенность и больше ничего. Порок, с которым не смог совладать. Тюрьма слишком хороша для художников. Их надо спускать с Примроуз-хилл в бочке, полной битых бутылок, раз в неделю но будним дням и дважды в национальные праздники. Это их научит уму-разуму.
Где-то за домом поднималась луна, я видел ее в окне эркера сбоку от стойки; в ее свете деревья стали похожи на окаменелости в угольном месторождении, дома – на только что отколотые глыбы угля, отсвечивающие зеленью и синевой, берега – на две обнаженные угольные жилы, а вода в реке – на медленно текущую нефть. Модель планеты до того, как придумали глину, краски, птиц и нас грешных. Мне понравилось это даже больше купола славы. Мне понравилось это так сильно, что захотелось выйти и погулять там. Но, понятно, я знал, что снаружи ничего подобного не найду. Реальный мир куда эфемернее. Это просто световой эффект. На стену вскочила старая белая кошка Альфреда и испортила все впечатление. Пришлось поднять кружку, чтобы закрыть ее.
–Уважаю художников, – сказал Планти. – Они отдают всю жизнь искусству.
–И жизни других людей тоже, – сказал я. – Как Гитлер.
–Гитлер, – сказал Фрэнки не столь сердито, как печально, словно это было последней каплей. – Кто сказал «Гитлер»? О нем что, снова говорят по радио? Когда же настанет конец этой болтовне?
–Как вы думаете, мистер Мозли, будет война? – сказал Альф. Мистер Мозли только что вошел в бар. Щеголеватый молодой человек лет пятидесяти; лицо как малина, а костюм и туфли так хороши собой, что глаз не оторвешь. Воплощенная мечта. Мистер Мозли «жучок». Он продает советы, на какую лошадь поставить, и собирает ставки.
–Конечно, – сказал мистер Мозли. – Конечно, будет.
–Ваша правда, мистер Мозли, – сказал Альф.
–Ясное дело. Кружку крепкого пива и полпорции виски.
–Но разве немцы хотят войны?
–Они сами не знают, чего хотят, пока не получат, – сказал мистер Мозли, – а тогда они захотят чего-нибудь другого.
–Ваша правда, мистер Мозли.
–Все мы любим разнообразие, – сказал мистер Мозли, – чтобы кровь не застаивалась.
–Одного я не могу понять, – сказал Уолтер. – Чего надо Гитлеру?
–Ничего ему не надо, – сказал мистер Мозли. – Просто у него в голове завелись идеи. В том-то вся и беда. Если у кого завелись идеи, держи ухо востро...
–Ваша правда, мистер Мозли,– сказал я. – У этого парня есть кое-какие идейки. И он хочет посмотреть, как они будут выглядеть на холсте.
Мистер Мозли взглянул на меня, но ничего не сказал. Я его не виню. Смешно ожидать, чтобы такой костюм разговорился с моим пальто. И я стал думать о Художнике Гитлере.
Но весть разносится окрест:
Младенца мрачного нашли.
И все кричат: «Родился Он!»
И прочь бегут из сей земли.
Старуха вновь берет того,
Кто ужас сей земле внушал,
И распинает на скале.
И все идет, как я сказал.
—Раз уж о том зашла речь, – сказал Фрэнклин, – к чему все это? Какой прок от искусства? Мне его и даром не надо. Одна липа, одно жульничество с утра и пока не закроют лавочку.
–Точно, Фрэнки, – сказал я. – Форменное жульничество.
–И все это знают, – сказал Фрэнки, побледнев и покрываясь потом от негодования. – Все, сволочи, знают это... И проклятые пасторы. И правительство, будь оно проклято! Все они участвуют в этой комедии. Лишь бы добиться успеха у публики.
–Верно, – сказал я. – Все они скачут, как блохи на бешеной собаке. Когда она слишком увлечена серенадой луне, чтобы как следует заняться своим туалетом.
Планти посмотрел на часы, затем на всех нас. С серьезным видом дернул усами, бровями, очками и сказал, что ему пора. Но никто не предложил составить ему компанию. Даже Оллиер. Планти каждый раз совершает одну и ту же ошибку. Зовет людей к себе в клуб. Даже Оллиер, который так же скромен, как герои предпоследней войны, не пойдет к нему, если Планти его позовет. Он всегда там. Но плывет он туда под своим собственным флагом.
Планти снова взглянул на меня, затем подтянул брюки и выкатился на улицу. Было ясно, что он боится – вдруг никто не придет к нему.
–Бедный старый Плант, – сказал Берт. – Пошел надевать подтяжки, чтобы быстрей подняться над собой.
–Собрания. – сказал Фрэнклин. – К чему они? Вот все, что я спрашиваю. К чему они? Что они дают?
–Они дают то, что ты берешь, – сказал я. – Нужно же тому, кто что-то знает, где-то избавляться от своих знаний. Не то они прокиснут и у него голову вспучит.
Тут вдруг Альф подмигнул мне, и я заметил возле себя симпатичного парня в костюме из твида. Похож на студента. Только слишком выпирают бицепсы на руках. И взгляд не тот. Как наколка для бумаг. Он тронул меня за плечо и отступил на шаг.
–Привет, – сказал я. – Никак Билл Смит?
Но ноги почему-то ушли из-под меня. Только ветер гулял в штанинах. Подгоняемый этим ветром, я полетел вслед за твидом.
–Билл, дружище, – сказал я, – ну как дела в Ботническом заливе?
–Мистер Джимсон? – сказал он конфиденциально, словно беседовал через отдушину с узником из соседней камеры.
–Нет, – сказал я. – Джимсон – сын моего двоюродного брата. Он только что был здесь. Он художник, и у него вечно неприятности с полицией. Пойти позвать его?
И я вышел. Но парень двинулся следом за мной. И на улице взял меня за рукав.
Минутку, мистер Джимсон.
–Который Джимсон?
–Сегодня в шесть тридцать вечера вы произносили по телефону угрозы по адресу мистера Хиксона, проживающего на Портлэнд-плейс, девяносто восемь?
–Нет, я только сказал, что сожгу его дом и выпущу ему кишки.
–Вы знаете, что с вами будет, если вы не прекратите свои шуточки?
–А что со мной будет, если я их прекращу? Чем мне занять долгие вечера?
–Мистер Хиксон не хочет преследовать вас в судебном порядке. Но если вы не перестанете ему надоедать, он будет вынужден принять меры.








