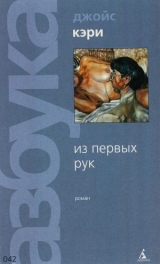
Текст книги "Из первых рук"
Автор книги: Джойс Кэри
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 28 страниц)
Коуки услышала только первые мои слова, всего остального она и не слушала. Но почувствовала и на четверть дюйма придвинула ко мне правое плечо. Шаг к откровенности.
–Я вам скажу, мистер Джимсон. Девушка должна быть гордой. Особенно с такой физией, как у меня. Всякий раз, как я вижу себя в зеркале или в витрине, мне это нож в сердце; а уж когда я гляжу на других девушек, меня словно огнем жжет. Даже на таких девушек, которых и я могла бы пожалеть. Их взгляды для меня точно раскаленные иголки.
–А твои для них?
–А мои для них. Это происходит помимо воли. Перекрестный огонь. Первый раз мне досталось, когда я кончила школу. Мне было четырнадцать лет. Здоровый пинок. И пинки шли один за другим так быстро, что я не успевала отбрыкиваться. Тут призадумаешься.
Мы ехали мимо садов; деревья вздымали к грязному небу костлявые черные руки, точно неприкасаемые, молящие Всевышнего о благословении, хотя они и знают, что все их мольбы тщетны.
–Я хочу сказать, если ты девочка, – сказала Коукер. – Мальчика ничто не заставит задуматься.
–Только о том, чем бы где разжиться да что пожрать. О себе самом – нет.
–Я думала не о себе, я думала, как это выходит, что все цветочки достаются девке, которую назвать – только язык марать, а все пинки мне, потому что моя физиономия не подходит для этикетки на спичечные коробки.
–Что поделаешь, услада для глаз дороже домашнего уюта. Даже у такого субчика, как Вилли, есть поэтическая струнка. Он сам не свой, когда видит настоящую ягодку. Против рожна не попрешь.
–Будто я не знаю. Все мужчины дураки.
–Или художники.
–Если Вилли женится на Белобрысой, она ему устроит из жизни ад.
–Он и не захочет другой жизни, если она не подурнеет.
–У нее злое сердце.
–Добрые сердца стоят шесть пенсов за дюжину, а ягодки – редкий товар.
–Зачем тогда нас делают?
–Массовое производство, и выбирайте, что вам по вкусу, а добродетели нам и даром не надо.
–Слава Богу, у меня есть гордость.
–Ну, гордость помогает тебе держать прямо спину, но вряд ли греет кишки.
–Кто вам сказал, что мне холодно?
Хиксон живет на Портлэнд-плейс возле Риджентс-парка. Коукер позвонила, и я сказал:
–На твою ответственность, Коукер. Я умываю руки.
–Хорошо, на мою ответственность.
Слуга в синей ливрее открыл дверь и провел нас в небольшую комнату, уставленную безделушками. Чего там только не было! Видно, Хиксону осталось одно – коллекционировать или пить. Слуга вышел.
–Кто это? – спросила Коукер.
–Дворецкий. Всегда в синей ливрее.
–Откуда мне знать, что он не джентльмен.
–Ниоткуда... Погляди-ка на это. – И я показал ей крошечные японские нэцкэ {21}21
Нэцкэ– небольшие фигурки, вырезанные из дерева, кости или нефрита.
[Закрыть]на каминной доске, настоящие старинные нэцкэ. Из дерева и кости, с морщинками на подошвах ног.
–Увеличь их в пятьдесят раз, и это будут колоссы. Монументальная работа. А посмотри на детали.
–Слишком иностранные, на мой вкус.
–Потому-то они и нравятся Хиксону. У него тоже нет никакого воображения.
–А для чего они?
–Для воображения.
–Жаль мне девушку, которой приходится вытирать здесь пыль.
–И мне тоже, если у нее не больше воображения, чем у тебя.
Коукер ничего не ответила. Она прихорашивалась, ожидая Хиксона: одернула пальто, поглядела сзади на чулки – не сдвинулись ли швы. Полюбовалась ими. Настоящий шелк. Коукер очень щепетильна в отношении чулок.
Ибо Вечность влюблена в творения Времени.
–Что это вы делаете? – сказала Коукер, оборачиваясь. Она гляделась в зеркало уже несколько минут.
–Ничего.
–Выньте эти штуки из кармана. Старый дурак. Хотите получить пять лет?
Я вынул нэцкэ и поставил на каминную полочку. Все, кроме самых лучших; все равно Хикки не в состоянии их оценить.
Глава 17
Тут дворецкий распахнул двери в соседнюю комнату и пригласил нас войти. Большая гостиная. И прямо посредине стены моя картина: Сара, освещенная солнцем, стоит возле низкой ванны. Правая нога на стуле. Вытирает лодыжку зеленым полотенцем. На спине и бедрах – решетка оконного переплета. Крест-накрест. Массивная, как каменная глыба, и вся на свету, никаких теней, никаких полутонов. Восемь на пять. Я не видел ее пятнадцать лет, и она чуть не сшибла меня с ног.
–Посмотри на это, – сказал я Коукер. – Куда вашему Рубенсу, куда Ренуару?
–Кто это нарисовал?
–Я.
–Кто это, неужели та Сара Манди?
–Не все ли равно?
–Как ей только не стыдно? Совсем без ничего! Да еще такая тумба. Фу, гадость.
–Это работа гения. Она стоит пятьдесят тысяч фунтов. Она стоит всех сокровищ мира, потому что она единственная в своем роде; Хиксон сам это прекрасно знает. А может, кто-нибудь сказал ему об этом. Он повесил ее на почетное место. Посредине стены, между Гойей и Тьеполо. Лучшее освещение в комнате. А рама. Погляди на раму, Коуки. Будь я проклят, если это не старинная испанская рама. На что поспорим?
–Я в рамах не разбираюсь, – сказала Коукер.
Она пощупала портьеры, потрогала обивку на креслах. Как все посетители, для которых пишут «руками не трогать». С таким же успехом можно просить женщину не смотреть. У женщин три набора глаз. В пальцах – для занавесей и прочих материй. На затылке – для прически. И по всему телу – для прочих женщин. Глаза на лице служат им просто для украшения. Накиньте на глаза семнадцатилетней девице самую плотную вуаль, – и она учует другую женщину через две двери и кирпичную стену. У нее для этого есть самые разные органы чувств: в коже, которая сразу меняет цвет, в груди, которую начинает покалывать, в мозгу, который принимается работать в самых невероятных направлениях и с самой невероятной быстротой.
–Ты рассмотрела мою картину, Коуки?
–Я смотрю на нее, – сказала Коукер, тыча пальцем в гобеленовое кресло. – Ну и старье, протерлось до нитки.
–А раму? Посмотри.
Я подошел к картине, вынул перочинный нож и вонзил острие в раму.
–Ну, что я говорил? – Мой нож повис на острие. – Это тебе не фанеровка, а настоящее резное дерево. И Хиксон отдавал ее пригнать по размеру. Ты только посмотри. Здесь вставлен кусок. Хиксон порядком повозился с моей картиной.
Коукер отвернула угол ковра.
–Ручная работа. Ничего не скажешь.
Я дал ей пинка так, что она подскочила. Но увидела, что это был дружеский привет.
–Вы чего?
–Посмотри на мою картину, Коуки. Я все это сделал своими руками.
–Я уже видела.
–Нет, не видела. Даже не подумала взглянуть.
–Нет, подумала. Я подумала, что давать пятьдесят тысяч фунтов за жирную шлюху в чем мать родила – просто стыд и срам. Посидел бы мистер Хиксон хоть пять минуток у нас на кухне, поговорил бы с нашими девушками. Хотя бы с Нелли Мэзерс; у нее пятеро детишек мал мала меньше, а муженек сбежал с девчонкой, которая продает билеты на футбольную лотерею. Думает – сорвет самый большой выигрыш.
–Это не жирная шлюха, Коуки. Это картина. Картина гения.
–Грязная картина, если вы хотите знать мое мнение! Была бы это открытка, и попробуй какой-нибудь бедолага продать ее из-под полы – получил бы две недели.
–У тебя грязные мысли, Коуки.
–Значит, по-вашему, все равно, что нарисовать голую бабу, что стул или букет цветов?
–Нет, эта картина стоит куда выше. В ней воплощена Женщина.
–Шлюха.
–Нет, женщина, каждая женщина, жившая на свете.
–Одну можете сбросить со счетов.
–Ты не понимаешь, что такое картина, Коуки.
–Зато я понимаю, что это такое. Шпанская мушка для старых миллионеров. За пятьдесят тысяч кругляшей.
А у меня голова рвалась с плеч, словно пробка от шампанского. Еще немного – и потеряю ее. Я шлепнул себя по макушке и взял Коукер за руку.
–Ты мой друг, Коуки, и я скажу тебе то, чего еще никому не говорил.
–Ну да, что вы гений. Это я уже слышала.
–Нет, я тебе открою секрет. Я никому не рассказываю секретов, потому что они возвращаются обратно, как бумеранг, и бьют тебя по спине. Но это – правда.
–А раньше вы никогда не говорили правды?
–С тех пор, как стал взрослым, нет.
–Почему?
–Потому что, говоря правду, мы ее убиваем. И она перестает быть правдой. Становится трупом. Я однажды подстрелил зимородка из рогатки. Сбил его с ветки в камыши. И он выглядел, как лоскут дешевого атласа.
–А вы выглядите так, словно здорово набрались, дружок. Возьмите себя в руки, старая песочница, пока не пришел Хиксон.
–Не хочу. Я гений.
–Вы мне вчера это уже говорили.
–Да, потому что я сам в это не очень верил. А теперь я знаю. И я не только гений, я художник. Сын Лоса.
–Лоса?
И сей Лос был пророком Господним,
И воздвигали его сыновья миги, минуты, часы,
И дай, и месяцы, и годы, и века, и эпохи —
чудесные зданья.
И у каждого мига ложе златое для сладкого
отдохновенья.
И над каждым ложем склонилась дочь Бьюлы,
Дабы насытить спящих с материнской любовью.
И каждая минута в алькове спит лазурном
под шелком покрывал,
И каждое мгновенье, ничтожнее удара крови
в жилах,
Равно по протяженности своей шести тысячелетьям,
Ибо свершается в это мгновенье труд поэта.
—Ну, сегодня у вас нет шести тысяч лет.
–Полминуты озарения стоят миллиона лет, проведенных во тьме.
–Кто живет миллионы лет?
–Миллион людей каждый год. Я научу тебя, как надо смотреть на картину, Коуки. Не смотри на нее. Ползи по ней глазами.
–Что я, улитка, что ли?
–Сперва ощупай контуры... узор, как на ковре.
–Вы мне уже это говорили.
–Затем объем.
–Весь этот жир?
–Забудь, кто тут нарисован, гляди так, словно смотришь на раскрашенный макет. Ощупай глазами все закругления, плоскости, острые края, выпуклости и впадины, свет и тени, прохладу и тепло. Цвет и фактуру. Все это вместе и создает картину.
–Полотенце сделано недурно, тут я не спорю... настоящее льняное полотно.
–А потом ощупай ванну, стул, полотенце, ковер, кровать, кувшин, окно, поле за окном и женщину как таковые. Но смотри на них не просто как на старый кувшин и какую-то женщину. Это всем кувшинам кувшин и всем женщинам женщина. «Вот какие, оказывается, кувшины, а я и не знала этого». Кувшины и стулья могут очень много сказать.
Как ни мало пространство – пусть меньше,
чем шарик крови, —
Оно распахнуто в вечность, чья тень —
земля в цветенье.
—Что? Что?
–Не перебивай. Это значит, что и кувшин может стать дверью, если знаешь, как ее открыть. И воображение открывает ее перед тобой. Ты начинаешь испытывать те же чувства, что все женщины, которые жили, живут и будут жить на свете, ты чувствуешь то же, что чувствуют они, оставшись наедине с собой в каком-нибудь укромном, недоступном чужому глазу уголке, когда они моются, вытираются, одеваются, осматривают себя и любуются своей красотой за закрытыми дверьми. Тогда остается одно – чувства женщины, ее прелесть и ее придирчивый взгляд.
–Да, на ее месте я бы тоже задумалась, при таких-то ногах.
–Эти ноги прекрасны.
–Ну, так верно, Кот в сапогах был не кот, а слон.
–Я тебе не про модель, глупенькая, а про картину. Эти ноги божественны, это идеальные ноги.
–Ради Бога, если они вам так нравятся.
–Эх, дать бы тебе, Коуки! Ты и фонарный столб с ума сведешь.
–Что я такого сказала? Разве я сказала, что это плохая картина? Я всегда говорила, что вы свое дело знаете. Стала бы я иначе возиться с вами? Очень надо. Да я бы запихала вас в первую попавшуюся урну.
–Женщин учить бесполезно.
–А зачем вам меня учить?
–Я хочу научить тебя счастью.
–Велико счастье – смотреть на жирную шлюху в ванне. Я не мужчина.
–Нет, ты просто упрямая дура, черт тебя подери!
–Хватит, пока не сказали чего похуже.
Я кинулся на нее, но она подняла кулак, и я одумался. Ушел от греха в другой конец комнаты. Злости как не бывало. В этом преимущество Коукер. С ней шутки плохи. Если на нее замахнешься, она ударит первая, и пребольно. Поэтому, когда имеешь с ней дело, держишь себя в руках. Так безопаснее. Лучшего друга у меня не было.
С другого конца комнаты Сара выглядела иначе. Явственнее стала композиция. Куда лучше, чем я ожидал. Но до моих нынешних картин далеко. Да, подумал я, это шедевр в своем роде. В своем, но не в моем. Это настоящая живопись. Но масштабы ее малы. Лирика. Импрессионизм. А что там ни говори, эпос больше лирики. Шире и глубже. Любая из моих фресок – более значительная вещь.
Вошел Хиксон. Хиксон постарел с тех пор, как я его видел. Маленький, сухонький, черный костюм висит на плечах, как на вешалке. Жучок-торчок на кривых лапках. Голова вытянута вперед, словно слишком тяжела для него. Длинное белое лицо, все в печальных морщинках, как у больной ищейки-альбиноса. Большая лысая голова и два пучка белой шерсти. Глаза как две наполовину высохшие капли кислоты. Перекатил их на Коукер и снова на меня. Затем чуть приподнял руку и дал мне ее пожать. Все равно что подержаться за кусок сала от окорока.
–Мисс Коукер, – сказал он; голос тонкий, бесцветный, словно химикат, выдавленный из горла жестоким горем. – Джимсон. Рад вас видеть.
–Как поживаете, мистер Хиксон?
–Вы пришли насчет тех Джимсонов, которых я купил в двадцать шестом году? – Он так часто вздыхал, что его с трудом можно было понять.
–Именно, мистер Хиксон,– сказала Коукер,– и если вы не возражаете, я сяду.
–Ах, да, – вздохнул он. – Садитесь.
Мы все сели.
–Мы виделись с миссис Манди во вторник, и она подписала бумагу насчет того, что она не имела права распоряжаться картинами.
–Да, она говорила мне.
–Уже успела? Когда?
–Во вторник. По телефону. Мы с миссис Манди старые друзья.
–Я так и думала, что она ведет двойную игру. Но у нас есть бумага, мистер Хиксон. Мы, само собой, не хотим поднимать шума. Мы бы предпочли прийти к соглашению без всяких там адвокатов; не правда ли, мистер Джимсон?
Но я почуял, что пахнет порохом, и прикинулся, что не слышу. Встал с места и снова принялся рассматривать Сару.
–Прекрасная вещь, Джимсон. Лучшая из ваших вещей, – сказал Хиксон.
Но я сделал вид, что не слышу. Меня все это не касалось. Мне хотелось рассмотреть картину. Она удивила меня. Особенно спина и плечи. Сара на картине протягивает руки вперед. Торс не виден. Лишь левое плечо и верхняя часть руки, кусочек спины и бок.
Коукер снова толковала о бумаге и расспрашивала Хиксона, сколько он заплатил за картины на распродаже.
–Видите ли, было несколько распродаж. Миссис Манди оставила несколько полотен у знакомых...
–Не сомневаюсь. Но за все чохом...
–Семьдесят за первые две, затем сорок пять... пожалуй, около трехсот фунтов... Долги Джимсона значительно превышали четыреста фунтов.
–А сколько сейчас стоит эта? – тыча зонтиком в Сару.
Хиксон пожал плечами и сделал такую мину, словно ему за шиворот опустили кусочек льда.
–Кто знает?
–Пятьдесят тысяч фунтов? – сказала Коукер.
–Вряд ли. Может быть, когда-нибудь она и будет стоить столько. Все, что я могу сказать, сейчас я не отдам ее и за пять тысяч.
–А вам она сколько стоила? Пять монет?
–Шестнадцать картин за триста фунтов. Приблизительно девятнадцать фунтов за каждую.
–Миссис Манди сказала – семнадцать.
–Всего их было около двадцати, но миссис Манди пожелала оставить у себя несколько холстов, и я согласился на это.
–Вы слышите, мистер Джимсон?
Но я не отрывал глаз от Сары.
–Девятнадцать фунтов за каждую, – сказала Коукер. – Девятнадцать фунтов за такую большую картину, – указывая на Сару у ванны. – Да тут одна рама дороже.
–Это очень красивая рама. Она обошлась мне в сто пятьдесят фунтов, и это еще дешево.
–Мистер Джимсон обошелся вам куда дешевле, а у него нет ботинок на ногах. Даже бродяга не назовет эти обноски ботинками.
Хиксон снова сморщился. Как белый попугай в смертельной агонии.
–Что вы на это скажете? – сказала Коукер. И снова повернулась ко мне. Но я вильнул в сторону и пошел в другой конец комнаты. – Перестаньте гулять взад-вперед, мистер Джимсон,– сказала она мне, – подойдите сюда и покажите ваши ботинки.
Но я был поглощен Сариным левым плечом. Плечом той руки, в которой она держала полотенце. С правого верхнего угла на него падал свет. Показывал лепку. Тонкая работа. Я не думал, что был способен на это пятнадцать лет назад. Особенно местечко между бицепсом и трицепсом, где прикрепляется дельтовидная мышца. Прекрасно написано. Почти так же прекрасно, как сама рука. Это красивая часть руки у любой женщины, а у Сары она была так хороша, что хотелось плакать... или смеяться. Поражаться величию и милосердию Божьему. Как сказал бы мистер Плант.
Коукер и Хиксон заговорили более доверительно. Я услышал, как Хиксон сказал:
–Мне кажется, вы не вполне уяснили себе положение, мисс Коукер.
Я перешел в другой конец комнаты. Взглянуть на Сару под новым углом. И представил себе руку Коукер для сравнения. Да, подумал я, предплечье у Коукер – просто чудо. Но плечо чересчур мускулисто. Чересчур анатомично. Плечо мужчины. И прямо на сгибе след от оспы. Как фабричное клеймо. Будто нарочно. Росчерк с завитушками на подлинном шедевре. Дилетантизм. У Сары слишком развито чувство прекрасного, чтобы она позволила сделать себе прививку. На руке или в другом месте. У нее видение художника, пусть даже единственный ее объект – она сама. Ее плечо чисто, как у младенца, а ложбинка под дельтовидной мышцей прекрасна, как покрытая снегом долина в Даунсе. Да, мистер Плант, сказал я, да, глядя на нее, мистер Спиноза мог бы восславить Бога за то, что он живет на свете, хотя его легкие были пропитаны стекольной пылью.
–Мистер Джимсон, – сказала Коукер громко, слишком громко для хорошего тона.
Но я глубоко задумался над весьма важными вопросами. Любой, кроме Коукер, догадался бы об этом по моему отсутствующему взгляду. И по тому, как я склонил голову набок. Я был глух к внешнему миру. Да, сказал я себе, когда видишь такую вот стихийную вещичку, бабахаешься лбом о жизнь. А жизнь – это Красота и так далее и тому подобное. Так что ваш Спиноза, мистер Плант, был не такой уж дурак, когда говорил, что толковать о справедливости – глупо. Достаточно жить... и созерцать величие и нетленность Божьего мира. Это и есть счастье. Это и есть радость. И я воспел аллилуйю Сариному плечу. Трубный глас во славу Господа Бога и самого себя. О да, мистер Плант, тут я не спорю, старый Бен знал неплохие трюки... у него был не один козырь про запас.
Но вот ведь в чем дело, сказал я. Созерцать не значит созидать. Это нас никуда не приведет.
А Хиксон говорил Коукер:
–Давайте оставим на время вопрос о стоимости картин; главное, что они вообще не являлись собственностью Джимсона или миссис Манди. Они были конфискованы для покрытия долгов. Если вы подождете минуту, я покажу вам документы.
Я отошел от них подальше. Не хотел, чтобы меня прерывали. Слишком ответственный момент. Да, сказал я себе, кажется, я что-то схватил. Созерцаешь всегда извне. Созерцание по ту сторону событий. Спиноза и был сторонний созерцатель. Он не понимал, что такое свобода, а это значит – он не понимал ничего. Потому что, сказал я себе, все больше волнуясь, ведь я уже видел, к чему это все ведет, – свобода не по ту, а по эту сторону. Внутри того, что вовне. И даже такой философ, как Бен Спиноза, не может судить о тридцатом веке, глотая стекольную пыль пинтовыми кружками. Это неверный подход.
А вот старый Билл Блейк, этот чертов англичанин, понимал, что такое свобода, и еще как понимал; поэтому-то вся его заумь проникнута истиной. И хотя он и бывал порой потусторонним, он никогда не находился вне того, что внутри. Если хочешь поймать этого старого крота за работой, надо копать поглубже.
Хиксон рассказывал Коукер о распродаже, верней, раскраже, или как там это назвать.
–Конечно, продажа картин Джимсона в глухой девонширской деревушке дала бы всего несколько шиллингов, поэтому, когда миссис Манди обратилась ко мне с просьбой...
Я еще раз прогулялся по комнате. Это была длинная комната. Я очутился в дальнем ее конце; повсюду стояли столики, уставленные золотыми табакерками с эмалью, с алмазами и рубинами, расписанные Буше и иже с ним. Безделушки.
А что мы находим внутри? – спросил я себя. Труд. Вечный двигатель. Что-то, что никогда не стоит на месте. Держись за это, старина, ведь на этом строится жизнь. Это имбирь в имбирном прянике. Это яблоки в яблочном пироге. Это скок-поскок у кузнечика. Это взбрык у коня. Это творчество. Вот мы наконец и у цели. Стоп. Приехали. Прямо к моей распроклятой картине.
Я упорно глядел на табакерки, чтобы не видеть, какие яростные взоры мечет на меня Коукер и как делает знаки своим парадным зонтиком. С «Грехопадением» у меня вышла осечка, сказал я себе. Оно не стреляет! Вещица для созерцания. Не проникает до нутра. Даже по сравнению с Сариной спиной на той картине. Это не событие. Так, званый чай.
А что происходит, спросил я себя, поворачиваясь задом к Коукер и вперившись левым, лучшим своим глазом в миленькую маленькую Леду кисти Натье {22}22
Натье Жан Марк (1685—1766) – французский живописец, создатель мифологических портретов.
[Закрыть], что происходит с девушкой, когда она падет впервые? Что происходит каждую ночь с тысячами Адамов и Ев под ивами, или под пальмами, или еще где-нибудь? То, чего уж никак не назовешь званым чаем. Это не наслаждение, и не покой, и не созерцание, и не отдых, и не счастье – это грехопадение. Падение. В глубокую яму. Земля разверзается – и ты кувырком на дно. Если только, конечно, не умеешь летать. Не сможешь подняться на крыльях.
На бюро-буль лежала книга для посетителей в красивом сафьяновом переплете, а рядом чернила и ручки. Я вырвал несколько чистых листов в конце книги и отнес их на столик, туда, где было всего светлей. И стал набрасывать фигуры, которые возникли у меня в голове. Еву под ивами. И вечно юную деву Утун. Нетленную невинность, которая не мыслит зла. Да, подумал я, снова Билли. Вручает мне истину. Даже если я не хочу брать ее. Ведь это он и говорил всю свою жизнь. Слеза – оружие духа. И радость. Мудрость прозрения. Пророческое око в чреслах. Вспышка духовного начала. Разрази меня гром, думал я, коли не так. Созидание радости. Радости, которая всегда нова, потому что созидание ее непреходяще. Озарение в каждом новом падении.
Утун в печали своей бродила
По долинам Люты и просила у цветов утешенья.
И так сказала лучистой ромашке долины Люты:
«Кто ты? Цветок? А может, ты нимфа?
Порою вижу тебя цветком,
Порою – нимфой. И вырвать не смею тебя
из влажной земли».
Долина Люты – это долина желания; а цветок ромашки – девственность Утун.
Я взял другой лист и разрешил руке гулять, как она хочет. Почему-то у бедной Евы – Утун голова оказалась чуть не больше туловища и короткие толстые ножки, и почему-то она зажимала уши руками. Разве, чтобы не слышать Хиксона и Коукер, которые все больше входили в раж.
Ну, а теперь, сказал я себе, слово за ромашкой. Золотая нимфа ответила: «Сорви меня, о кроткая Утун».
Распустится другой цветок, ибо дух наслаждения нетлен.
А ведь это, сказал я себе, было еще до Грехопадения, еще до того, как невинность уступила вожделению и познала самое себя. В следующем четверостишии Утун – Ева, она же Женщина, которая была, есть и будет, срывает цветок, говоря:
Из влажной земли тебя вырываю,
Мой нежный цветок, чтоб ты запылал меж персей
моих.
И этим я знак подаю, что следую зову души.
Другими словами, зову пылкого Бромиона, ее возлюбленного, духа вожделения.
Бромион распахнул ее тело громами, и дева
на бурном ложе,
Обессилев, лежала и вскоре грома заглушила
стенаньем.
Почему-то я нарисовал Бромиона похожим на гориллу, с глазами как у лемура и в толстых роговых очках. Я делал его синими чернилами. Типичный комический персонаж. Пришлось взять чистый лист и начать все сызнова.
Хиксон и Коукер кончали подсчеты.
– Да, – говорил Хиксон, – я думаю, Джимсон получил от меня в конечном итоге около трех тысяч фунтов. Я долгое время выплачивал ему по два фунта в неделю, не имея перед ним абсолютно никаких обязательств...
Это ты так считаешь, старина, подумал я, а не грех бы давать и по пять. Но я не желал встревать в глупый спор. На моем крючке билась рыбка покрупней. Я убрал со стола еще несколько табакерок и разложил бумагу.
В чем суть, сказал я себе, стряхивая с пера чернильную кляксу и плюнув в нее, чтобы лицо Бромиона вышло нужного мне оттенка. В том, что дух невинности, дух целомудрия не может быть уничтожен, пока он свободен. Он будет вновь и вновь возрождаться в первозданной непорочности. Непорочности духа, которая не дает нам утратить свежесть восприятия жизни. Не дает привычке заслонить чудо любви.
Вот почему непорочная Утун не понимает ревности Теотормона, воплощающего ее чистоту, всечеловеческую Чистоту, Теотормона, который сомкнул свои черные ревнивые воды вокруг виновной в грехопадении пары.
Теотормон – это и ревнивый цветок «не тронь меня» на лоне Утун, которому ненавистен Бромион – ее вожделение.
Утун не плачет, плакать не может! Не идут у ней
слезы.
«Ради всего святого! Владыки гремящего неба,
Оскверненную грудь растерзайте, чтоб отразился
Теотормона образ в прозрачном и чистом сердце».
Низринулись с неба орлы, грудь ей растерзали.
Теотормон улыбнулся – ее душа улыбнулась.
Словно ручей, возмущенный копытами стада,
снова весел и чист.
И вновь взывает Утун:
Отчего мой Теотормон, рыдая, сидит на пороге?
Взываю: встань, Теотормон, ибо пес деревенский
Лаем встречает день, и прервал соловей свои стоны,
Жаворонки в хлебах шуршат, и с охоты ночной
Возвратился Орел, и клюв золотой устремил
на Восток.
Встань, мой Теотормон, я чиста.
Бежала злая ночь – тюремщица моя.
Ночь приняла в моих глазах очертания Австралии. Внутри этого темного пятна Утун и ее горилла, то есть Ева и Адам, слились в славную компактную массу, а древо познания с красным стволом и ветвями и синими листочками осыпало их ливнем слез и красных яблок. Я не понимал, зачем мне понадобились слезы, пока не вспомнил про рыб. Ну конечно, сказал я себе, тут нужен мелкий симметричный узор, чтобы подчеркнуть массивность крупных форм.
Я сделал набросок в основном пальцем, используя чернила двух цветов и слюну. Красные чернила разжижались не так хорошо, как синие. Но все же получился неплохой розовый цвет, прозрачный, как утренняя заря.
–Мистер Джимсон, мистер Джимсон! – громко сказала Коукер.
Я не слышал. Я был занят, я зачернял ночь; темное пятно вокруг пары. На это требовалась уйма чернил. Но результат был поразительный.
–Мистер Джимсон, вы подойдете сюда... или мне привести вас за ручку?
–Иду, мисс Коукер.
Коукер явно была на грани взрыва. Я сунул Утун в карман и пошел к ним.
–Мистер Хиксон говорит, что вы получили от него около трех тысяч фунтов. В виде ссуд и еженедельных выплат.
–Вполне возможно, – сказал я. – Мистер Хиксон всегда был мне хорошим другом.
–Но ведь он забрал ваши картины, которые стоят в двадцать раз больше; вы сами мне говорили.
–Трудно сказать, – сказал я. – Очень трудно.
–Зато доить из нас денежки под этим предлогом было куда как легко, – сказала Коукер, побагровев. – Вы говорили, вас ограбили, вы говорили, он заполучил ваших картин на сотни тысяч фунтов; да он и сам сказал, что не отдал бы вон ту шлюху, которая обошлась ему всего в девятнадцать фунтов, и за пять тысяч.
Хиксон издал сдавленный стон; мне самому с трудом удалось удержаться. Нет ничего неприятнее, чем говорить о картинах и стоимости картин с людьми вроде Коукер, которые даже языка, каким об этом говорят, не знают.
–Все это не так просто, как кажется, – сердито сказал я. – Что ты, например, имеешь в виду, когда говоришь, что картина стоит пять тысяч фунтов, или пять сотенных, или пять монет? Картина не шоколадка – ее не съешь. Цена картины не то же самое, что цена отбивной.
–Да, да, – горячо подхватил Хиксон и горестно вздохнул. – Отнюдь не то. Совершенно не то.
–Милое дело! Что вы там толкуете? – сказала Коукер, красная как кирпич. Трения всегда распаляли Коукер, и я ей посочувствовал. В конце концов, откуда ей было разбираться в живописи?
–Ты в этом ничего не понимаешь, Коуки, – сказал я как можно мягче. – Например, можно сказать, что картины вообще не имеют рыночной стоимости, только духовную; это моральное обязательство. Или можно сказать, что они не имеют никакой реальной цены, пока их не купят. И цена то растет, то падает. Я думаю, мистер Хиксон потратил на картины кучу денег, которых он никогда не вернет.
–Около полумиллиона фунтов, – простонал Хиксон.– Включая авансы художникам, которые не написали для меня ни одной картины.
–Да, но выручили вы почти вдвое, – сказала Коукер.
–О нет, Коуки,– сказал я. – Мистер Хиксон большой покровитель искусства, а настоящие покровители искусства редко наживают на нем деньги. Во всяком случае, не при жизни.
–Да что это? Можно подумать, вы с ним заодно? – сказала Коукер.
–Но он на самом деле друг английского искусства.
–А правда, что все картины, которые оставались у миссис Манди, были конфискованы по постановлению суда?
–Вполне возможно, Коуки. У меня, конечно, были долги.
–Значит, вы наплели нам всяких небылиц и занимали деньги у меня, и у мистера Планта, и у многих других, прекрасно зная, что не сможете расплатиться?
–Ну, Коуки, – сказал я, – я говорил только, что мистер Хиксон купил мои картины по дешевке.
–Ах, вот как? Ну, вот что я вам скажу, старый мошенник, – вам самое место в тюрьме. Вызвать бы сейчас полисмена и...
–Простите, я вас прерву, мисс Коукер, – сказал Хиксон, – у нас было одно предложение...
–Да, сейчас и до него дойдет; просто я так зла, что готова сама себя укусить.
–Я тут объяснял мисс Коукер, – сказал Хиксон, – что вынужден был прекратить выплату еженедельного пособия из-за ваших беспрерывных угроз по телефону мне и моим слугам.
–Верно, – сказал я. Мне не терпелось попасть домой, посмотреть на «Грехопадение» в свете моих новых идей.– И я за это отсидел что положено; не так ли?
–Я старый человек, – сказал Хиксон. – И больной человек. Я не очень возражаю против того, чтобы вы меня зарезали, и согласен получать любое количество угроз в письменной форме. Мне не под силу все эти телефонные звонки. Они беспокоят слуг. Один уже отказался от места.
–Я не подумал об этом, – сказал я. – Это существенный момент.
–Мне необходимы слуги, – сказал Хиксон,– иначе я не смогу жить.
Мне стало жаль несчастного старикана. Ну и положение!
–Я вполне вас понимаю, мистер Хиксон, – сказал я. – Это крайне неприятно. Просто невыносимо.
–И если вы обещаете, что не будете больше угрожать мне по телефону и портить мое имущество, я готов вновь выплачивать вам еженедельное пособие.
–Два фунта в неделю?
–Да.
–Подкиньте еще фунтик. Я долго не протяну при моем сердце и кровяном давлении. И знаете что? Я подпишу бумагу, предоставляя вам право на все эти картины.
–Они и так мои.
–Я имею в виду моральное право. На шедевры стоимостью в восемьдесят тысяч фунтов.
–Бумага мне такая не нужна, но я согласен давать вам три фунта в неделю и заплатить ваши долги на сумму, не превышающую пятидесяти фунтов.
–И дать мне десять фунтов наличными.
–Хорошо. В счет тех пятидесяти.
–Прекрасно, мистер Хиксон. Пойдем на компромисс: десять фунтов наличными, пятьдесят пять на уплату долгов и три в неделю. По рукам?








