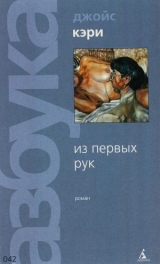
Текст книги "Из первых рук"
Автор книги: Джойс Кэри
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 28 страниц)
–Как скажете, сэр, – сказал черномазый бедолага, заглатывая полстакана шампанского. Так себе, второй сорт. Но у меня не было времени сходить за настоящим.
И когда я наконец заполучил те ноги, какие искал, они не вписывались. Пальцы выпирали, словно выставленные в ряд кулаки. А что я натерпелся с женщинами! Три дня я гонялся за Сози Макт, у которой когда-то были отменные ножки. Но она вышла замуж, и от них ни черта не осталось. После пяти лет замужества ноги ее годились разве что для ортопедического музея. А когда Биссон, этот халтурщик, который называет себя скульптором, одолжил мне на вечер Керри, девку, которую он называет своей моделью, то приплелся с ней сам, и так восхищался моими ногами, и столько разглагольствовал об идее «Воскрешения», что на три дня вышиб меня из колеи. Я чуть было не счистил все к чертям. На третий день я готов был выпрыгнуть из окна или перерезать себе горло. А на четвертый явился Эйбл – из молодых приятелей Биссона, тоже скульптор – и попросил разрешения занять угол студии под группу, которую ему заказали, – памятник павшим. Тощий сутулый юнец с длинным кривым носом и голубыми глазами: лопатки крыльями, позвоночник, как у подыхающего пса, и разлапистые, вывернутые ступни. И руки – огромные, на шесть размеров больше обычных. Он говорил мало. О Лазаре сказал только: «В левой черной ноге что-то есть». Мне он понравился. Но я сказал, что в жизни не пущу скульптора в студию, где я работаю. На черта мне столько пылищи! Потом я вышел пообедать, а когда вернулся, часов около шести, у дома стоял подъемный кран и семеро парней через окна втаскивали в студию четырехтонную глыбу. Они вынули решетки, а всю мебель, ковры и подушки свалили в углу комнаты.
Биссон, Эйбл и еще трое из их своры распоряжались работами, и когда я приказал им остановиться, даже не повернулись в мою сторону.
Тогда я выбежал на середину комнаты и заорал:
–Эй вы, кто здесь живет, вы или я?
–Спускай, – командовал Биссон, и глыба начала опускаться мне на голову. Тогда Биссон, огромный детина – семнадцать стоунов живого веса – сгреб меня одной рукой за шиворот, другой за задницу и швырнул на кучу мебели в углу.
–Спускай, спускай! – надрывался он. – Эй, стой!
–Стой! Стой! – заорал Эйбл; глаза у него выкатились, как две голубые улитки, а волосы вздыбились, как колючки у ежа. – Стой! Вы что, не видите – еще трех дюймов недостает до низу! Вы что, хотите, чтобы камень рухнул сквозь пол и обколол себе углы. Эй, тащите сюда ковры. И подушки.
И глыбу опустили на мои бесценные ковры и прекрасные, расшитые шелками подушки. А когда я попытался спасти хоть последнюю, мою любимую, Эйбл так пихнул меня в бок, что я отлетел на другой конец комнаты. Впрочем, он даже не видел меня. Смотрел только на цепи.
–Осторожнее с цепями, гады. Не раскачивайте глыбу, вы, тра-та-та. Мне уже и так достаточно побили камень.
Его ругательства и проклятия, по-видимому, никого не смущали. Крановщики, надо полагать, привыкли к повадкам скульпторов. Они знали, что вся эта публика ненормальная. Какой же нормальный человек пойдет в скульпторы?
–Черт бы вас побрал, Биссон,– сказал я. – Вам известно, что такое закон? Вы не имеете права вторгаться в дом к англичанину и вести себя таким образом.
–Не беспокойся, – сказал Биссон. – Привратник ничего не знает. Он сидит в «Красном льве» с одним из наших парней. А у Эйбла заказ. Первый серьезный заказ. За который он получит чистоганом. А с твоими дерьмовыми коврами как-нибудь уладится.
Кстати, если не хочешь, чтобы это барахло болталось под ногами, у меня есть человек, который за ними присмотрит. Убережет их от пыли. Ты же знаешь, какая от камня пыль.
Я всегда недолюбливал Биссона. Огромный, хитрый выродок. Сын богатых родителей, он еще мальчишкой вбил себе в голову, что, став художником, можно жить в свое удовольствие и всегда выходить сухим из воды. Поэтому в пятнадцать он начал развивать в себе артистический характер, бросил заниматься делом и внушил своим старикам, что он гений. В семнадцать он отправился в Париж, болтался по студиям и содержал двух девок. В девятнадцать устроил выставку своих работ, под Мане и других. В двадцать четыре – вторую, под кубистов. Потом расписал несколько стен под Стенли Спенсера и соорудил какую-то фигурку не то под Эпстайна, не то под Генри Мура. И все шаляй-валяй. Левой рукой через правое плечо. Очень ему нужно было работать. Никогда не давал себе труда сделать что-нибудь всерьез. И так ладно! Он давно уже сообразил, что куда веселей жульничать, врать, финтить, выезжать за счет друзей и губить девчонок, клюнувших на его сладкие речи. Трех, говорят, уже довел до самоубийства, и, надо думать, не без приятности для себя. Как же! Сразу чувствуешь, какая ты замечательная личность. Даже ухмылочка его говорила: «Меня ничем не прошибешь – литая медь».
И что больше всего злит – Биссон не сомневается на свой счет. Знает, что фальшивка. И знает, что ему все сойдет с рук. И наслаждается всей этой игрой. Если я решился бы возненавидеть его, я пожелал бы ему тысячи болячек. Болезни почек и мягкий шанкр. Но я не могу себе этого позволить: себе дороже. Надо думать, он, подонок, и об этом догадывался.
Когда этот бессовестный тип предложил мне очистить квартиру Бидеров от мебели, я рассвирепел:
–Вот что, Биссон, – сказал я. – Я взял на себя ответственность за эту мебель. Она принадлежит сэру Уильяму Бидеру, моему другу, которого я глубоко уважаю. Я особенно уважаю сэра Уильяма Бидера, потому что он щедрый и верный друг искусства. Много ли у нас миллионеров, которые не жалеют денег и даже времени, чтобы покровительствовать искусству, и особенно молодым художникам? И я не допущу, чтобы сэра Уильяма принесли в жертву какому-то грязному недоноску, который, пользуясь слабоумием, добродушием и наивностью публики, черт бы ее побрал, выдает себя за настоящего художника, пытающегося создать настоящее произведение искусства. Я тебя нежно люблю, Биссон, – сказал я, – но если ты вздумаешь предпринять что-нибудь за моей спиной, я выпущу тебе безопасной бритвой кишки, что тебе едва ли будет кстати. Не очень-то ты попрыгаешь без желудка и прочего.
–Как хочешь, миленький, – сказал Биссон, посмеиваясь и похлопывая меня по плечу. – Я понимаю твои чувства. На твоем месте я чувствовал бы точно то же. Просто я хотел сохранить барахло. Вряд ли эта парча станет краше, побывав в Эйбловой конюшне.
–Верно, – сказал я. – А кто заплатит за хранение?
–Ах, вот оно что, – сказал Биссон. – Платить тебе не придется. Знаешь, что я делаю, когда мне нужно оставить мои вещички под присмотром на недельку-другую? Отдаю в заклад.
–Диваны и стулья не берут в заклад, – сказал я. – Есть только один способ пристроить мягкую мебель – довести до распродажи, а там пусть хлопочут судебные исполнители.
–Ничего подобного,– сказал Биссон. – Ты просто не в курсе. Мой приятель – человек деловой; он обтяпает любое дельце, из которого можно выжать деньгу. Впрочем, как знаешь. А хороша штука. Лучшее из всего, что ты писал, – кивнул он в сторону ног.
–Мне что-то не слишком нравится, – сказал я. – Приелось.
–Сэру Уильяму шибко повезет, если ты возьмешь с него не больше пятисот, – сказал Биссон, который охотно пользовался лестью, поскольку она ему ничего не стоила. – Шедевр. Впрочем, мое дело сторона. Можешь дать ему околпачить себя, если хочется. Ты можешь позволить себе отдать работу даром. Я – нет.
И он вышел.
Позже я, конечно, сообразил, что Биссон говорил дело. Тем более что в кармане у меня опять было пусто. Поэтому я позвонил его приятелю. Он приехал в тот же день и мгновенно все устроил, то есть забрал все вещи, которые могли пострадать от пыли. Он даже предложил послать мне надежного парня, который брался увести привратника в «Красный лев» на время погрузки. Но я предпочел взять это на себя. Такая миссия не каждому по плечу.
Приятель Биссона не только доставил контейнер для бидеровского добра, но и заплатил на месте, наличными. Никаких расписок, никакой бухгалтерии. Правда, цены он назначил низкие, но ведь я брал у него только аванс, да и тот на время.
Что касается Эйбла, то как только рабочие опустили глыбу и сняли цепи, он принялся стучать молотком. Он ходил в модернистах. Работал без эскизов. Набрасывался на камень – только осколки летели. И когда он работал, можно было у него над ухом из пушек палить: он ничего не слышал. Так что я не мог избавиться от него, если бы даже и захотел.
Поэтому, повесив посередине комнаты какие мог собрать простыни и одеяла, я вернулся к своему Лазарю. Целыми днями мы не обменивались ни словом. Я слышал, как он напевал или насвистывал, когда работа двигалась, и ругался, когда затирало. Раз, когда я залепил фарфоровой собачонкой в стеклянную дверь, потому что у меня не получались детские ножки, он выполз из своего закутка и налетел на меня:
–Какого дьявола! Что вам от меня нужно?
–Убирайся к черту, – сказал я ему. – Горлодер паршивый. Кто тебя сюда звал?
Тогда он подошел ко мне вплотную и выставил подбородок. Глаза буравчиками. В руке молоток. Сейчас выбьет из меня мозги, решил я. Поэтому я схватил нож для счистки краски и приставил ему к груди.
–Видит Бог, – сказал я. – Сейчас я прирежу тебя, как куренка, ты, горе-камнетес.
–Чего вы взъелись? – сказал он, осадив назад и приводя в норму подбородок, глаза и прочее.
–А ничего, Господи спаси твою душу. – Поскольку он опустил молоток, я решил, что победа за мной.
–Вы же первый начали, – сказал он. – Зачем вы швыряетесь?
–А тебе что? Твои, что ли, вещи? Забыл, что ты здесь гость?
Тогда он взглянул на ноги и сказал:
–Не много вы сделали за неделю.
–Не лезь не в свое дело.
–И все-таки больше, чем я.
–Что, застопорило? – спросил я.
–А, черт! – сказал он. – В жизни не было у меня такой сволочной работы. Какой я камень угробил! Повесить меня мало. Пойдите взгляните, пока я не перерезал себе глотку.
Глава 31
Откровенно говоря, я так намаялся с этими ногами, что готов был хоть головой об стенку. Не то чтобы они никуда не годились. Какая-то искра в них была. Я понимал: что-то в них есть. Что-то настоящее. Но оно все время ускользало от меня.
Поэтому я готов был уцепиться за любой повод прервать работу и тотчас пошел с Эйблом.
На его половине царил обычный хаос. Пыль, осколки, полупустая бутылка пива на «бехштейне» леди Бидер. С хрустального бра свисала одежда натурщицы, а сама она, светловолосая кубышка по имени Лоли, ходила взад и вперед по комнате, хлопая себя ладонями, чтобы восстановить кровообращение. Лоли распустила волосы, и они свисали до самых ягодиц, покрывая ее на три четверти, – у Лоли были самые короткие в Лондоне ноги.
–Правда, мистер Джимсон, здорово! – сказала Лоли. – Скажите ему, что здорово.
Эйбл даже не удостоил ее взглядом.
–Видите, Джимсон,– обратился он ко мне. – Этот камень двойной. В углу большого – другой, поменьше. Таков характер этой глыбы. Два уровня сверху, а ниже – вертикали малого куба. И у большого скошена левая сторона.
–Что ж, – сказал я. – Эта сторона тебе вполне удалась.
–Я ее не трогал, – сказал он, гладя камень, словно лошадь. – И не буду. Она и так хороша. Но посмотрите сюда.
Он высек из меньшей части женскую голову, грудь и предплечье. Предплечье и грудь в одной горизонтальной плоскости. Голова закинута на сторону, так что щека легла плоско, волосы спадают с затылка, сливаясь с боковой плоскостью глыбы. Для молодого парня, лет тридцати четырех, это было неплохо.
–Совсем не так уж плохо, – сказал я. – Чувствуется монументальность.
–Да, – согласился он.– А вес? – Он сложил свои лапищи горстью, словно две суповые миски. – Вес чувствуется?
–Тяжелее камня, – сказал я. – Пожалуй, она тянет тонн на шестнадцать. Кубышка, как твоя Лоли.
Лоли почесалась двумя руками сразу и сказала сердитым голосом:
–Очень даже хорошо получается. И тема хорошая. Земля, оплакивающая своих сыновей. Но разве он меня слушает!
–Тема, конечно, дрянь, – сказал Эйбл. – Ну да на это наплевать. Я получил ее готовенькой от муниципалитета. Среди советников оказался один с образованием. Но не в этом дело.
–Пора чай пить, – сказала Лоли.
–А ну-ка, повернись, дорогуша. Вот так. – И он взял ее за плечи и повернул спиной. – Взгляните на спину. Что-то в ней есть. – И он провел тыльной стороной своей огромной шершавой пятерни по ее хребту. – Если отвлечься и забыть, что это тело.
–Скажите ему, мистер Джимсон, что лучше ему все равно не сделать, – сказала Лоли. – Он ведь только потому придирается, что не попил чаю. Чаю ему надо, чаю. Скажите ему.
–А посмотрите, что я тут натворил. Обкорнал, прямо обкорнал. Вся монументальность к чертям. А этот угол. А, беда...
–Так, – сказал я. – А зачем, скажи на милость, ты пробил здесь слева дыру? К чему она здесь? Зачем?
–Не спрашивайте,– сказал он, швыряя молоток на пол, да так, что выскочила паркетина. – Мне казалось, что я вижу здесь одного из мертвых: сидит, опустив голову на плечо. Еще утром я его чувствовал. Этот край глыбы и дает линию челюсти и шеи.
–Ага, – сказал я,– с чего же ты взял, что у тебя не получится? Он у тебя достаточно угловатый. О подбородок палец порезать можно.
–А что мне делать с этим углом?
Я увидел лежащую внизу фигуру. Плоская спина давала боковой план.
–Прости, дорогуша. – И он схватил Лоли за плечи, швырнул на колени и пригнул голову к плечу.
–Ах, Боже мой, – сказала Лоли. – Он только все испортит. Когда все уже получалось. Выпил бы лучше вовремя чашку чаю. А, да что там говорить!
–Видите ли, – сказал Эйбл, проводя скарпелем по Лолиным волосам. – Если забыть, что это тело, форма легко строится. – И он провел своими плоскими лапищами в воздухе, словно оглаживая поверхность скульптуры. – Крепкие, как скалы. Вот я и стал рубить верхний пласт. Срезал весь угол. А получилось рыхло. И становится все рыхлее. Как ни стараюсь сделать угловато. Теперь я даже не вижу другой вертикали. Здесь должна быть вертикаль. Таков характер этой глыбы. Здесь должно быть два куба. Чтобы чувствовалась кубичность. А посмотрите на нее: она стала рыхлой, гнилой; стоит чуть надавить – и палец войдет в нее, как в раскисшее масло.
И он двинул глыбу рукой, словно действительно полагал, что его пальцы могут проткнуть ее.
–А я тебе говорю, – сказала Лоли, – поставь здесь ящики с патронами. Ведь это поле боя. Земля, окруженная своими мертвецами. А ящики квадратные, куда уж квадратнее. Скажите ему, мистер Джимсон. Он же меня не слушает. Особенно с тех пор, как мы поженились.
–Что ты, дорогуша, – сказал Эйбл. – Я очень ценю твой вкус. А ну, нагнись-ка еще чуть-чуть. Вот так, – сказал он, обращаясь ко мне. – Может, еще удастся выкроить что-нибудь из Лолиной головы, если сделать ее поплоще.
–Ах, Боже мой, – сказала Лоли. – Ну чем тебе плохи ящики? Раз тебе нужен куб. И выпил бы ты все-таки чаю.
–Милая Лоли, – сказал я.– Нельзя ставить ящики посреди группы: это все равно, что вписать шелковый занавес в середину группового портрета. Одно с другим не вяжется.
–Не настоящий же ящик, – сказала Лоли, и слезы обильно потекли у нее к левому уху. – Ах, Боже мой, Боже мой! Он сегодня не обедал. Пожевал что-то всухомятку. Скоро шесть, а он еще не пил чаю.
–Ящик – идея этого осла, Биссона, – сказал Эйбл, поворачиваясь ко мне. – Я ему сразу сказал, что нельзя мешать искусственный куб и живое тело. Он будет выпирать, как канализационная труба в лесу. Как все эти финтифлюшки в стандартных памятниках, где люди и орудия напиханы вперемежку.
–Его надо остановить, или он все испортит. Скажите ему, что надо и о себе подумать, – сказала Лоли, посиневшая на сквозняке.
–Ты прав, – сказал я. – Тело требует тела. Иначе пропадает ощущение камня. Нельзя менять принцип в середине работы. Нельзя переходить от тела к дереву.
–Скажите ему, что нечего вешать нос, – сказала Лоли. – Ему нужно чашку чаю, и все сразу пойдет на лад.
–А почему бы не дать здесь труп лошади? – сказал я. – Сделай морду плоско по переднему плану, а шею поверни покруче.
–Это мысль, – сказал Эйбл.
–Ящики в сто раз лучше, – сказала Лоли. – Их и сделать быстрее. Пусть будут железные, если не нравятся деревянные.
Эйбл изогнулся и приставил к глазам ладони.
–Вчера он сам говорил о ящиках, – сказала Лоли. – Но вчера он сытно пообедал.
–Да, дорогуша, – сказал Эйбл, поднимая ее с полу. У нее затекла нога, и она не могла стоять. – А ну-ка, скачи в тот угол и ляг на бок. Вот так. А теперь вытяни ноги и руки, а шею изогни. Изобрази нам дохлую лошадь.
Лоли вытерла нос ладонью, так как другого, подходящего для этой цели предмета у нее не было, и растянулась на полу.
–Тут нужна лошадь, которая недавно издохла, – сказал я. – А не какая-нибудь раздувшаяся падаль.
–А ну убери живот, дорогуша, – сказал Эйбл, тыча ее носком под ребра. – Выставь диафрагму.
–Так? – сказала Лоли. – Ах, Боже мой, он же так устал, мистер Джимсон. Просто вконец вымотался. Видите, вот-вот заплачет. Ему нужно передохнуть во что бы то ни стало.
–Нет, не то, – сказал я. – Пойдем-ка в соседнюю комнату, и я вырежу то, что нужно, из сыра.
Мы с Эйблом вышли за дверь, и я вырезал из сыра то, что имел в виду.
–Получается чуть искусственно, – сказал он. – Чуть надуманно.
Мы немного поговорили на эту тему, а потом отправились в «Красный лев» и посидели за пивом. И тут я вспомнил про Лоли.
–Лоли сильно изменилась за этот год, – сказал я. – Раньше она напоминала поросенка, а теперь похожа на бабуина с собачьей мордой.
–Да, – согласился Эйбл, – изменилась. Но в целом к лучшему. У нее вытянулась челюсть, а щеки запали. Лицо стало площе и компактнее. Хорошее лицо по сравнению с другими, где нагромождено столько никчемных подробностей.
–Если побелить ее и снять уши, получится верстовой столб.
—Ну нет. Вряд ли. На это трудно рассчитывать. Не с нашими черепами. Пустая затея.
–Ты и вправду женился на ней?
–Женился, – сказал он. – То есть мы зарегистрировались. Последняя моя жена, вполне возможно, еще скрипит где-нибудь. У меня не было времени выяснять. Но у Лоли много достоинств, и я рад, что она со мною.
–Любовь с первого взгляда.
–Именно, – сказал он. – Как только я ее увидел, я сразу ей сказал: «Ты мне нравишься. А ну-ка, разденься». Она разделась – ну, вы сами видели. Второй такой не сыщешь. «Послушай, Лоли, – сказал я, – ты прямо для меня создана. Почем ты берешь?» – «Со скульптора три монеты в час, из-за пыли», – сказала она. «Платить мне тебе нечем, – сказал я, – но могу на тебе жениться, и по утрам ты будешь позировать кому захочешь. А я согласен работать ночью».
–Ну, и она пошла за тебя?
–Пошла. Она сказала, что хочет устроить свою жизнь. Иногда, когда повезет, она зарабатывает по четыре-пять фунтов в неделю. Мы живем припеваючи. Очень удачный брак. Но, видишь ли, мы люди смирные. Домоседы. Не любим крутиться в поисках развлечений. Нет, женитьба для художника – великое дело. Конечно, если напасть на стоящую бабу.
–Знаешь, я раз напал на такую. Рубенс со сливками. И я заговорил о Саре. Мы просидели до закрытия, болтая о Саре и Лоли и, как все женатые мужчины, хвастаясь добродетелями наших жен.
Потом мы вернулись домой, и пока Эйбл пробовал резец о буфет, или, вернее, о погребец леди Бидер, я прошел в студию и на Эйбловой половине обнаружил, что Лоли все еще лежит, прижавшись лицом к полу. Она была буро-сизая от холода и окостеневшая, как труп.
–Эй, – сказал я. – Ты вроде замерзла.
–Я боялась двигаться: мне показалось по его глазам, он нашел то, что нужно. Потом он сказал бы, что я все испортила.
–Мне бы ты в таком цвете не подошла, – сказал я. – Но скульпторы, наверно, народ неразборчивый.
Тут вошел Эйбл и сказал:
–Эй, Лоли, какого черта ты валяешься здесь столько времени?
–Ты же не велел мне одеваться.
–Не велел? Ах, извини. Разве ты не проголодалась? Вставай-ка, выпей чаю. Нет, погоди. Минутку. В изгибе левого плеча что-то есть. – И он принялся тесать камень.
Он тесал всю ночь. Я слышал, как он напевал и насвистывал. А когда утром я заглянул на его половину, то нашел его в великолепном настроении. Он здорово продвинулся. Но тут мы заметили, что Лоли плачет. И когда мы спросили ее, с чего это она, она сказала, что боится за Эйбла. Он, верно, страшно устал. Но мы подняли ее, хорошенько растерли полотенцами, напоили чаем, и десять минут спустя она уже готовила нам завтрак.
–Вот это женщина. На тысячу одна, – сказал Эйбл. – Вынослива, как слон. Она позировала мне как-то на улице в декабре, когда снегу было по щиколотку; я ее не заставлял, сама захотела – и ничего. Только кончик носа обморозила, а он мне и не нужен.
Лоли действительно была крепко скроена. А в жене это первое дело. Она позировала Эйблу весь тот день и почти всю ночь. Пока у него самого резец не стал валиться из рук и в глазах не потемнело.
Назавтра у него, конечно, опять разладилось. В сердцах он швырнул молотком в зеркало леди Бидер и смылся. Лоли разыскивала его по всему Лондону. И каждый вечер приходила ко мне плакаться. Только бы он опять не повесился, говорила она.
–Он всегда так: день хандрит, день на седьмом небе. Не люблю, когда у него хандра. Но что поделаешь? У каждого свои недостатки. А он, надо прямо сказать, муж хороший. Не то, что Биссон. Тот бьет натурщиц спортивной дубинкой, просто так, чтобы поразмяться.
–Мне казалось, эта группа ему удается.
–Удается? – сказала Лоли. – Нет. Прежняя была лучше. Впрочем, все его скульптуры никуда не годятся. Ни в одной меня узнать нельзя – бесформенная куча. Только, пожалуйста, ему не проговоритесь. Сам он не увидит, а работа его успокаивает. Ах, бедняга, – сказала она жалостливо. – Горе одно, а не скульптор. Вряд ли хуже есть на свете. Но, по-моему, он счастлив. Как вам кажется? Насколько может быть счастлив человек с таким хилым здоровьем и при таком беспорядочном образе жизни.
–Думаю, что счастлив, – сказал я, – Иногда. Только, пожалуй, сам того не замечает.
–Ему нравится быть скульптором, – сказала Лоли. – Наверняка нравится. И я ему тоже нравлюсь. Особенно со спины. Нет, конечно же, он счастлив.
–Насколько может быть счастлив человек, – сказал я.
–Счастлив, – сказала Лоли неуверенно. – Во всяком случае, когда у него подъем. Уж я-то знаю, как с ним быть, когда в руках у него новый камень и нет бессонницы.
–Что, он уже однажды вешался?
–Пытался. Но как раз когда он начал задыхаться и терять сознание, ему вдруг в голову пришла новая идея – что-то вроде новой готики, – и он забарабанил по стене. Пришли соседи и сняли его.
Раздетой Лоли была мне ни к чему. Формы для скульптора: ни шеи, ни талии, ноги как солдатские сапоги. Но в одежде она мне нравилась. Она придерживалась старой моды: лиф на пуговичках, длинная юбка, шляпка с перьями в стиле старушки Фил Мей. Дело в том, что, как она мне объяснила, при такой короткой шее лучше носить длинные волосы. А так как они были густые, она зачесывала их вверх, а такая прическа требует шляпку. И так как ноги у нее были короткие и толстые, она предпочитала длинную юбку. Поэтому она остановилась на моде девяностых годов. И ей это шло, с ее моськой как у мопса. При виде Лоли я вспоминал свою юность, когда женщины выглядели женщинами. Конечно, до Сары ей было далеко. Лоли росла в эпоху хромированной посуды и вошла в жизнь вместе с целлофановыми обертками. Порою она сама не знала, что она – женщина или зубоврачебное кресло.
– Рожать детей? – говорила она. – Нет, только не я. Столько хлопот ради пушечного мяса. Не пойдет. А когда ты из-за них вся выпотрошишься, они тебе скажут: «Освобождай, старая, место, пора на кладбище».
Когда я смотрел, как она потягивает пиво в «Орле» и ее страусовые перья колышутся от ветерка, обычного у газовых заводов, я чувствовал себя снова двадцатилетним, в котелке и узких брючках. Но когда я обнимал и тискал ее, она не хихикала, как женщины в доброе старое время, и не шептала: «Не смей!», и не подымала на меня, как Рози, глаза, говорившие: «Вперед, вперед, смелей, вперед», а только отхлебывала очередной глоток пива или продолжала объяснять, какие у Эйбла слабые нервы. Нет, настоящей жизни, жизни женщины, она и не нюхала. И никакой другой у нее тоже не было.
Но я охотно разгуливал со старомодным лифом и страусовыми перьями, и мы обошли все пивнушки и другие злачные места в Челси, Хемпстеде и Хаммерсмите. Завернули даже в «Элсинор».
Я подумал, что Плант сможет помочь нам: он наперечет знал все ночлежки вместе с их обитателями.
Мои отношения с Плантом уже не были прежними. Он был против моего переезда к Бидерам. Ни разу не зашел ко мне туда и наотрез отказался взять у меня взаймы.
–Извините, мистер Джимсон, – сказал он, – но я люблю быть сам по себе. Не делал и не буду делать долгов.
–Очень хорошо. Но жить-то вам надо,– сказал я. Я застал его на кухне в «Элсиноре» без гроша в кармане. Есть ему было нечего.
–Мне дают койку за то, что я здесь убираю.
Когда я рассмотрел его получше, мне показалось, что он постарел лет на двадцать: ему можно было дать все восемьдесят.
–Послушайте, Плант, – сказал я. – «Элсинор» вас уморит. Вы не созданы для ночлежки. За место в жизни приходится бороться. И чем ниже стоишь, тем яростнее. А вы так и не научились драться. Философ до мозга костей – ни кулаков, ни зубов.
Но Плант только качал головой.
–Каждому свое, мистер Джимсон, – сказал он. – Каждому свое. Жизнь сложилась так, как сложилась.
–А как сложилось с едой? – спросил я.
–Да ничего, – сказал он. – Народ здесь на редкость небережливый. Вы даже не поверите, сколько огрызков хлеба и бекона летит в ведро. А уж счистить мякоть с селедки никто не умеет. Так что мне хватает.
И он не взял у меня ни пенни.
–Нет, – сказал он. – Уж вы извините, мистер Джимсон, но я не люблю делать долги.
–Беда с вами, Планти, – сказал я. – Слишком уж вы горды. Неужели лучше выуживать огрызки из помойного ведра, чем сознаться, что вы неправы?
–В чем неправ, мистер Джимсон?
–В отношении к жизни. Тут нечего мудрить. Все очень просто. Как сказал дрозд улитке, прежде чем разбить ее раковину о камень: «Не так, так этак».
Но говорить с Планти было бессмысленно. Он слишком глубоко ушел в себя. Даже не мог сказать, заглядывал ли Эйбл в ночлежку, так как не видел, кто приходил и уходил. Он целыми днями сидел, забившись в угол, пытаясь понять, что же с ним произошло и как это могло случиться, пока не пришел хозяин, не повесил ему на крюк ведро, а в левую руку не сунул метлу. И тогда Планти принялся чистить нужники, мыть лестницы и выносить помои. И все это как во сне.
Эйбла вообще никто не видел. Хотя на человека с такими глазами, такой шевелюрой, такими ручищами, в малиновых носках и зеленых сандалиях нельзя было не обратить внимания. Я начал думать, что он попал под машину или удрал за город.
Но Лоли не теряла надежды.
–Нет, – сказала она. – За город он не ездит, разве что на час-другой, и то если по делу. Он не выносит природу. Она напоминает ему пейзажи. И не думаю, чтобы он снова стал топиться. Он не взял с собой ни скарпеля, ни шпунтов.
–А он уже топился?
–Дважды. Первый раз он спрыгнул со ступеней Вестминстерского моста, но все кончилось как нельзя лучше. Потому что у парня, который его вытащил, уши оказались без мочек, и у Эйбла родилась идея, как повернуть абстрактную скульптуру, что-то вроде вазы, над которой он тогда работал. А второй раз он сунул в карман все свои молотки и прыгнул с моста Ватерлоо, но, коснувшись воды, открыл в себе такое удивительное чувство горизонтальной плоскости, что сейчас же стал звать на помощь. Он тут же помчался домой и сделал фигуру, которую назвал «Ровная поверхность». Никто, правда, не принимал ее всерьез. И, между нами говоря, ничего в ней и не было хорошего. Но Эйбл ходил счастливый недель шесть. А потом из нее получилась отличная кухонная доска. Слава Богу, он порвал с абстракционизмом, – сказала Лоли. – Он, конечно, дрянной скульптор, но все-таки уже не абстракционист.
Я не удивился, услышав, что Лоли не одобряет абстракционизм. Как если бы осел зеленщика вдруг заявил, что его не волнует купол Святого Павла.
–Надо полагать, он обходится без натурщицы, когда занят абстрактной скульптурой?
–Да, тогда я нужна ему только как женщина. Но что он тогда вытворяет! Еще немного абстракций, и мы оба протянули бы ноги. И что все находят в этом абстракционизме? Все равно что есть треугольники и спать со швейной машиной.
Насчет Эйбла Лоли оказалась права. Несколько дней спустя мы натолкнулись на него на нашей же улице. Он шел в студию. Из города он не уезжал. Всю неделю пьянствовал в каком-то питейном заведении в Белгрэвиа. Ночью пил, днем отсыпался. Сидел на хлебе и сыре. Голова у него была вся в хлопьях пыли, лицо обросло двухдюймовой щетиной, щеки позеленели, глаза стали красными. Его бил озноб. Но энергии и энтузиазма было хоть отбавляй. Он приобщился тайн ваяния.
–Я обрел чувство падения, – сказал он. – Меня адски мутило, и я наклонился над тазом, как вдруг меня осенило: «Вот оно! Все время брезжило. Падение». Вначале я даже решил, что это взлет. Понимаете, Джимсон, – сказал он, поводя своими лапищами, словно вытирая лотки из-под рыбы, – я все время пытался увидеть эту штуку снизу вверх и пер против природы, а надо – сверху вниз. Вот так. А ну-ка, Лоли, разденься. Я ему сейчас покажу.
Лоли была в таком упоении оттого, что к ней вернулся ее супруг и повелитель, что принялась раздеваться тут же на улице. К счастью, мы добрались до дома, пока она была еще не совсем голая. Две минуты спустя обеденный стол сэра Уильяма уже лежал опрокинутым набок у кипы книг, а с него, уцепившись за верхний край подбородком и распластав руки, свисала Лоли.
–Мне нужно тело в падении, – сказал он. – В широком плане.
Три следующих дня он так отчаянно шумел – пел и чертыхался, – что я ни на минуту не мог сосредоточиться. Мне казалось, что я никогда уже не сделаю ни одного мазка. Собственно говоря, он выжил меня из студии, и я, пожалуй, съехал бы с квартиры, если бы не мой юный друг Барбон. Выходя однажды вечером из «Красного льва», я увидел перед собой в тумане нечто тощее, серое и дрожащее с головы до ног. Я решил, что налетел на извозчичью клячу, которая вот-вот протянет копыта, как вдруг услышал знакомый голос:
–Мистер Дж-джимсон.
–Вот те раз, – сказал я. – Да никак это Носатик? Я чуть было не принял тебя за лошадь.
–Я вас ждал, увидел через окно.
–Ну как дела? Занимаешься вовсю?
–Плохо. Со стипендией у меня ничего не вышло. Пришлось идти в контору.
–Отлично. Держись за контору. Постоянное жалованье. Спокойная жизнь.
–Н-но меня в-в-выгнали.
–За что?
–Н-не гожусь. Ч-часто оп-п-паздываю.
–Не беда. Найдешь другое место. Клерком или рассыльным. Или кухонной прислугой. На худой конец, посидишь дома.








