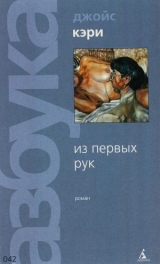
Текст книги "Из первых рук"
Автор книги: Джойс Кэри
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 28 страниц)
Пройдя дальше, я наткнулся на леса. Участок под застройку. Старый дом на снос. Еще дальше – переулок, который я раньше как-то не замечал.
Люблю забираться в переулки. То дерево попадется, то шустрая девчоночка, подметающая двор. Переулок резко сворачивал вправо. Шесть баков для мусора, конюшня и старая часовня. Готические окна и у входа кукольная жестяная ризница, напоминающая платяной шкаф. Зашел вовнутрь – посмотреть, какие перекрытия. Пусто. Ничего, кроме груды старых шин. Несколько прогнивших планок. Низкая покосившаяся кафедра, похожая на скамью для подсудимых. И вдруг – стена. Восточная стена. Двадцать пять на сорок. Подарок неба! Окна заложены кирпичом, простенки гладко оштукатурены. Остается только подштукатурить кирпичную кладку в окнах. С этим я и сам справлюсь. Я глазам своим не верил! Кто-то меня разыгрывает! Я даже слышу, как они там приготовились гоготать во все горло. Ноги мои так дрожали, что пришлось присесть на ступеньки кафедры. Я весь покрылся потом. И я сказал себе: «Нет, Галли, это мираж. Ловушка. Опять нечистый тебя морочит. Не поддавайся обману. Сохраняй спокойствие. Свобода дороже всего». Но ноги все равно дрожали, а сердце колотилось. Господи Иисусе, подумал я, а что, если это правда? Что, если это мне? Выпить бы. Четыре наперстка зеленого зелья и немного шипучки. Промыть кишки. Мне становилось не лучше, а хуже. Я вышел на улицу и постучался в первую же калитку. Молодой человек с незабудковыми глазами и багрово-лиловым подбородком. Выставил свою картофелину в калитку и сказал:
–Ну, чего еще?
–Эта развалюха, – сказал я, – она чья?
–А пес ее знает.
–Что в ней помещается?
–А ничего. Был гараж, а теперь ничего. Идет на слом.
–Еще бы! Кошка чихнет – и то трясется. Кто-нибудь караулит эту рухлядь?
–Тут один, через подъезд.
Через подъезд обретался старикашка на одной ноге, да и та кривая. Нос как перечница, серые глазки, и весь в веснушках. Да, говорит, я сторожу часовню.
–Списали на слом?
–Вроде. Но она еще послужит.
–Сколько в неделю, если снять?
–Ну... фунт.
–Полкроны.
–Меньше фунта никак нельзя.
–Для религиозных целей.
–Какой вы церкви?
–Пресвитерианской.
–А секта?
–Особая.
–Десять шиллингов в неделю.
–Три и шесть пенсов.
–Надбавь половину.
–Идет. За мной. Четыре шиллинга три пенса. Держи шиллинг задатка.
–Не получается.
–Считай сам: десять шиллингов минус три шиллинга шесть пенсов – это шесть шиллингов и шесть пенсов. Делим пополам, получаем три шиллинга и три пенса, а я дал тебе шиллинг. Это будет четыре шиллинга три пенса.
–Нет, погодите, мистер...
–Меня зовут Джимсон, Галли Джимсон. Ну, по рукам. Я пошел за вещичками.
–Но послушайте...
Но я не стал слушать, а помчался к старому сараю. Коукер только что вкатила коляску и журила малыша. Я схватил стул и сковородку в одну руку, ящик с красками – в другую и пустился наутек.
–Эй, – крикнула Коукер, но я не стал с ней объясняться. Пять минут спустя я уже был в часовне. И не успел я водрузить стул посредине амвона, а сковородку и краски на кафедру, как кривая нога просунула свою перечницу в дверь.
–Постойте, за вашу цену я вас не пущу.
–Уже впустил, я здесь. Въехал и поселился.
–Как въехал, так и выедешь.
–Опоздал, братец. Все по закону. Необходимая мебель, предметы для приготовления пищи и орудия производства. Смотреть можешь. А трогать не смей! Сходи к шерифу. Он тебе разъяснит.
–Негодяй!
–Вот как! Оскорбление личности. Завтра же мои адвокаты предъявят вам иск. За «негодяя» полагается солидный штраф.
–У тебя нет свидетелей.
–Что? Может, станешь отрицать, что назвал меня негодяем?
–Негодяй и есть. Сколько же ты будешь платить?
–Четыре шиллинга и три пенса.
–Совести у тебя нет.
–Зачем же ты взял задаток?
–Задаток! Липа, а не задаток. Французская медяшка.
–Ой! Неужели я сунул тебе мой талисман? Верни, пожалуйста.
–И не подумаю.
–Ну, будь человеком.
–А ты не будь мошенником.
–Сколько же ты хочешь содрать с меня за эту помойку?
–Шесть шиллингов, как договорились.
–Пять шиллингов. Так уж и быть. Ради твоих внучат. Но имей в виду, Богово грабишь. Не пойдут тебе эти деньга впрок.
–Ладно, пять шиллингов шесть пенсов, и шут с тобой.
–Вот теперь хоть видно, что христианин.
–Плевать мне, что тебе видно. Я хочу видеть твои денежки.
–Все в свой срок, братец. А пока мне нужно осмотреть помещение и помолиться.
–У меня сильное желание сходить за полицией.
–Ах, вот что тебя мучит. А других желаний нету?
Старичок выругался и заковылял к выходу, бормоча что-то про себя. Совсем как мамаша Коукер. Только шеей двигал иначе. Не как змея, а как черепаха. Я захлопнул за ним дверь и наложил засов. Потом измерил пол. Двадцать пять в ширину. Стены крепкие, как саркофаг фараона. Взглянул на восточную стену и увидел на ней картину. Лучшую из всех, что написал. Двадцать пять на сорок. Голова пошла кругом. Многовато для старых мозгов! Я сел и рассмеялся. Потом расплакался. Ах ты, старое помело! Вот ты и прибыл в гавань. Получил все, что надо. Сначала замысел, а теперь стена. Господь Бог тебе улыбнулся. Иначе говоря, тебе повезло. Дважды повезло. Образы лезли из меня, как змеи из яйца. Коукер и Сара, Лоли и Черчиллева шляпа, белое, красное, синее, ноги, руки, зады и что-то большое черное, напоминающее по форме карту Исландии, с белым овальным пятном в северо-восточном углу. Бог его знает, что оно означало. Ладно, потом разберусь. Но это темное пятно, сочетаясь с красным, приводило меня в восторг. Господи Боже мой, сказал я себе, только бы успеть, прежде чем какой-нибудь идиот начнет толковать мне о публике, деньгах или погоде. И я вынул краски и сделал эскиз на стене. Четыре на три.
Одно дело представить себе картину, другое – написать ее. Но на этот раз у меня почти сразу получилось. Без пробелов и пустот. Судя по эскизу, все пространство заполнялось. Но и это, как знает каждый художник, занимающийся росписью, только начало. Потому что та же линия, которая в миниатюре пружинит и играет, как натянутая струна, на стене может омертветь и обвиснуть, как завязка от фартука. И тот же рисунок, который на конверте выглядит сочно и живо, может оказаться плоским и скучным, как воскресная афиша, стоит дать его в натуральную величину.
Глава 36
Вдруг я заметил, что стемнело.
И я так проголодался, что съел бы сковородку и закусил сковородником. Я убрал краски в кафедру, опустил большую кисть в кружку с водой и вышел через ризницу, оставив парадную дверь запертой изнутри. На случай, если старой перечнице вздумалось бы безобразничать. А окно закрыл с наружной стороны. Вот так-то!
Вечер как у старого трепача Билли Блейка. Зеленовато-лиловое небо с оранжевыми языками на западе. Длинные плоские облака, словно медные ангелы с бронзовыми кудрями, плывут на огненных волнах. Река бронзовато-зеленая и кроваво-оранжевая. У воды растянулся старик с зеленой бородой, рука закинута за голову, лицо перекошено. Видение Темзы кабацкой. Вот это, пожалуй, можно использовать, подумал я, эту округлую форму вроде купола Святого Павла, сдавленного посредине, – сосок, вытянутый у конца. Чуть сплющенный по бокам, нежный, как дыхание младенца. Хорошо впишется рядом со скалой, рядом с пещерой. Как раз то, что мне нужно. А облако не пойдет. Что еще? Засохшая ветвь. Носорожий рог. Палец гориллы. Обрубок ноги. И пока я вместе с Уолтером Оллиером ел сосиски с картофельным пюре в «Коузи Кот», культя жерлом пушки полезла из картины. Пушка? Зачем мне в «Сотворении мира» пушка? Но тут она вывернулась наизнанку и стала туннелем, прорезавшим полотно насквозь. Это же крот, сообразил я. Конечно же, крот. Черное пятно, которое мне так нужно. Непременно нужно дать черное пятно, где-нибудь в правом нижнем углу. Крот с четырьмя лапами, слепой, пробирающийся под землей, с человечьей мордой.
–Еще чашечку кофе? – сказал Уолтер; он угощал.
–Спасибо, Уолтер, – сказал я. – У вас вряд ли найдется сто фунтов ссудить мне.
–Боюсь, столько не наберется,– сказал Уолтер. – Сотня – нет, вот пять – пожалуй.
–Мало, – сказал я. – У меня большая работа, нужен оборотный капитал.
–Картина?
–Да, картина.
–Я, конечно, не знаю, – сказал Уолтер, – но раз правительство, наверно, заинтересовано в вашей картине, оно могло бы дать вам немного вперед.
–Ну что вы, – сказал я. – Что правительство понимает в картинах?
–Ваши они охотно купили.
–Купили. Но, во-первых, та картина была старая, а во-вторых, сами они о ней понятия не имели, пока газеты не устроили бум.
–Что ж, – сказал Уолтер, – я не понимаю в картинах. Но раз газеты понимают, почему они не скажут правительству, чтобы оно покупало у вас картины?
–Но газеты вряд ли что поймут в моей картине, Уолтер. И не поймут еще двадцать – тридцать лет. Картина не журнальная иллюстрация. На нее мало разок взглянуть. Сначала надо к ней привыкнуть – положи на это лет пять. Потом понять – еще десять; потом научиться получать от нее удовольствие – на это уходит целая жизнь. Если, конечно, в первые десять лет ты не поймешь, что она никуда не годится и ты только зря ухлопал на нее время. Нет, Уолтер, у меня есть лошадка получше, чем правительство. Я ставлю на миллионера.
–Тогда лучше не писать, а обратиться лично.
–Слишком долго; достаточно позвонить – и он примчится, как на пожар.
Уолтер искоса, поверх носа, взглянул на меня. Хотя Уолтер проходил службу в армии, нос у него был флотский, с высокой переносицей.
–Позвонить? – сказал он, пытаясь в возможно вежливой форме предостеречь меня.
–Да, позвонить, – сказал я. – Чтобы объяснить положение дел.
–И каково же оно?
–Тут два положения: мое и его. Его положение несколько щекотливо: ему в любую минуту могут перерезать глотку.
–Выпейте еще кофе, мистер Джимсон, прошу вас, – сказал Уолтер, густо краснея. Никогда не видел его таким кирпично-красным. Он искал способ как-то занять меня, чтобы отвлечь от злодейских помыслов. – Кофе здесь неплохой, не правда ли? Мне по крайней мере всегда казалось, что неплохой.
–Спасибо, Уолтер, – сказал я. – Пожалуй, выпью. Мистер Хиксон сейчас скорее всего принимает ванну и вряд ли подойдет к телефону.
–Вы думаете, он понимает в новых картинах так, как вы сейчас объясняли? – сказал Уолтер, подзывая официантку.– По-моему, куда лучше обратиться к правительству.
–Нет, не понимает, – сказал я. – Мистер Хиксон никогда ничего не понимал в моих картинах. Но он миллионер и понимает, куда вкладывать деньги. Иначе он не был бы миллионером.
–А он все еще миллионер? – сказал Уолтер. – Говорят, они нынче повывелись. Столько народу их травит.
–Повывелись, как хорьки.
–Говорят, им скоро вовсе конец. Правда, это из газет.
–Вполне возможно, они сами себе устроят конец, – сказал я. – Они сильные особи, результат естественного отбора; но даже тигры и белые медведи способны отчаяться, если все вокруг их возненавидят.
–А что же будет с художниками, когда не станет миллионеров? Что ж, и искусству конец?
–Только не искусству. Искусство нельзя уничтожить. А вот оригинальное творчество уничтожить можно.
–И что тогда?
–А ничего. Публика будет довольствоваться старыми мастерами, народным искусством и тому подобным, пока ее не затошнит.
–Затошнит? От искусства?
–От всего вместе. Хотя сама она этого и не понимает. Такая болезнь, вроде ящура. Во рту гадко, ноги отказываются служить, и больной тащится в пивнушку, и всегда в одну и ту же. Специалисты говорят, что в провинции, где нет ничего, кроме старых мастеров, это очень распространенное заболевание. Молодежь не знает, куда себя девать, и начинает шпарить кошек или стричь коровам хвосты. В конце концов в них накопляется столько злости и желчи, что душа, кроме виски и политики, ничего не принимает. И они умирают в тяжких мучениях.
–Значит, вы за миллионеров?
–Чем их больше, тем лучше. По мне, так все должны быть миллионерами.
–Много денег, много неприятностей.
–Святая правда. Взять хотя бы меня и мистера Хиксона.
–У него много неприятностей?
–Ему пришлось порядком побеспокоиться из-за меня. И придется еще, как только он выйдет из ванной.
Уолтер подскочил на стуле и стал озираться по сторонам, словно взывая о помощи.
–Еще порцию сосисок с пюре, мистер Джимсон?
–Нет, спасибо, Уолтер. Сейчас самое время позвонить.
–Но вам же не обязательно звонить Хиксону сегодня?
–Обязательно сегодня, Уолтер. Я больше не могу терпеть такое положение.
–Что же такого в вашем положении?
–Ладно, Уолтер, скажу вам как другу. Я уже в годах и не могу помногу работать. А я задумал лучшую свою картину – произведение, которое останется жить в веках. Я хочу подарить Англии роспись, которой она сможет гордиться перед всеми народами. Она сможет сказать: я дала миру Шекспира, Мильтона, Билли Блейка, Шелли, Уордсворта, Констебля, Тернера и Галли Джимсона. Загвоздка, Уолтер, в том, что нужно пятьсот фунтов, чтобы ее сделать, и двадцать лет, чтобы ее приняли, то есть, я хочу сказать, оценили. Конечно, к тому времени я уже помру, что будет даже к лучшему для картины. После смерти меня удостоят славы. Я стану историей, а к истории относятся с уважением. Историю изучают в Оксфорде и Кембридже. Поэтому, Уолтер, дело за малым – написать картину и присмотреть, чтобы, пока я не умру, ее не разодрали на куски, не замалевали и не оставили под дождем.
–Вам придется взять помощника – следить, чтобы детишки ее не попортили.
–Да, и на все это мне нужны деньги, пятьсот фунтов в год. И первые пятьсот я добуду сегодня же.
–По телефону?
–По телефону, – сказал я.
–Не знаю, – сказал Уолтер. – Я вот не люблю телефон. Я люблю письма.
–Нет, я за телефон, – сказал я. – Быстрее, и говоришь что хочется.
Когда мы вышли, Уолтер поспешил извиниться и зашагал со скоростью четыре мили в час. Что на целых полмили превышало его обычную – три с половиной,– положенную почтальону по уставу. Я тоже не стал терять времени даром и, зайдя в первую же телефонную будку, позвонил мистеру Хиксону. Ответила женщина.
–Простите, – сказал я. – Я звоню по поручению дирекции Национальной галереи. Могу я говорить с мистером Хиксоном?
–Пожалуйста, подождите у телефона.
И почти сейчас же мужской голос сказал:
–Я вас слушаю.
Хиксон говорил не своим голосом, но я не стал обращать внимание.
–Мистер Хиксон, – сказал я, – я звоню по поручению дирекции Национальной галереи. Как нам стало известно из официальных, но вполне достоверных источников, покойный мистер Галли Джимсон оставил после себя исключительно интересные картины, которым надлежит быть собственностью нации.
–Простите, – сказал мужской голос на другом конце провода, – разве мистер Джимсон умер?
–На прошлой неделе, – сказал я. – По официальным сведениям. Но его секретарь, мистер Барбон, принимает любые денежные взносы.
–Досадно, – сказал мистер Хиксон, – мы как раз его разыскиваем, чтобы издать его биографию. Мы располагаем всеми необходимыми иллюстрациями.
–Я вторично наведу справки, – сказал я. – А вдруг известие о смерти Джимсона окажется ложным.
–Я был бы этому очень рад. Мой покойный дядя, как вы знаете, завещал три его картины государству.
–Какой покойный дядя?
–Мистер Джордж Хиксон.
–Но я звоню мистеру Джорджу Хиксону! – сказал я, и мне стало так худо, что я едва не свалился в будке. – Вы что хотите сказать? Что мистер Джордж Фредерик Хиксон умер?
–Вот уже три месяца.
–Не может быть, – сказал я. Потому что этого не могло быть. – Мне нужны доказательства.
–Вы найдете их в «Тайме» или можете обратиться в Сомерсет-хаус. Завещание уже зарегистрировано.
–Кто же вы, черт возьми?
–Мистер Филип Хиксон. К вашим услугам.
–Первый раз слышу, – сказал я. – Смотрите, если вы меня разыгрываете, вам несдобровать. Мистер Джордж Хиксон был моим близким другом. Мы знали друг друга сорок лет. Мой первый покровитель.
–Дядя действительно умер. На следующей неделе продают его дом.
–Как продают? Зачем? – сказал я. – В нем лучший в Лондоне выставочный зал.
–Дом слишком велик для нас. Никто из наследников не может содержать его. Имущество разделено между семью родственниками, и все коллекции будут проданы. Кроме шести картин, которые он завещал государству.
Я помолчал. Известие о смерти Хиксона так ошеломило меня, что мои колени заколотились о пальто. Хиксон скончался! Я почувствовал себя таким одиноким, как человек, потерявший при кораблекрушении часть своей семьи.
–Я обращусь в Сомерсет-хаус, – сказал я сердито, – и если сведения о смерти Хиксона подтвердятся, мне придется ознакомиться с документами.
–Какими документами?
–Полагаю, вам известно, что мистер Хиксон задолжал мистеру Джимсону значительную сумму денег, точнее сорок, если не пятьдесят, тысяч фунтов стерлингов. Разумеется, никаких расписок между ними не было. Долг чести. Поэтому, думаю, мы сможем прийти к соглашению.
–А вы сами случайно не мистер Джимсон?
–Разумеется, нет. Но я считаю себя обязанным защитить его память от всяких поклепов.
–Подождите, пожалуйста, у телефона, я сейчас выясню, какие за дядей числятся долги.
Но я не стал ждать. Не имел желания еще раз садиться в тюрьму. Я шваркнул изо всех сил трубкой о рычаг, чтобы у негодяя затрещали перепонки, и вышел из будки, не закрыв за собою дверь.
Но лучше мне не стало. У меня тряслись ноги, и, завернув за угол, я опустился на ступеньки. Не может быть, думал я. Хиксон умер! Ему же было не больше семидесяти. Что-то здесь не так. Но я знал, что все так. Как знает человек, которому отняли ногу, а он все еще чувствует мозоли. Я был сам не свой. У меня было такое ощущение, будто земля разверзлась у меня под ногами. Я чувствовал себя как собачка из известного анекдота, которая, прибежав однажды утром на Ломбард-стрит, чтобы задрать ножку на Английский банк, вдруг обнаружила, что его там нет. Нет, и все тут. Даже дырки в земле не осталось. Ничего не осталось. Даже лаять не на что. Пусто. А какой смысл лаять в пустоту? Никакого. Ничего не добьешься, только глотку надорвешь. Не может быть, сказал я. Вздохнул глубоко и вдруг почувствовал, что плачу. Тогда я приободрился. Настоящие слезы. Значит, я еще не совсем старый, подумал я, раз способен плакать. Есть еще соки в старом стволе. Я поднялся и побрел домой.
Когда Коуки увидела меня, она даже отпрянула. Потом накричала на меня и засунула в кровать.
–Взгляните, на что вы похожи, старый гуляка. Ведь вы же опять простудились. Кто это выходит в таком виде?
–Нет, Коуки, – сказал я. – Я не простудился. У меня большое горе. Я потерял старого друга. И на меня это очень подействовало. Будь ты настоящей женщиной, Коуки, я бросился бы к тебе на грудь и плакал, как малое дитя. Не веришь? Ей-богу. Мне еще никогда так не нужна была женщина, как сейчас. Именно женщина, а не баба.
–Ничего, вы у меня еще поплачете, если в таком виде выйдете из дому.
Коуки не верила, что у меня могут быть друзья, кроме нее. По природе она была настоящая женщина, хотя и не позволяла себе в этом признаваться.
Глава 37
Три дня Коуки держала меня взаперти. Не выпускала даже взглянуть на мою стену. Хоть умри! А что я мог без денег? Я сам себя не уважал, а Коуки плевала на мои просьбы. К счастью, на четвертый день, то есть четырнадцатого, была годовщина со дня смерти Рози. И когда я сказал Коуки, что мне нужно съездить на кладбище, она отдала мне одежду.
Я зашел в цветочный магазин и попросил продавца сделать венок богаче, чем всегда.
–На две гинеи, пожалуйста, – сказал я.
–С живыми цветами? – сказал продавец.
–С живыми цветами. На две гинеи. А счет выпишите на три.
Продавец сохранял скорбный – из уважения к моим чувствам – вид. Он понимал, что горе мое искренне.
–Счет послать мистеру Томасу Джимсону? – спросил он.
–Да, как всегда, – сказал я. – На банк Кокса.
Потому что Том всегда оплачивал венок и даже
сам посылал мне открытку, чтобы напомнить о дате.
–В этом году все подорожало, – сказал я. – Из-за погоды.
Мы с продавцом были старые друзья.
–В прошлом году счет был на три фунта восемь, – сказал он, – а букет всего на полторы гинеи.
–В прошлом году в счет вошли расходы на гостиницу, – сказал я, потому что всегда очень следил, чтобы у нас с Томом все было по справедливости. – В прошлом году там, где я жил, разбили два оконных стекла, и это обошлось в девять шиллингов и шесть пенсов.
–Неужели в гостинице потребовали плату за стекло?
–Собственно говоря, я тогда жил не в гостинице, а в моей мастерской, но это произошло как раз в годовщину и поэтому вошло в расходы. По-моему, все по справедливости.
–Да, сэр. Вполне.
И он дал мне гинею сдачи. Поэтому я поехал на кладбище на такси. Том любит, чтобы годовщину отмечали честь по чести.
И когда, налюбовавшись могилой, как всегда убранной маргаритками, и перечитав надпись, я вспомнил Рози и какой удивительной женщиной она была – снаружи бронза, сдобное тесто внутри, – я поднял глаза и на дорожке увидел Сару. Она была в своей допотопной черной накидке и в пунцовой шляпке, отделанной темно-лиловыми фиалками, а в руке держала букет из ноготков и астр.
Сара успела заметить меня и теперь явно боялась подойти. Покачивалась из стороны в сторону, перебирала ногами, но ни на шаг не приближалась. Она даже было повернулась, чтобы уйти, но все же взяла себя в руки и, сделав над собой усилие, двинулась вперед, как и положено старой гвардии.
–Ах, Галли, – сказала она, тяжело дыша. – Вот уж не ожидала встретить тебя здесь.
–Иначе ты не пришла бы сюда, ворюга. Как поживают мои картины?
–Ах, Галли, как тебе не стыдно. Я вовсе не хотела тебя обманывать. Просто на меня что-то нашло. Знаешь, как бывает со старушками. Вдруг показалось, что у меня отнимают последнее воспоминание о моей молодости.
–Зря я не попросил полицию вернуть мне мою собственность.
–Вот уж не знаю, твою или твоих кредиторов. Или, может, мистера Хиксона?
–Ты готова отдать мою картину кому угодно. Только не мне.
–Нет, Галли. Вовсе нет. И ты это знаешь. – Сара пришла в возбуждение, нос у нее стал пунцовым – верный признак, что, в виде исключения, она говорит правду. – Уж лучше тебе, чем кому-нибудь другому. Хоть сейчас.
От этих слов сердце мое затанцевало, как балерина, а венок тамбурином заходил в руке.
–Что? – сказал я. – Ты согласна отдать мне картину?
Триста соверенов блеснули в воздухе, как кони Феба. А за ними, как цыганский возок, пронеслась часовня.
–От всей души, если бы могла, – сказала Сара. – Но сейчас Байлз забрал ее к себе. Запер в своем сундуке. Он забрал все мои вещи, даже маменькину Библию. Он говорит, она очень ценная, и когда его выгонят на пенсию, эти деньги пойдут нам на жизнь и на похороны.
–Ценная? Что ценная?
–Библия. Он говорит, она старинная и стоит сто фунтов. Хотя я-то знаю, что маменька купила ее всего за двенадцать шиллингов и шесть пенсов в Обществе защиты животных. Но Байлз уверен, что все Библии невесть сколько стоят.
–А моя картина, Сэл?
–Он говорит, ей цена – пять тысяч фунтов. Только он не хочет сам продавать. Из-за полиции. Он говорит, что когда мы получим за нее такую уйму денег, в полиции непременно решат, что мы ее украли.
Я чуть не стукнул венком о землю. Бог свидетель, я способен многое вынести от буржодуев, но я совершенно не переношу их манеру оценивать картины. Либо они ничего не стоят, либо уж тысячи.
–Бог мой, Сара, – сказал я, – пять тысяч за эскиз? От силы пятьдесят фунтов. Нет, если ты хочешь отложить деньги на похороны, втолкуй своему Байлзу, что я единственный человек, который может сбыть эту мазню за шедевр.
–А сколько она на самом деле стоит, Галли?
–Я же тебе говорю, если бы я подписал ее да почистил немного, можно сбыть за пятьдесят, то есть пятьдесят фунтов, другу, и то он возьмет ее скорее из добрых чувств ко мне, чем по деловым соображениям.
–Мне думается, что теперь, когда я выставлена в галерее Тэйта, картина стоит больше, чем ты говоришь.
–Ты в Тэйте? Ах, ты имеешь в виду картину Хиксона?
–Говорят, она стоит тридцать тысяч фунтов.
–Будет стоить. Лет через сто. А сейчас разве что тысячи две.
–Байлз смерил ее на глаз. Пять на восемь. А та, что у меня, – три с половиной на два. Примерно шестая часть. Конечно, я знаю, картины ценятся не по величине.
–Отнюдь не по величине. Как и женщины. Иногда за большую дают меньше.
–Ах, Галли! Я с радостью вернула бы тебе картину. Хоть сейчас. Даже за те деньги, что ты назвал. Тридцать гиней. Хотя мне это в обрез на похороны. А все потому, что эта гадина Дорис обчистила мой корсет. Нет, ты подумай, какая мерзавка – обречь женщину, свою же сестру, на нищенские похороны, на то, чтобы ее закопали в землю, как падаль. Послушай, как ты держишь такой красивый венок? На нем же ни одного цветка не останется.
Я приподнял венок и взял Сару под руку.
–Пошли, старая, мы забыли, где мы, и забыли о Рози.
–Мне совестно, когда я смотрю на твой венок, – сказала Сара. – Он, верно, стоит не меньше двух фунтов.
–Для Рози не жалко.
–Ах, Галли, Рози всегда нравилась тебе больше, чем я.
–Нисколько. Тебе я с удовольствием носил бы венки за пять фунтов. Были бы деньги! Живые розы с шипами.
–Ты весь в этом, Галли.
–Чем красивее роза, тем острее шипы, Сэл. Что ты собираешься делать с твоим букетиком? Его нужно поставить в вазу.
–В вазу? Я как-то не подумала о вазе. Прошлый раз я приносила горшок с нарциссами. Я впервые пришла на могилу Рози в годовщину ее смерти. Как-то не получалось. Вот на похоронах я была.
–И мы распили с тобой пинту пива.
–Да, да, ты же тоже присутствовал на похоронах. И понятно: Рози всегда была твоей симпатией.
Я промолчал, чтобы не сказать лишнего.
–У нее были неплохие ноги,– сказала Сара, в глазах ее что-то мелькнуло, какое-то воспоминание. – Конечно, если кому такие нравятся, как бутылки горлышком вниз. И волосы были ничего. Я говорю о цвете, а так жидковаты.
–В караулке у сторожа, наверно, есть вазы.
–Да, наверно. Схожу-ка я за водой для астр. Правда, им не сравниться с твоим венком. Но Байлз их специально вырастил.
И мы пошли потихоньку в караулку, где садовник держал цветочные горшки и жестяные вазы для посетителей и где стояла колонка. Я стал выбирать для Сары вазу без дырки.
–Я рада, что ты вспомнил про Розин день, – сказала Сара.
–Я не пропустил ни одной годовщины, разве что по серьезной причине.
–У вас было много общего с Рози, – сказала Сара. – Да, она была тебе ближе, чем я. Достаточно было взглянуть, как вы смеялись вместе. Рози всегда была такая хохотунья! И мне казалось, что это неспроста. А ты вот ничего не замечал.
Я закрылся вазой, подняв ее к свету, чтобы проверить, нет ли в ней дырки или иного изъяна, а заодно скрыть изъяны в выражении собственного лица. В этом отношении у Сары был хорошо наметанный глаз. Она видела даже то, чего и не было. А женщине все равно, было или не было, если она решила пришить вам дело.
–И все эти телеграммы без обратного адреса от какого-то Робинсона из Брайтона... – сказала Сара.
–Вот эта подойдет, дорогая, – сказал я. – Вся проржавела, но не потечет. Пошли. Я налью в нее воды.
Меньше всего мне хотелось говорить с Сарой о Рози. Она была бы к ней несправедлива, а у меня теплело на сердце, когда я вспоминал добрый старый брандер.








