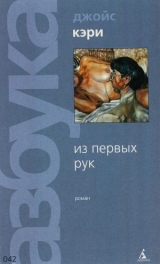
Текст книги "Из первых рук"
Автор книги: Джойс Кэри
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 28 страниц)
–Н-но, мистер Джимсон, мне нельзя домой. Как я скажу маме, что меня уволили?
Оказывается, он уже целую неделю уходил на весь день из дому, будто на работу. Поэтому я сказал:
–Вот что, Носатик. Я сейчас при деньгах. Сэр Уильям Бидер заказал мне расписать ему стену. Пойдем со мной и на ближайшие две недели, пока не найдешь себе место, будешь работать у меня. Секретарем. Будешь подавать мне пиво и отвечать на звонки. За фунт в неделю и питание. Да, еще будешь ходить за пивом в лавку.
Бедняга не знал, как и благодарить меня. В тот же вечер я уложил его в постель сэра Бидера.
От Ног он, конечно, пришел в восторг. Ничего лучше он никогда не видел. Но именно его восторги заставили меня взглянуть на Ноги критически, и мне сразу стало ясно, что в них не так. Они были вялыми по тону. Им нужно было придать больше жесткости. И я начал все сначала. И совсем забыл, что под боком у меня Эйбл. Пока однажды он не ввалился ко мне. Глаза у него были налиты кровью, голова белая, как у мельника.
–Кончил, Галли, кончил! – заорал он. – Все. Бога ради, не давайте мне касаться ее. Спрячьте ее от меня, пока я что-нибудь не напортил.
–А Лоли у тебя на что? Это ее работа – сторожить тебя.
–Лоли ни черта не смыслит в искусстве, – сказал Эйбл. – Она путалась с художниками. Вот, держите мои инструменты, а я пошел вызывать по телефону грузовик.
Я сунул скарпель и шпунты в камин, а он помчался звонить в транспортную контору и Биссону. В тот же вечер, пока Биссон с привратником обследовали новую пивную, находившуюся на достаточном расстоянии от дома, камень тем же порядком, что и в первый раз, выволокли краном через окно. Эйбл, разумеется, собрался отбыть вместе со своей бесценной Матушкой-землей, чтобы, не дай Бог, ее не попортили в пути, а доставили в целости и сохранности.
Скульптура еще висела между небом и землей, а он, побросав в саквояж фартук и все инструменты, уже летел вниз по лестнице.
–Счастливо, – сказал я, подправляя ногти на ногах негра. Но Эйбл не слышал.
И тут я вспомнил, что несколько дней не видел Лоли.
–Эй, где Лоли? – окликнул я его. – Догони Эйбла, – сказал я Носатику. – Задержи его. Что ты сделал с Лоли? – кричал я ему вслед.
–Лоли? – сказал он. – Лоли? – Словно впервые слышал это имя. – Что это, дождь? – и он попытался смыться.
–Ну нет, – сказал я, хватая его за полу. – Что ты сделал с девчонкой?
Лоли мне, конечно, нравилась, но я отнюдь не жаждал взвалить ее себе на шею. При моей занятости мне не нужна была девица в постоянное пользование.
–Пусти! – заорал он не своим голосом. – Он же простынет.
–Кто простынет?
–Камень, – сказал он. – Он же не накрыт.
И Эйбл вырвался из моих рук. Правда, после того как он влез в кузов и укутал скульптуру, он пришел извиниться.
–Этот камень требует ухода. Конечно, попадается камень, которому даже восточный ветер нипочем. Но это не тот случай. Хрупкая глыба. Текстура хоть куда, вы сами видели, но очень непрочная. Ну ничего. Ему стоять в хорошем месте. В вестибюле городской ратуши. Центральное отопление и прочее. Не беда, если и жидковат.
–А как же все-таки Лоли?
–Да-да, Лоли. Где же она, черт возьми? Она мне еще понадобится.
–Очень рад, что ты сможешь найти ей применение, – сказал я с иронией. Мне всегда было противно смотреть, как скульпторы обращаются с женщинами. Ведь они представляют собой известную ценность для искусства – основное сырье как-никак.
–Применение? – сказал Эйбл. – Да она мне очень нужна. Вы это бросьте. Уж я-то знаю Лоли цену. Я без нее как без рук. Особенно когда надо присмотреть за камнем. Знаете, раз, когда в десятиградусный мороз у нас посреди Солсберийской пустоши сломался грузовик, она спасла мне блок Портленда. Укрыла собственной одежонкой, но сохранила. А сама схватила жуткую простуду. Хорошо еще, что не обморозилась. Да, – говорил он, пока мы подымались по лестнице, – в нашем деле без женщин нельзя. У них особый инстинкт. Материнский, что ли. Я никогда ни единой минуты не жалел, что женился на Лоли.
И мы пошли искать Лоли. И нашли ее. Она свисала с обеденного стола, как свиной бок, холодная, словно ее вытащили из рефрижератора. Эйбл пришел в ярость.
–Черт бы ее побрал! – орал он. – Я же ей сказал, что кончил. Я же ей сказал, чтобы она слезла, оделась и выпила на дорогу чаю. Теперь запросит чаю в пути. Эй, Лоли! Эй, дорогуша!
Но Лоли не подавала признаков жизни. Она была без сознания. Я подумал, что она умерла, и чуть было не расстроился. Но Эйбл, заметив, что я скис, поспешил меня успокоить:
–Не тревожьтесь, старина. Она очухается. В два счета придет в себя. Лоли крепкой породы. Из Бетнл Грин {50}50
Бетнл Грин – один из районов Лондона, населенный бедняками.
[Закрыть]. Сейчас позвоню в больницу. Уж вы, будьте другом, запихните ее в санитарную машину. А черт, что там еще?
И он опрометью ринулся вниз, боясь, как бы стена или молния не обрушилась на его шедевр.
Я вызвал скорую помощь. Мы с Носатиком уложили Лоли на чехол от матраса и снесли ее вниз. Носатик очень перепугался.
–А она жива? – спросил он.
–Жива, – сказал я. – Лоли крепко привязана к жизни. И она хочет жить. Чтобы знать, на каком она свете.
И мы впихнули ее в повозку эскулапа.
В больнице ей поставили диагноз: переохлаждение, шок, вывих копчикового позвонка и недоедание. Боюсь, за последние два дня бедняжка даже не пригубила чашки чаю.
Глава 32
Ни сумасшедшая возня Эйбла с его бредовой скульптурой, ни хлопоты с Лоли не отбили у меня охоты работать. В течение двух следующих дней я написал Ноги наново. Чистил, пока они не стали как живые. Теперь, когда я нашел ключ, можно было приниматься за могилу и самого Лазаря. Было воскресенье.
До восьми я работал. И так устал, что больше не мог. Поэтому я послал Носатика купить две бутылки пива, бутылку виски и пакет жареной рыбы с чипсами.
Носатику, к сожалению, пришлось прогуляться на значительное расстояние от дома. На полмили вокруг мы исчерпали кредит. По правде говоря, у меня уже две недели как кончились наличные. К счастью, Носатик прихватил с собой сберегательную книжку – три фунта четыре шиллинга, – и я занял у него три фунта в счет его жалованья.
Зная, что Носатику, при его любви торговаться, понадобится на покупку не меньше часа, я решил подняться на антресоли и, улегшись там на полу, вздремнуть. Не могу сказать, что я вернулся к привычке спать на полу по непреодолимой склонности. Просто нам пришлось расстаться с кроватями, чтобы покрыть текущие расходы. Дело в том, что приятель Биссона назначал за мебель очень низкие цены, и хотя, кроме кухонной плиты и оловянного урыльника, нам уже нечего было закладывать, я еще не выбрал всю сумму. Собственно говоря, даже если Ноги шли за двести гиней, сэр Уильям, учитывая расходы, все еще был должен мне фунтов пятнадцать – двадцать.
Я перешел спать на антресоли еще и потому, что приятель Биссона снял с окон занавески. С ним приходилось подолгу торговаться, зато можно было торговать. Да и как не уважать человека с таким чувством общественного долга. Он взял в заклад даже краны от ванной и цепочку от бачка. По шиллингу за кран и два пенса за цепочку.
На антресолях я был скрыт от посторонних глаз. И постепенно свил себе там уютное гнездышко, заменив пружинный матрас мешком, который я плотно набил газетами, а подушку – пачкой «Новостей мира», хорошо утрамбованных и туго перевязанных бечевкой. Собственная подушка – блаженство для тех, кто спит дома. Ее можно примять по форме уха. И я как раз наслаждался сладким сном – тем чудным сном, который приходит после доброго трудового дня в предвкушении следующего, еще лучшего, – когда дверь в студию под антресолями отворилась и разбудила меня.
Удача с «Воскрешением» привела меня в веселое расположение духа, и я уже открыл было рот, чтобы приветствовать Носатика какой-нибудь ерундой по поводу «воскресного» пира, как вдруг услышал голос леди Бидер.
–Не понимаю, – сказала она странным тоном. Казалось, эта женщина просыпалась после наркоза.
–Боже мой, – проскрипел незнакомый голос. – Ограбление среди бела дня. Теперь на них мода. Вынесли все до нитки.
–Нельзя ли мне на что-нибудь сесть? – сказала леди Бидер, все еще не придя в себя.
–Не на что, – сказал незнакомец. Я слышал, как он бегает по комнате. – Даже линолеум снят.
По правде говоря, приятель Биссона дал нам всего четыре шиллинга шесть пенсов за два почти новых куска первоклассного линолеума, настланного в ванных комнатах. Закладная лежала в конверте.
–Они забрали все, что здесь было, всю вашу великолепную коллекцию. Ужас. Надо немедленно сообщить в полицию. Где телефон?
И, бросившись в угол за дверью, он набрал коммутатор.
–Алло! Дайте полицию. Да-да. Соедините меня с полицией. Да, срочно. Крупное ограбление.
–Что это? Там, на стене? – слабо вздохнула леди Бидер. – Не понимаю.
–По-моему, это должно изображать ноги, – сказал сэр Уильям.
Я чуть свесился с балюстрады. Сэр Уильям, смахнув пыль с упаковочного ящика, служившего мне столом, волочил его к леди Бидер. Чтобы она села.
Но она, все еще озираясь, разглядывала Ноги. Как вы понимаете, могила, Лазарь и лысины – главная часть композиции – были только намечены, поэтому ноги особенно бросались в глаза.
–Ноги, – сказала леди Бидер.
–Алло! Алло! Да, полицию. Бедная Флора. Не знаю даже, как выразить вам свое сочувствие. Такое несчастье. Непоправимое, – говорил неизвестный – щупленький пшют в пенсне и приталенном пиджачке. – Одно из самых рафинированных собраний в Англии. Так превосходно подобранное. Истинно уникальное. Алло!
–Все это как-то странно, пожалуй, – сказал сэр Уильям успокаивающе. Его куда больше волновало отсутствие стула для леди Бидер. Самому ему тоже явно хотелось сесть. – Вот, дорогая. Ящик не очень пыльный.
–Где же мы будем спать? – сказала леди Бидер. – Право, нас могли хотя бы предупредить.
–Да, все это очень некстати, – сказал сэр Уильям, – очень некстати. Пожалуй, я позвоню тете Люси. Она всегда нам рада.
–Национальное бедствие, – сказал фитюлька, шипя от возмущения, как бутылка содовой. Скорее всего буржотля, из числа бедствующих граждан, возможно даже – из пишущей братии. Он не умел спокойно, как Бидеры, переносить утрату собственности. И я снова сказал себе: «Господи, благослови Бидеров, благослови миллионеров, умеющих прощать все, что не слишком их беспокоит».
–Ах нет, Билл,– сказала леди Бидер. – Мне сейчас не по силам чужое гостеприимство.
–Позвонить в «Савой»? – спросил сэр Уильям, направляясь к телефону.
–Кажется, там Мортоны. Они станут нам сочувствовать.
–Тогда в «Клэридж». Извините, Джеймс. – И сэр Уильям направился к телефону.
–Но как же с полицией? Меня уже соединяют,– сказал приталенный пшют. – Тут важна каждая минута.
–Прежде всего нам нужно на чем-то сидеть, Джеймс, – сказала ее милость. – Мы не можем жить на ящиках.
И сэр Уильям завладел трубкой.
–Погодите, Джеймс. Будьте добры, «Клэридж». С полицией подождет. Соедините меня с отелем. Как можно скорее. Да-да, срочно.
Фитюлька страшно разгневался и разбушевался. Он кричал, что вызовет полицию по автомату, и в ярости выскочил из комнаты.
Сэр Уильям и леди Бидер вели себя так достойно, что меня прямо подмывало спуститься к ним и разъяснить положение дел. Что все закладные сложены в пустую банку из-под томатов, которая стоит над дверью в ванную, где ее не смогут достать мыши. Но этот господинчик со своими звонками в полицию нагнал на меня страху. Опасный тип, судя по тому, что я видел и слышал. Приживал, надо думать. Из тех, что паразитируют на таких милых леди и джентльменах, как Бидеры. Весь напитан прихлебательской горечью и иждивенческой злостью.
Поэтому я решил объясниться с Бидерами, удалившись на почтительное расстояние. К счастью, в «Клэридже» нашелся для них номер, и сэр Уильям тут же вызвал такси. И пока он усаживал леди Бидер в такси, я тихонечко вышел из студии. Прихватив дождевик и пальто, я спустился по черной лестнице и пошел по направлению к закусочной, навстречу Носатику.
Мы встретились на первом же углу, и я сообщил ему, что нам нужно немедленно освободить квартиру и уехать.
–Желательно междугородным автобусом, с конечной станции. Железнодорожные вокзалы сейчас исключаются. В таких случаях там устанавливают наблюдение.
–Наб-блюдение? – спросил Носатик, сильно встревоженный. Он решил, что нас собираются арестовать.
–Полиция нам не грозит, – успокоил его я. – Дождь страшнее. Я слегка простужен, и если мы окажемся под открытым небом в такую сырую ночь, боюсь, я снова начну лаять, как собака. Самый страшный мой кашель. Сколько у тебя денег?
–Я взял р-рыбы с чипсами и в-виски, – сказал Носатик, дрожа от страха. – Мне дали девять пенсов сдачи, и еще у меня есть два шиллинга.
–Так. У меня восемь пенсов. Придется заморозить оборотный капитал.
Я поднял руку, и автобус на Виктория-стрит остановился по требованию. Мы поднялись наверх и заняли передние места. Туда кондуктор добирается не сразу. Я попытался приободрить Носатика.
–Ничего противозаконного мы не сделали, – сказал я. – Но начнется судебное расследование, а на это уйдет уйма времени. Меня до смерти замучают опросами и адвокатами. А мне нужно работать. И потом я могу рассердиться на наше правительство. А это уж совсем ни к чему. Бессмысленно объяснять правительству, что время и душевный покой художника представляют ценность для нации, материальную ценность, так сказать, принося славу, привлекая туристов и иностранных студентов, обеспечивая заказы, друзей, уважение, союзников, победы, безопасность и так далее и тому подобное. Бессмысленно обращаться к нему, потому что оно не слышит. Не обладает соответствующим органом. Поэтому и бросаться на правительство бессмысленно. Все равно что честить парализованного мула, когда он ведет себя соответственно своему состоянию.
Я, признаюсь, порол чушь; глупо сердиться на низших животных, особенно если они того заслуживают. Но, откровенно говоря, вся эта история выбила меня из колеи. Мне уже под семьдесят, думал я, и у меня не то здоровье, какое было в шестьдесят. Как художник я в расцвете сил. Но надолго ли меня хватит? На десять, от силы на пятнадцать лет. Старик Анджело, Майк Анджело, достиг вершины в восемьдесят пять, но тут же скапутился. Нет, я не могу терять время по каталажкам или больницам. Даже мысль об этом выводила меня из себя.
–Вот так-то, – сказал я. – Человек совершает величайшую ошибку, когда начинает взъедаться на правительство. Потому что нет ничего легче.
Как раз в эту минуту кондуктор добрался до нас. Я протянул ему два пенни и сказал:
–Два до Хаммерсмита, пожалуйста... Вот, например, мой зять, Рэнкин...
–До Хаммерсмита? – спросил кондуктор. – Вы сели не на тот автобус.
Пассажиры заулыбались, и я смутился.
–Разве это не одиннадцатый? – сказал я. – Я сам проверил номер.
–Да, одиннадцатый, но мы едем в обратную сторону. Вот так. Очень сожалею, сэр. Вам надо сойти на ближайшей остановке и сесть на автобус на другой стороне улицы.
–Вот незадача! Значит, я прочел цифру задом наперед.
И мы сошли. И сели на следующий. На Виктория-стрит.
–Мой зять Рэнкин, – говорил я, пока мы подымались наверх, – был изобретателем, помоги ему Бог. И никто не хотел брать его патенты. Вот он и начал честить правительство и кричать, что это свора твердолобых толстосумов, задавшихся целью уморить творческий гений нации. «Все, что нужно, – это немного прогрессивного духа, хоть чуть-чуть, хоть в чем-нибудь». Ишь чего захотел, – говорил я. – Не продается. Даже из-под прилавка. Прогресс совершается не усилиями правительства или какого-то там духа, а благодаря отдельным личностям. Несколькими богатыми субъектами, дурачащимися ради собственного удовольствия, и несколькими примкнувшими к ним зелеными юнцами, желающими эпатировать папу с мамой. То же самое и в искусстве, – сказал я. – Если оно и движется вперед, то не стараниями широкой публики, которая делает крошечные шажки, а благодаря малюсенькому комарику, который жалит эту публику в ейный зад. Предоставь человечество самому себе, – сказал я, – и через шесть недель оно околеет от ожирения: уляжется в теплую, густую грязь, закроет глаза, заткнет уши, проложит пищепровод и будет набивать себе брюхо, пока не сдохнет. Но Господь Бог, не желая лишаться своего породистого борова, послал комарика, чтобы заставить человечество трепыхаться, дрожать и помнить о смерти.
–Билеты, пожалуйста,– сказал кондуктор. И ужасно расстроился, когда узнал, что мы сели не на тот автобус. Славный парень, как все кондукторы, особенно лондонские. Даже сошел вместе с нами, чтобы показать остановку и на какой стороне улицы нам нужно сесть. Пришлось встать в очередь и ждать, пока автобус не скроется из виду. Долг вежливости. Потом мы перешли улицу и отправились на междугородную станцию.
–Н-но откуда мы возьмем деньги на б-билет? – спросил Носатик.
–В том-то и штука, – сказал я, снимая шляпу, чтобы обтереть свой взмокший лоб. А так как я как раз шел вдоль очереди, несколько человек бросили мне что-то в шляпу. Правда, сам не знаю, как это случилось; я одновременно держал в другой руке коробку спичек {51}51
В Англии нищенство запрещено законом. Нищие обычно выступают как уличные торговцы мелким товаром, певцы, художники.
[Закрыть].
И, оказавшись во главе очереди, которая сама расступилась передо мной – то ли из уважения к моим летам, то ли к внешнему виду (четырехдневной поросли на моем лице плюс привычке вращать глазами и скрежетать зубами), – я воспользовался возможностью получить деньги на проезд... почти до конца пути.
Провидение позаботилось о нас, и мы тут же погрузились бы, если бы в этот момент Носатик, которого ошеломила суматоха большого города, не налетел на полицейского и не отпрянул от него с таким выражением ужаса и вины, что блюститель порядка немедленно воскликнул:
–Стой! Ты что здесь делаешь?
Но я тотчас признал его.
–Том Джонс, – сказал я. – Как поживаете, начальник?
–Спасибо, – сказал он. – Только я не Том Джонс.
–Нет, – сказал я. – Но вы как-то дали мне шиллинг на ночлежку, когда я устраивался на скамейке в Милбэнке.
–Вот как? – сказал он, складывая руки и чуть потирая их друг о друга. – То-то мне показалось, что я тебя где-то видел. Ну как дела?
–Не так, чтобы очень, – сказал я. – Но все равно, спасибо. Впрочем, не так уж и скверно. Нам с сыном нужно к вечеру попасть в Берлингтон, а у нас остался только шиллинг на завтрак. Ну, дождя пока нет. Как-нибудь на улице перемыкаемся.
–В Берлингтон, – сказал полисмен. И отвел нас на остановку. Потом он усадил нас в автобус и, убедившись, что я не вру, вытащил шиллинг и протянул мне. – Вот. Теперь хватит и на ночлег.
Носатик очень разволновался. У него все лицо пошло пятнами, как при скарлатине. Как всегда, когда растревожат его лучшие чувства. Даже слезы на глазах выступили.
–К-к-какой д-д-д...
–Да, – сказал я. – Сам не ожидал. Но, в конце концов, тут нет ничего удивительного. Я по опыту знаю, что полицейский не оставит в беде, особенно если он тебя уже однажды облагодетельствовал или находится в этом приятном убеждении.
–Р-разве он не помог вам т-тогда?
–Не уверен. Скорее всего нет. В форме они все на одно лицо. Нет, пожалуй. Тот был сержант. И усы у него были рыжие. Впрочем, неважно. Какой же полицейский не подавал хоть раз старому прощелыге вроде меня? И естественно, он потом интересуется своим подопечным. Естественно. Ладно, – сказал я, – к полицейским я всей душой. Славные ребята. Куда лучше, чем наше правительство заслуживает. Впрочем, кто же получает по заслугам?
Автобус растряс мои старые кости, и ревматизм поспешил напомнить о себе, и меня тревожило, что будет с моими палитрами, красками и эскизами. Все мое снаряжение осталось у Бидеров. Я уже слишком стар, думал я, чтобы жить нищим. И слишком большой трудяга, чтобы лишаться орудий производства и мастерской. Это беззаконие. И я сказал Носатику:
–Нет ничего глупее, чем обвинять английское правительство в эгоизме, жестокости, слепоте и немоте. Потому что ничего другого от него и ждать нельзя. Что такое наше правительство? Комитет на комитете, а у комитета нет даже штанов. Ничего. Кроме машинистки. А она думает о своем молодом человеке и как бы сходить с ним в субботу в кино. Если бы даже правительству отпустили немного мозгов, оно не знало бы, куда их девать. Швырнуло бы кошке или приказало уборщице выплеснуть вместе со спитым чаем. Единственное хорошее правительство, – сказал я, – это плохое правительство и к тому же насмерть перепуганное. Вот так. А потому необходимо каждые десять минут подкладывать под него бомбу и отрывать ему баки – то есть подкомитеты, а если, паче чаяния, ему оторвет еще руки и ноги или вышвырнет в окно, тоже не беда. Не скажу, чтобы я лично был в претензии к нашему правительству как к правительству. Правительство – это правительство, и все тут. Нельзя же требовать, чтобы оно обладало добродетелями гориллы, когда оно вовсе не принадлежит к этому виду. Оно не является высшим человекообразным. У него слишком много рук и ног. Предположим, мы оттяпаем несколько омертвевших конечностей. Что из этого получится? Лежит себе посредине Уайтхолла обрубок правительства и рассуждает: «Что там такое? Я ясно слышало грохот. Нужно безотлагательно навести справки – да, немедленно – и назначить комитет». Тут оно открывает глаза, видит вокруг толпу и говорит: «Боже мой! Что это? Кто это?» А народ говорит: «Мы народ, а ты правительство. Встань и сделай что-нибудь для нас». А правительство говорит: «Сейчас назначу по этому делу комитет». А народ говорит: «Нету у тебя больше комитетов, отмерли, само правь». А правительство говорит: «А секретарша?» А народ как закричит: «Нет ее, мы ее только что ржавым топором тюкнули». – «И рассыльного нет?» – «Нет, – кричат, – мы его в сточную канаву столкнули». – «Не могу же я править само по себе». – «Можешь. Обязано». – «Но я одно. А один человек не может быть правительством. Это недемократично». – «Ничего, – говорит народ, – демократично. Сейчас принесут вторую бомбу. Так что даем тебе десять минут на размышление. А ну, делай что-нибудь».
Тогда наше правительство принимается шевелить мозгами, и даже очень усердно. Потому что комитетов у него уже нет и секретарши тоже. И у него появляется собственная идея, и оно говорит: «Ах ты Господи! Вы только взгляните на этих людей. Какие у них штаны и старые зонтики. Какие они все обтрепанные. Кажется, никто из них не входит в правительство».
И оно тут же издает указ, чтобы каждому дали по новому зонтику и гладильному прессу. И все клубные завсегдатаи, которые раньше сами сидели в правительстве, подымают страшный шум. «Это невозможно, – кричат они. – Ничего у них не получится. Народ не допустит!» Но прессы раздают. И народ не только это допускает, но еще требует раздать штаны, чтобы было что закладывать в пресс. И тогда клубные завсегдатаи бегут получать штаны и заявляют, что так и надо. Но тут приволакивают вторую бомбу. Народ делает из правительства фарш, и все начинается сначала. С комитетов. Потому что английский народ не менее опасен, чем его правительство. То есть, я хочу сказать, если идти у него на поводу. Потому что его больше и он хуже, безмозглее и тупее. Один человек – это живая душа, но два – это доильный аппарат на пивоваренном агрегате, три – много шума, четыре – сумасшедший дом, пять – комитет, двадцать пять – собрание, ну а свыше начинается уже отдел мумий в Британском музее, ее Величество Английская Нация, Простые Люди, Публика, Массы, Большинство, Жизненная Сила, Статистика и Экономическая Единица, безмозглая, слепая, подлая икринка из помета всесветной жабы, сидящей в черной кровавой яме вечной ночи и квакающей по своему дружку – исчадию ада.








