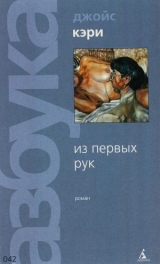
Текст книги "Из первых рук"
Автор книги: Джойс Кэри
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 28 страниц)
Глава 6
Половина седьмого вечера. Слишком темно, чтобы писать. И сильно похолодало. Облака несутся к горизонту, как косяк призрачной рыбы подо льдом. Рдеет вечернее солнце. Деревья на песчаной косе как потемневшая бронза. Листья старой ивы колышутся под ветерком, кидая тени на те, что под ними, и отсветы на те, что вверху. Нужно хорошо владеть кистью, чтобы передать все это. А к чему? Работенка для Писсарро, не для меня. Во всяком случае, не теперь. Лирика, а не эпос.
Остановился на углу и надел носки. Шелк с шерстью. Шиллингов семь-восемь, не дешевле, Беда только, что у меня дырявые подметки, чувствуешь каждый камешек на мостовой. Подошел к урне и вытащил несколько вечерних газет. Запихал в ботинки, засунул в брючины, набил под жилет. Спасает от восточного ветра не хуже кожаного пальто. Да будет благословенна пресса, друг всех неимущих! Затем вошел в свой сарай и чиркнул спичкой, чтобы взглянуть на картину. Вдруг она исчезла. Так и есть. Просто кусок грязно-желтого холста. Удар под ложечку. Ну вот, сказал я, ночь испорчена, теперь не уснуть. Почему было не принять все на веру? Блаженны уповающие. Только это и надо было.
–Мистер Дж-джимсон!
– Его нет дома!
–Я п-подумал, не выпьете ли вы ч-чашечку кофе из закусочной?
–Нет, – сказал я. – Не выпьет. Он лег спать.
Мальчишка убрался. Я на цыпочках подошел к картине и зажег еще одну спичку. На этот раз она осветила большое пятно грязно-красного цвета. Как корка на пасте от ржавчины. О Боже, сказал я, как и почему я это сделал? Видно, я разучился писать. Моя песенка спета. Осталось перерезать себе глотку.
–Вот к-кофе, мистер Джимсон.
–Мистер Джимсон только что вышел – верно, тебя заметил.
Но мальчишка включил велосипедный фонарик, вошел в сарай и сунул кружку с кофе мне в руки.
–Мистер Джимсон не скоро вернется, – сказал я. – Но он просил меня передать, что ты зря стараешься. Не будет он разговаривать с тобой об искусстве. Он и так уже повинен в поджоге, прелюбодеянии, убийстве, клевете, присвоении казенных денег и оскорблении действием и не желает отягощать свою совесть еще одним серьезным преступлением.
–Н-но, мистер Джимсон, я х-хочу б-быть художником.
–Ну еще бы, – сказал я, – все этим болеют в детстве. Как корью и ветрянкой. Но все, слава Богу, вылечиваются. Иди домой, ложись в постель, напейся горячего чая с малиной, укройся тремя одеялами и как следует пропотей, чтобы вся дурь вышла.
–Но, мистер Дж-джимсон, ведь существуют же на свете художники!
–Да, и сумасшедшие и прокаженные. Но зачем же самому отправляться в сумасшедший дом, пока на тебя не надели смирительную рубашку? Если жизнь кажется тебе немного пресной и ты решил поразвлечься, сунь динамитную шашку в кухонную плиту или застрели полисмена. Стань летчиком-испытателем или нырни вниз головой с Тауэрского моста, набив карманы римскими свечами шиллингов на десять. Куда больше удовольствия и куда меньше риска.
Я видел, что у мальчишки глаза полезли из орбит. Свет фонарика отражался в них, как в лужицах грязной воды. А, проняло, подумал я.
–А теперь топай отсюда,– сказал я.– Пора спать. Брысь!
Он забрал у меня кружку и вышел. А я зажег еще одну спичку, чтобы посмотреть на Евино лицо. О Боже, подумал я. Оно плоское, как поднос. А размалевано! И что за цвет! Консервированная лососина. Как это меня угораздило? Какая фальшь! Чего я искал? Мне казалось, я схожу с ума. Хотелось биться головой о стену.
В дверях показался мальчишка с новой кружкой кофе.
–Будь я проклят! – сказал я. – Мистера Джимсона нет дома, и ему вовсе не нравится, когда ему мешают всякие сопливые ублюдки, которые нахально лезут к нему, словно к себе домой.
–Д-да, мистер Джимсон, но в закусочной есть б-булочки. – И он протянул мне булочку и кофе. – И-простите меня, мистер Дж-джимсон, – сказал он, – я не знаю ни одного настоящего художника, кроме вас.
–Кто тебе сказал, что мистер Джимсон художник? – сказал я. И откусил полбулочки – я так страдал! Хорошая булочка, и мне даже показалось, что мальчишка дал мне ту, что больше, хотя легко мог в темноте взять ее себе. Я был тронут. Зря, конечно; ведь юный негодяй явно старался купить меня. Всякими там кофе с булочками из своих карманных денег. Но я всегда питал слабость к мальчишкам вроде этого Носатика, невзрачным мальчишкам, которым подавай или славу, или терновый венец.
–Послушай, – сказал я. – Я открою тебе секрет. Джимсон никогда не был художником. Он просто один из тех чудаков, которые воображают себя умниками. Знаешь, что говорили критики о его картинах в тысяча девятьсот восьмом году, тридцать лет назад? Они писали, что он дерзкий юнец, который даже не представляет, что такое искусство, и думает при этом, будто может добиться известности, малюя картинки хуже, чем шестилетний ребенок... А с тех пор он еще больше скатился вниз. Чем он старше, тем больше впадает в детство.
–Ах, мистер Джимсон, но критики всегда так говорят!
–Иногда они правы, мой мальчик. И мне кажется, они были правы относительно Джимсона. Он фальшивая монета. Не связывайся с ним. Подальше от греха. И от мошенников и им подобных.
–Но ведь есть же на свете и художники, мистер Джимсон.
–Конечно. Вот папочка Джимсона был настоящий художник. Член Королевской академии. У людей на его портретах носы всегда помещались точно между глаз. Он принялся изучать наши циферблаты, когда ему было лет десять, и занимался этим по шестнадцать часов в сутки в течение пятидесяти лет. И умер нищим. С разбитым сердцем. Лично я предпочитаю, чтобы меня заживо съели черви.
–Что он рисовал?
–Картины, – сердито сказал я. Я видел, куда вертелись шарики в его голове. – И это было искусство. Пусть папочка Джимсона состоял в Академии и рисовал милые картинки, все же это было настоящее искусство. Многие художники рисовали очень мило. Но ты, верно, никогда не слышал о Рафаэле, или о Пуссене, или о Вермеере?
–Нет, слышал. Это были з-знаменитые х-художники... И сейчас есть з-знаменитые художники.
–Папочка Джимсона тоже был знаменит. Понятно, когда он начал, он не пользовался успехом... Он был чересчур современен. Работал под Констебля, и критики говорили, что он пишет тяп-ляп. Но в конце сороковых годов он стал знаменит... лет на пять. Специализировался на пейзажах с фигурами. Девушки в садиках. Стишки в каталогах. Он получал около двухсот гиней за милую девушку перед милым домиком в милом садике с шиповником и штокрозами. Было время, когда он зарабатывал две тысячи в год и устраивал приемы; все чин по чину. Его жена выдавала по три бала и по одному ребенку в сезон. Но в тысяча восемьсот пятьдесят восьмом году вспыхнула эпидемия нового, современного искусства. Прерафаэлиты. Старый мистер Джимсон, естественно, терпеть их не мог. И все приличные люди были с ним солидарны. Когда Миллес выставил своего «Христа в мастерской плотника», Чарльз Диккенс писал, что прерафаэлиты хуже, чем бубонная чума. А мистер Джимсон отправил открытое письмо в «Тайме», где от имени искусства предупреждал английский народ, что прерафаэлиты ставят себе целью вообще уничтожить настоящую живопись. Это принесло ему широкую популярность. Все люди, обладающие чувством ответственности, сразу увидели, как опасно современное искусство.
–Оп-пасно? Какая глупость!
–Вовсе нет. И тебе давно пора домой к маме. Черт возьми, хотел бы я посмотреть, как бы ты при мистере Джимсоне сказал, что его слова – глупость. Твое счастье, что его сегодня нет дома. Выметайся отсюда побыстрей, покуда он не вернулся и не свернул тебе шею.
Мальчишка ушел, а я зажег четвертую спичку. Всякий художник знает, что четвертый раз часто бывает удачным. Когда на тебя накатит белая горячка, всегда стоит попробовать четыре спички: Оставишь картину одну в темноте, а она возьмет и исчезнет, и нет ее целых три спички, а при четвертой она снова тут как тут. Настоящий шедевр. Чудо! Но спичка погасла прежде, чем я разглядел, что передо мной – интуитивное проникновение в основные законы мироздания и воплощение их в пластических формах классической простоты и чистоты или грубая порнография, за которую придется иметь дело с полицией.
–П-простите, мистер Дж-джимсон, я подумал, вам понравится п-п-п-п... – И он протянул мне пирожок с мясом.– Сегодня такой холодный вечер.
–Ты славный мальчик, – вырвалось у меня. – И я хочу тебе добра. Поэтому я скажу тебе кое-что. Искусство – плохая штука, но современное искусство – хуже всего. Как грипп. Чем новее, тем опаснее. Мало того, что современное искусство опасно для общества, – никогда не знаешь, чего от него ждать. И что может случиться, когда оно сорвется с цепи. Диккенс и прочие благородные и мудрые люди, которые поддерживали его – священники, судьи и прочие должностные лица, – были совершенно правы. Так же, как и бравые ребята, которые в тысяча восемьсот семидесятом году громили импрессионизм, в тысяча девятьсот десятом году – постимпрессионизм и в тысяча девятьсот двадцатом году – этого перебежчика Джимсона. Все они были совершенно правы. Они знали, что может натворить современное искусство. Оно вползает во все щели, подкапывается под Церковь, и Государство, и Академию художеств, и Законодательство, и Семью, и Правительство... оно сокрушает Цивилизацию и разлагает Британскую империю. Ты только взгляни на эти ужасные, эти омерзительные картины, которые пишет Джимсон. Взгляни на его Адама и Еву. Это же страшнее, чем Эпстайн {5}5
Эпстайн Джейкоб (1880—1959) – американский скульптор, работавший главным образом в Англии. Автор статей и групп, выполненных в стилизованной манере, вызывавшей возмущение части критики и широкой публики.
[Закрыть]или Спенсер {6}6
Спенсер Стенли (1891—1959) – английский художник, создавший много монументальных стенных росписей. По переплетению религиозной символики с современностью близок к У. Блейку.
[Закрыть]. С души воротит, как, сказал Диккенс о Миллесе. Черт знает что такое, а не картина! Слава Богу, старый мистер Джимсон ее не видел. Это разбило бы ему сердце, если бы оно уже не разбилось вдребезги, когда прерафаэлиты попали в Академию, а его оттуда вышибли.
–Не может быть!
–Почему не может? Он же был их противником. Только он собрался переметнуться в их лагерь – бац! Его выкинули за дверь. Остались три девушки в трех садиках. Славные девушки. Славные картинки. Но почему-то никто больше не хотел покупать 'миленьких девушек в миленьких садиках. Джимсоновских девушек. Только берн-джонсовых и россеттиевских девушек. И моим родителям и всему их многочисленному потомству стало нечего кушать. – Я проглотил остаток пирожка, чтобы скрыть свои чувства. Я не знал, переживу ли я эту ночь без своей картины. Когда я ничего не пишу, у меня всегда неуютно на душе, но когда я пишу, я вообще больше ни о чем на свете не могу думать.
–Мистер Дж-джимсон, как, по-вашему, стоит поступить в художественную школу?
–В художественную школу? Кому?
–Мне.
–Убирайся сейчас же. Кыш! Отправляйся домой. – И я выгнал его. Я хотел грустить без помехи. Хотел погоревать о своем отце. Как он страдал! Даже больше, чем бедная мама, которая смотрела, как он страдает. Ведь ей приходилось еще и о детях заботиться. Их было семеро. Дети – это долг. А обиженный на судьбу человек с разбитым сердцем был для нее всего лишь, обязанностью, причем предосадной. И он сам об этом знал.
Глава 7
Холодное утро. Ноги не гнутся. Не взглянул на Адама и Еву. Вдруг они еще не вернулись. Сразу вышел.
Иней на траве как сгущенный лунный свет.
Луна высоко в небе, просвечивает насквозь. Как полынья во льду. Птичий базар. Воробьи взъерошены, как метелочки для пыли. Встретил своего друга Оллиера; он разносил утреннюю почту. Капля у него на носу как жемчужина, еще две на усах – бриллианты.
–Доброе утро, мистер Оллиер. Не знаете, где бы мне выпить чашечку кофе?
–Доброе утро, мистер Джимсон, не выпьете ли со мной минуток через пять?
–С удовольствием, мистер Оллиер.
–Это вы мне доставите удовольствие, мистер Джимсон.
Прошелся взад-вперед по улице, чтобы размять суставы. Солнце взбирается на небо по гряде облаков, похожей на груду шлака. Сплошные искры. Этого красками не передашь. Искусство имеет пределы. Все имеет предел. И мои пальцы, распухшие в суставах. Нет пальцев – нет артрита, есть артрит – нет искусства. Старик Ренуар писал своих красных девушек кистями, привязанными к запястью. Лучшее из всего, Что он сделал. Монументально.
Гордыня павлина – слава Господня.
Похоть козла – щедрость Господня.
Неистовство льва – мудрость Господня.
Нагота жены – творенье Господне.
И нагота этих деревьев, тротуаров, домов, красного носа и белых усов старого Почтаря.
–Хороший денек, мистер Оллиер?
–Холодновато для октября. Деревья скоро совсем облетят.
–Вы совершенно правы, мистер Оллиер.
–Придете на собрание, мистер Джимсон?
–Опять собрание?
–Да, десятого. У мистера Планта, как всегда.
Мистер Плант – наш старый друг. Плант, Оллиер и еще человека три-четыре организовали клуб и устраивали собрания. Приглашали лектора из Общества самообразования рабочих, или учителя, или священника, чтобы тот прочитал им лекцию, и часа два обкуривали его. Цель: женатым – вырваться на вечерок из дому, холостякам – найти дом на вечерок. В Лондоне таких клубов пропасть. Многие из них – просто привычка: несколько старых друзей собираются в пивной, чтобы потолковать о собаках, религии, правительстве и положении в Европе. Мне нравился клуб Планта, потому что Плант угощал друзей пивом.
–Спасибо за приглашение, Уолтер, – сказал я. – А какая тема?
–Не знаю, – сказал Оллиер.
–В прошлый раз говорили о Рескине, да? – сказал я.
–Откуда вы знаете? – удивленно сказал Оллиер. Мы как раз заходили в кофейную Корнера.
–Потому что чаще всего лекции бывают о Рескине и Платоне, об Оуэне или о Марксе. Но Рескин стоит на первом месте. Я думаю, в Лондоне каждый вечер одновременно читается не менее пятидесяти лекций о Рескине.
–Рескин, кажется, был хороший писатель? – сказал Почтарь. Он человек скромный и из вежливости никогда ничего не говорит в утвердительной форме. – Две чашки кофе, милочка, и четыре куска хлеба с маргарином и повидлом.
–О да, лучший писатель среди художников.
–Говорят, он хорошо разбирался в искусстве?
–О да, лучший художник среди писателей. – На голубую клеенку пролилось немного кофе, и я стал подправлять лужицу, пока посередке не вышел забавный островок. Непонятно только, на что он мог мне пригодиться.
–Я думал, Рескин высоко ставил искусство, – сказал Почтарь.
–Именно, – сказал я. – В деньгах он не нуждался. Надо же было чем-то занять свой досуг.
–Мистер Плант тоже высоко ставит искусство.
–Мистеру Планту тяжело пришлось в жизни. Одни идут по верхней дороге, другие идут по нижней... {7}7
Строка из известной шотландской песни.
[Закрыть]
Я увидел, что голубой островок напоминает человека на коленях, вроде моего Адама. Но у него не было правого плеча. Одна линия от затылка до зада. Какая линия, пальчики оближешь! Я влюбился в эту линию. Стоп, подумал я. Чем черт не шутит. Выдвинь плечо вперед. Да, пусть он протягивает! руку, а Ева отталкивает ее. Да, да, она у нас скромница. Отражает первый натиск. И эта расчудесная линия как раз пересечет змия. Змия придется задвинуть за Адама, чтобы не было двух цилиндров по вертикали. Прекрасно... Змия надо сделать потолще... толще, чем Адам. Толстый и стоит колом. И красная чешуя в контраст к бело-голубому Адаму.
–Как, вы уже уходите, мистер Джимсон? – сказал Почтарь. Сам я этого не заметил, но я действительно шел к двери.
–У меня деловое свидание, – сказал я.
–Выпейте сперва еще чашечку. – У Почтаря сделался грустный вид. У него очень сильно развито чувство приличия. Верно, потому, что он носит усы. Рожден быть герцогом. Превосходные манеры. Никогда не торопится.
–Простите, Уолтер, – сказал я, – но это очень важное свидание. Я спешу.
Глава 8
И я помчался в сарай. Ну и что, сказал я. Может, в этом что-то есть. А может, нет. Но, по правде сказать, у меня было чувство, что я поставил на ту лошадку, что надо. И когда я замазал чертов мослак, который был у Адама вместо плеча, и переделал спину, чувство это так усилилось, что я схватил сам себя под уздцы. Тпр-ру, сказал я, не слишком-то резвись. Возможно, эта проклятая старая холстина и превратится со временем во что-нибудь путное, возможно, и нет. Скорее всего нет.
Вдруг меня так дернули, что я чуть не грохнулся. Передо мной была Коукер при полном параде. Добротный костюм из твида, мужские туфли, на бычьей шее – кроличье боа. Никаких украшений. Коукер одевалась респектабельно. А что еще прикажете делать, когда у тебя ни кожи, ни рожи.
–Чем это вы занимаетесь, мистер Джимсон, ради всего святого?
–Ничем.
–А что это за синяя штука? Если это человек, так он больше смахивает на лошадь. И почему у него только одно плечо?
–Это просто картина, Коуки.
–Ну, я, видно, ничего в этом не смыслю.
–Видно, так.
–Это, видно, вы и называете искусством?
– Видно, так.
–А кто обещал ждать меня на автобусной остановке?
–Так ведь это в среду.
–Сегодня и есть среда. Я специально отпросилась на все утро.
–Неужели? Какая жалость! А я договорился тут с одним типом встретиться насчет картины. Можно подзаработать... – И так далее и тому подобное. В общем, стал ей заливать. Потому что, сказать по правде, мне ужасно хотелось работать. И потом я прекрасно знал, к чему приведет ее затея. К неприятностям. К спорам. Даже к обидам. Последний раз я видел Сару Манди три года назад и больше не хотел ее видеть. Я был слишком занят, – Мне очень жаль, Коукер, но не упускать же такой случай. Тут пахнет сотней-другой фунтов, я смогу отдать тебе долг.
–А это правда?
–Честное слово.
–Вы такой лгун, мистер Джимсон.
–Как перед Богом!
–Когда, вы сказали, у вас назначена встреча?
–В половине десятого в кофейной Корнера.
–Я подожду.
–Ты опоздаешь к открытию бара.
–Стоит того, если, вы вернете мне долг.
И она осталась. Работать я больше не мог. Только вид делал. Отправился с ней в кофейную в половине девятого и поднял шум из-за того, что «тип» не пришел. Коукер явно догадалась, в чем дело. Даже не угостила меня кофе. Итак, на автобус.
Да, с картиной я завяз. Мне казалось, я окончательно ее погубил, Адам был похож на лягушку – и чему тут удивляться! Мне хотелось дать Коукер хорошего тумака. Но однажды, когда я попытался ее шлепнуть – сама напросилась, – она так огрела меня, что чуть не сломала мне челюсть. О фонаре под глазом я уж не говорю. А потом спустила с лестницы. В классическом стиле. Пинком в зад. Впрочем, это даже не пинок, если его даст мастер своего дела. Скорее задотычина ногой чуть пониже крестца. Я скатился вниз со скоростью ракеты и насажал себе столько синяков, что две недели потом не мог ни снять штанов, ни надеть ботинок, ни почесать в затылке. И сейчас смешно, как вспомню. Люблю Коукер. Женщина с характером. Кремень. В следующий раз, когда мне вздумается побеседовать с Коукер на равных, я захвачу с собой молоток.
–И чего тебе так неймется туда идти? – сказал я. – Из старой Сары много не выжмешь.
–Поживем – увидим, – сказала Коукер. – Ей, верно, не очень захочется доводить дело до суда... Сожительствует с мужчиной, который ей вовсе не муж, да еще на десять лет моложе. И сама побывала за решеткой.
–Заваривать кашу ради четырех фунтов четырнадцати шиллингов, – сказал я.
–Я не собираюсь дарить им эти деньги, – сказала Коукер. – Славная парочка – эта Манди и Хиксон. Неплохо они вас облапошили.
Коукер стала распаляться, и я замолчал. Она уже давно затеяла это дело, а когда женщина втемяшит себе в голову, что она должна добиться справедливости, пиши пропало. Вот почему у нас нет женщин судей. У них слишком сильно развито чувство справедливости, чтобы чинить правосудие.
А Коукер распалялась все больше. Накручивала себя.
–Уж эта мне Сара Манди! – сказала она. – Где вы только подцепили ее? В какой-нибудь конторе, где нанимают натурщиц? Или взяли прямо с панели?
–Она не была натурщицей, и я ее не подцеплял. Она была замужняя дама и сама подцепила меня.
–Что? Сама пошла на панель? Быть не может!
–Конечно, нет. К чему ей это? Мы познакомились в ее собственном доме, когда я писал портрет ее мужа.
–Что? Строила вам глазки в собственном доме? Быть не может!
–И глазки, и куры, и прочие амуры. Кинулась мне на шею, я и опомниться не успел.
–Замужняя женщина!
–Семь лет замужем, пятеро детей.
–Пятеро детей! – сказала Коукер. – Таких женщин вешать мало.
–Ты не поверишь, – сказал я, – сколько женщин бегает за художниками, особенно за художниками, которые пишут обнаженную натуру. Видно, это помогает им чувствовать себя женщинами.
–Женщины, мистер Джимсон? – сказала Коукер, взвинчиваясь еще пуще. – Девки! Вот как таких зовут. А если они леди, живут за мужем и нужда их не гонит, так они еще хуже, чем девки.
–Ну, Сару-то нужда гнала, – сказал я.– Ей перевалило за тридцать, и все котлы были под парами. Форменная пожирательница мужчин, с «Ах, мистер Джимсон, я обожаю искусство», а сама не отличит картины от сдобного кренделя. «Ах, мистер Джимсон, как это замечательно – уметь так рисовать!» И шейку набок, и глазки вниз. О, Сара умела льстить. Не похвалишь – не поедешь. Я знавал на своем веку лгунов и притворщиков, но до Сары им далеко. Даже предлагая вам сливок к кофе, она и то стреляла глазами, выставляла фасад, а в голосе так и слышалось: «Поди сюда».
– Фу, прямо с души воротит!
–Но всего смешнее было смотреть на ее ужимки, когда она принимала гостей. «Еще чашечку чая, леди Пай; кусочек торта, миссис Пэддл. О, вы должны его попробовать! Ну, пожалуйста, самую крошечку». Они были без ума от нее. Прелестная молодая хозяюшка, ангел-хранитель семейного очага.
–Не говорите мне о ней больше, сказала Коукер. – Я и так вижу ее как живую.
–Семейные молитвы. На коленях каждое утро и вечер. «Помилуй нас, Господи, помилуй нас». А потом прыг-скок ко мне в мастерскую. «Попозировать вам?» – «Благодарю, мэм, в другой раз». – «Но ведь вы же рисуете эту фигуру по памяти?» – «Да, мэм».– «А не легче рисовать с натуры?».– «Ну, это зависит от натуры». – «Я не могу тут вам помочь?» И успел я глазом моргнуть, как она уже в чем мать родила
–Я бы ей показала, будь я ее мать! – сказала Коукер.
–По воскресеньям церковь. Библия и молитвенник в красном сафьяне с золотым обрезом. Вечером холодный ужин. Семга, салат, омары, язык, буженина, холодная телятина, портер, красное бургундское. Бисквит с девонширским кремом и пинта-другая старого хереса. А в сумерках вечерние гимны. «Ах, мистер Джимсон, какая прелестная мелодия... Мне всегда хочется от нее плакать. Какая чудесная луна – не пройтись ли нам по саду? Может быть, раскрылся еще один цветок табака. Ах, мистер Джимсон, какой божественный запах... прямо голова кружится». У нее это называлось «голова». И незаметно мы у беседки, и на скамье позабыты подушки...
–Ну и сука, – сказала Коукер. – Для такой плетки мало.
–А потом, ты только представь, Коуки, она заливалась слезами... настоящими слезами... «Ах, мистер Джимсон, как это случилось? Я сама себе не верю, все это сон, дурной сон. Не правда ли? Я так привязана к мужу. Он такой верный, такой хороший человек. О Боже, у меня так тяжело на сердце...»
–И вы все это глотали, – сказала Коукер. – Как все мужчины. Еще и подзадоривали эту шлюху.
–Сару? Очень надо! Я смеялся над ее фокусами.
–Да, и попались к ней на крючок, как только она свела в могилу мужа.
–Никогда я не был у нее на крючке. Бедняжка Сэл, мной ей не очень-то удавалось вертеть; когда она слишком стала меня донимать, я выгнал ее в три шеи.
–Так я вам и поверила, – сказала Коукер. – Вы бы посмотрели сейчас на себя. Нос кверху, хвост трубой – ну чисто мартовский кот при луне... Держите ухо востро, не то она снова приберет вас к рукам.
–Никогда, – сказал я, опуская немного голову и выпячивая живот. Но что скрывать: с рыси я давно перешел на галоп. Странно, я и не думал о Саре, клянусь честью. Разве что злился на чертову старуху. Испортила мне целый рабочий день.
–Приберет меня к рукам? Сара? Да я ее вдоль и поперек знаю! – сказал я. – У бедняжки Сэл на это мало шансов. Говорят, у некоторых людей правая рука не ведает, что творит левая. Это что! Сара могла грешить с одного конца, оплакивать свои грехи с другого и получать удовольствие от обеих процедур одновременно. Это не женщина, это целая дюжина женщин – одна хуже другой.
–Прямо хоть возвращайся, – сказала Коукер. – Не представляла, что она такая дрянь. – И она выставила свой перед и еще громче застучала каблуками. У Коукер не очень пышный бюст. Ровная, как пароходная труба.
–Прекрасно, Коукер, – сказал я, – мне это подходит. Я не хочу связываться со старой хрычовкой. Только беды наживешь.
–Еще чего! – сказала Коукер. – Не вздумайте увиливать. Не знаю только, как мне разговаривать с этой тварью и не показать, что я о ней думаю.
–Говори все, что угодно, – сказал я. – Для Сары слова что с гуся вода. Ее ничем не проймешь. Женщина до мозга костей. Есть только один способ задеть ее чувства – ударить ее тяжелым предметом. По носу. Тарелкой по сопелке. Единственное уязвимое место.
–Этого я не могу, – сказала Коукер. – Я б не дотронулась до нее и ершиком для мытья бутылок. У меня к таким женщинам идиотокразия. Показывать себя нагишом! Тьфу!








