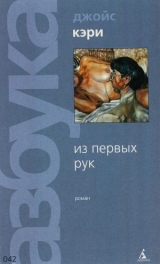
Текст книги "Из первых рук"
Автор книги: Джойс Кэри
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 28 страниц)
Глава 23
После рыбы меня развезло. Я сидел с широко открытыми глазами, уставившись на свет. Канделябры все росли и росли, пока не превратились в серебряные портики, под которыми зелеными девицами в широкополых шляпах прогуливались цветы. Пламя свечей смотрело на меня глазами пробуждающихся от сна тигров. Лежа на боку, они попеременно открывали глаза. Тигр, тигр, не до игр. Разбойная тварь со смердящим дыханием и гангренозными когтями. Чем свирепее, тем красивее.
–У вас здесь отличная стена, сэр Уильям, – сказал я. – Я не прочь расписать ее. Тигры и орхидеи. Мухоловы и людоеды. Цветы зла. Миллионер закусывает младенцем и созерцает красоту сущего. Искусство питается младенцами. Чтобы спасти тысчонку-другую младенцев в год, нужно потратить миллионы. Надо учить матерей. Потом бабок. Потом почтенных профессоров. Сколько вы дадите за тигров? Сто гиней. Идет. Завтра же начну. Через куропатку жареную к духовным радостям. Радость – благо. Вы любите Спинозу, сэр Уильям? Принимать все сущее с покорной радостью.
Сэр Уильям зашевелил губами и стал похож на жующую жвачку овцу. Я прыснул.
Передо мною возник Спиноза в круглых очках и белом фартуке. Он обтачивал линзу и разглядывал моих тигров. На фоне высоких коричневых стволов, теснящихся как колья в изгороди из каштанового дерева с редкими пучками зелени наверху. Неба нет. Ни капли синего, ни единого просвета. Орхидеи, подымающиеся из земли с толстыми тычинками, похожими на фаллосы, вылепленные из сырого мяса. Красота, величие, слава.
–По-моему, сегодня тосты удались ей лучше, Билл, – сказала ее светлость нежным голоском. – Конечно, они еще не совсем то, что надо, но вполне съедобны.
–Намного лучше, – сказал сэр Уильям. И, отломив кусочек тоста, стал внимательно его разглядывать. – Да, несомненно, лучше.
Зеленые девицы под серебряными портиками пустились в пляс, покачивая серебряными бедрами. Ах они, потаскушки! И я пропустил два стакана бургундского.
О, Бьюлы край,
Там высшая услада для Жены – отдать девичество
супругу,
Пройти моря и земли, чтобы унять томленье
Мужского духа. Он воздаст ей жемчугом и златом,
Ее насытит пищей Рая; и засияет красота Жены.
—Не хотите ли еще вина, мистер Джимсон?
И ко мне склонилось лицо неправдоподобной красоты. Какие глаза! Дымчатые, словно ночное небо, залитое лунным светом, исчерченные, словно тенью от лепестков, голубовато-серыми расходящимися лучиками. Темные у края радужной оболочки, словно краска сбежала туда и осела. С белками, яркими, как облако; а ресницы – два мазка свежей бронзы – темные, как лес перед восходом солнца, когда ни один луч еще не достиг земли. А какой нос, какие губы! Ева. Потрясающая симметрия.
Раздался голос, такой сладкий, что я не различал слов. Женщина до мозга костей. Чаровница. Я сидел с открытым ртом, осклабившись, как боров Цирцеи. Брови не подщипаны, только разровнены и напомажены. Перья из ангельского крыла.
–У вас есть семья, миледи, то есть я хотел сказать – дети?
–Нет, к сожалению.
–Ну, разумеется, нет. В стране Бьюлы детей не рожают.
–Вы считаете, что я не исполнила свой долг?
–Нет, что вы. Ваш долг быть богатой и счастливой.
–Но мы не так уж богаты. – Она смотрела мне в глаза, словно говоря: «Друг, от вас у меня нет тайн». Великолепно сработано! – Муж ужасно пострадал во время кризиса.
–Бедняга.
–Да, ужасно пострадал. Все же, мне кажется, кризис принес не только зло, но и добро. Он заставил подумать о бедных.
–Как же, как же.
–Теперь уже ни одно правительство не допустит безработицы. – Серьезный взгляд, полный сочувствия и политической мудрости. Профитроли в шоколаде.
–Кризис, – сказал сэр Уильям,– несомненно, много способствовал развитию социального законодательства.
–Так же, как и мировая война, – сказал профессор.
–Ах, не говорите об этой ужасной поре, – сказала ее светскость. – Я была еще ребенком, но до сих пор помню эти цеппелины.
–Да, война, пожалуй, принесла не только зло, – сказал сэр Уильям. – Без войны у нас не было бы Лиги Наций. И потом, война научила нас быть всегда наготове.
От этих разговоров на меня напал такой смех, что я захлебнулся и чуть не изрыгнул полстакана вина. Ну и потеха! Сэр Уильям похлопал меня по спине.
–Пожалуй, я разбросаю среди тигров подсолнечники, – сказал я, – и поверну их головками к тиграм.
–Да, да, – сказал сэр Уильям. Он считал, что я пьян.
–Сто гиней, – сказал я. – И дело с концом.
–Нет худа без добра, – сказала леди Бидер задумчиво. Итальянская школа. Кисть Джорджоне. – Как это верно.
–Да, – сказал я, – как нет устрицы без ножа. Вы просовываете его между створками – и устрица в восторге.
–Но, мистер Джимсон, говоря серьезно, разве вы не думаете... в более глубоком смысле?.. – И она обратила на меня свои прелестные глаза. Испанская школа. Религиозный экстаз, кисть Эль Греко.
–Вы совершенно правы, мадам, – сказал я. – Специалист вам из любой дряни конфетку сделает. В нашем поселке глухонемая девчонка родила в тринадцать лет. Ребенка она утопила, а сама глотнула соляной кислоты. Но ее вылечили и упрятали за решетку. Она, конечно, была немного того и буйная.
–Вы думаете, сумасшедшие способны страдать? – Сплошное воркование; ну прямо голубка, которая снесла яйцо. Ах ты, милочка, подумал я. О, дочь Бьюлы!
Она захочет – и создаст ночь лунную и тишину, Плодовые сады, шатер великолепный В кольце песков пустынных и звездной ночи, И нежную луну, и ангелов парящих.
–Прошу вас, мистер Джимсон, еще сладкого.
Сладкого так сладкого. Всегда готов преломить сладкое с ближним своим.
–Еще шоколаду?
О, чудный край Бьюлы!
–Вы абсолютно правы, ваша светлость. Для докторов девчонка была просто находкой. Нет худа без добра.
–Вот еще чем мы обязаны войне, – сказал сэр Уильям. – Успехи медицины. В особенности психиатрии и пластической хирургии.
–Да. Эпоха прогресса. Мать этой девчонки была придурковата и немного глуха. Вышла она замуж за парня, который был еще дурнее и немного чахоточный. Другие ее не брали. И они народили четырнадцать детей. Кто придурковат, кто глух, кто калека, а кто и то, и другое, и третье. Настоящий паноптикум. Чудо, как им удалось выжить. Чудо медицины. Просто диву даешься, каких только детишек не спасают теперь наши врачи.
–Ужасная история. Но наука беспрестанно движется вперед, не правда ли?
–Совершенная правда. И она будет двигаться тем быстрее, чем больше среди населения будет кретинов.
–Вы не верите в науку, мистер Джимсон?
Я засмеялся.
–Этот дом зовется страной Бьюлы. Чудная, милая обитель, где не может быть места спорам, чтобы не будить тех, кто спит.
–Ах, вы ужасный циник, мистер Джимсон!
–Какое там! Но я и не миллионер. Умоляю вас, ваша светлость, ни в коем случае не теряйте ваших миллионов. Это пагубно отразится на вашей живописи.
–Но мы вовсе не богаты. Мы просто бедны. Иначе стали бы мы жить в такой квартире. Правда, Уильям? Где только одна ванная.
–Кстати о ванных. Я хотел бы просить вас об одолжении. Мне хотелось бы написать ваш портрет.
–Надеюсь, не в ванной?
–Нет, в натуре.
–Но я страшно худа, мистер Джимсон.
–Ничего, к вашему лицу вполне подходит худощавая фигура.
–Боюсь, мужу не понравится.
–Пусть не смотрит.
–Гойя, – сказал профессор, – написал герцогиню Альба в двух вариантах – обнаженной и одетой.
–Я видел эти картины, – сказал сэр Уильям. – Превосходные полотна. Столько экспрессии...
–Превосходные, – сказал я. – У обнаженной махи нет шеи, а у махи в сорочке – бедер. Но все равно, что-то в них есть.
–Вам не нравится Гойя, мистер Джимсон?
–Великий художник, писавший великие картины, великоватые для застольной беседы. Один только нос королевы в парадном портрете – целая проблема.
–Лирическая кисть, – сказал профессор.
–Золотая.
Но от Гойи стало слишком шумно. Нос королевы затрубил мне в ухо, и стены Бьюлы задрожали.
–Не надо о Гойе, – сказал я. – Лучше будем любоваться хозяюшкой и потягивать винцо. Когда я могу начать ваш портрет, мадам? Завтра с обеда я свободен.
–Боюсь, у меня дела.
–Нет, нет. Дела могут подождать. Не станете же вы упускать такую возможность? Стать бессмертной, как герцогиня Гойи.
–Еще портвейну, мистер Джимсон? – сказал сэр Уильям.
–С удовольствием. – Я не мог сдержать улыбки. Что, нокаутировали вас, сэр Уильям? Положили на обе лопатки. Теперь вы только тень в стране Бьюлы.
–Нам надо обдумать ваше замечательное предложение, – сказала ее светлость.
–Да, – сказал сэр Уильям, согревая стакан бренди, и голос у него потеплел, голос стал сонным. – Такая честь.
И у каждого мига ложе златое для сладкого
отдохновенья.
И над каждым ложем склонилась дочь Бьюлы,
Дабы насытить спящих с материнской любовью.
И каждая минута в алькове спит лазурном
под шелком покрывал.
А у меня хоть бы в одном глазу! Совсем не хочется спать. Перед глазами, словно праздничная процессия в Эдеме, одно за другим проходят видения. Страна богатых, где древо познания, древо добра и зла, опутано золотой колючей проволокой.
– Да, – сказал я. – Я напишу вас в стране Бьюлы, мадам. И вашу прялку. И ваш шалаш. Всего за каких-то сто гиней. Ну и профессору – пятьдесят. Это же даром за бессмертие.
Глава 24
Когда вскоре после обеда я отправился восвояси, профессор держал меня под руку с одной стороны, а сэр Уильям – с другой.
Спускали они меня с лестницы или вели под локотки, как почетного гостя, – судить не берусь. В «Элсинор» нас доставили на машине – кажется, на такси. Где-то по пути к нам подсел Носатик Барбон. Возможно, профессор заехал за ним. Похоже, что они были знакомы. Носатик и уложил меня в постель.
Более того: видя, что мне трудно улежать в постели – чертовски узкой – и что других гостей раздражает моя веселость, когда сами они в миноре, он остался со мной до утра.
Я был ему признателен, но пожалел, что он не дал мне барахтаться в собственное удовольствие. Особенно утром, когда увидел, как он скис, а мне и без того было кисло.
–Ну, а сейчас ты о ком беспокоишься? – спросил я.
–О м-маме, – сказал он. – Она, верно, прождала меня всю ночь. Она ужасно беспокойная.
–Ты тоже, – сказал я. – Она сама виновата.
–Она уж-жасно, уж-жасно беспокойная.
–Любит тебя, наверно, – сказал я. – Некоторые матери любят своих детей. Это естественно.
–Да, она меня любит, но не одобряет.
–Многие матери не одобряют своих детей. Это естественно. Женщины очень критичны. У них на все своя точка зрения.
–Она не выносит, когда я рисую. Знаете...
Он замолчал. Я знал, что ему нужно. Чтобы я пошел с ним и поговорил с его родителями. Объяснил, что он хочет стать художником. Но голова у меня раскалывалась, глаза жгло, в руках и ногах стреляло, как в пульпитном зубе. Во рту пересохло, как в старом грязном ботинке. Мне не терпелось приняться за работу.
–Ну, хватит дурака валять, – сказал я. – Я и так ухлопал уйму времени и сил на светские обязанности. Чем скорее я впрягусь в «Грехопадение» и кончу его, тем лучше. Особенно теперь, когда можно продать его Бидерам.
–А вы не сходили бы со мной? – сказал Носатик.
–Это еще зачем? – рассердился я. – Тебя что, просили торчать здесь всю ночь?
–Вам было очень плохо. Я боялся, что вы упадете с кровати и расшибетесь.
Тут уж я совсем рассвирепел. Вот как! Носатику вздумалось сотворить из меня кумира и приносить себя в жертву. Совсем как моей сестрице Дженни, которая не раз доводила меня этим до белого каления. Когда я, лишив себя завтраков, скопил пятнадцать фунтов, чтобы она могла вставить себе зубы – поскольку собственные, которые она не лечила, у нее выпали, – она тут же отдала деньги мужу на новую модель. А когда я увидел, что она по-прежнему без зубов, и узнал, куда пошли мои деньги, она только сказала:
–Я думала, ты хотел порадовать меня.
–Хотел. Но я не для того шесть месяцев недоедал, чтобы тешить Робина.
–Ну, милый, ты доставил мне огромную радость. Такое счастье – эти пятнадцать фунтов были словно дар Божий. Воистину дар Божий. Ведь я получила их благодаря твоей доброте и любви. Они помогли мне спасти Робина от отчаяния. Ведь он совсем уже отчаялся. И тут пришло твое письмо.
–Он всегда отчаивается. Все изобретатели отчаиваются, если у них нет миллиона на текущем счету или заручки у директора какого-нибудь предприятия. У твоего Робина столько же шансов реализовать свое изобретение, как у таракана попасть в зачерствелый сыр.
–Но, милый, только на прошлой неделе он показывал свою новую модель «Рэкстро» – самой большой нашей фирме. И модель там понравилась, самый чувствительный регулятор из всех, какие им когда-либо предлагали. Немножко упростить – и его можно будет запустить в производство.
Я был слишком возмущен, чтобы возражать. Ну и дуреха, прямо хоть плачь! К тому же ей, конечно, опять нужны были деньги. Сначала она из гордости не хотела просить, но любовь все превозмогает. Мы с матерью сложились и дали ей несколько фунтов. Все мои сбережения ухнули за эти три года. Потом я женился, и моя чековая книжка попала в надежные руки. А когда новая рэнкинская модель нашла наконец сбыт, ничто не изменилось. Дженни это не прибавило счастья. Рэнкин теперь окончательно убедился, что ему нужно десять тысяч в год и фабрика в собственное распоряжение. И Дженни, кажется, поняла, что ему всегда всего будет мало. Она начала соображать, что значит жить с человеком, который считает себя обездоленным. Все равно что очутиться в пасти большой ленивой акулы, – она наверняка сожрет тебя, даже если ей вовсе не хочется есть, уж так она устроена.
И конечно, ни мать, ни я так и не получили обратно своих денег. Даже когда Рэнкин стал хорошо зарабатывать. Он не платил долгов. Он считал, что никто и ничто не может вознаградить его за причиненную когда-то несправедливость. И все, что получал, тратил на новые модели. А мы продолжали давать Дженни деньги. Она была преданная жена. И мы плясали под дудку Рэнкина, потому что Дженни была преданная жена.
От этих воспоминаний я так распалился, что стал сам не свой. И заорал на Носатика:
–Что тебе здесь надо? Разве я не сказал тебе – марш домой?
–Д-да, д-да, – сказал Носатик, дрожа. – Я сам во всем виноват.
–Разве не говорил я тебе сто раз – не ходи сюда, не лезь ко мне? Оставь меня в покое и займись своим делом.
–Г-говорили, – сказал Носатик с таким видом, словно искал, в какую бы щель ему поскорее забиться.
–Разве не говорил я тебе, что тебя утопить мало, если ты сейчас же не добьешься стипендии?
–Г-говорили, – сказал насмерть перепуганный Барбон. Он словно уменьшился наполовину, а нос удвоился – набряк от переживаний.
–Ну так п-пошел вон! – загремел я. – Чтоб духу твоего здесь не было до будущего года!
–А в-вы, в-вы не пойдете со мной к маме? – сказал Носатик.
Собственно говоря, я уже понял, что допустил ошибку. Носатик, конечно, совсем оробел. Настолько, что даже в лице переменился. Но характер у него не переменился. Каким он, Барбон, был, таким и остался. Преданный до гроба. Упрямый как осел. Даже еще упрямее. Такого бить – только дурь вколачивать.
–Видите ли, – сказал он в страшном волнении, – если бы вы поговорили с ними обо мне, это звучало бы совсем иначе. Мама знает, что вы знаменитый художник.
–Что-то не то она знает. Откуда у нее такие сведения?
–От меня.
–А у тебя откуда?
–От мистера Планта.
–Если ты не добьешься стипендии... На месте твоих родителей я выгнал бы тебя из дому. После всего, что они для тебя сделали! Такого дурака расстрелять мало. Дурак хуже убийцы! Всего еще каких-то четыре года повозиться с книжками – и тебе на всю жизнь обеспечено тепленькое местечко на государственной службе. Четыре года каких-то жалких усилий в обмен на пятьдесят или шестьдесят лет полного безделья при регулярном жалованье, а потом и пенсии. Обеспечен до конца дней. Никаких забот, никаких хлопот.
–Но я не могу идти на государственную службу—я хочу быть художником.
–Получи место, а потом уж делай что хочешь. Но сначала обеспечь себя службой. Без денег нельзя быть художником. Вот, посмотри на меня. Я занимаюсь живописью уже пятьдесят лет, а сейчас у меня нет даже кистей и красок. Какое может быть искусство без постоянного дохода. Искусство – все равно что розы. Оно требует богатой подкормки.
Я долго и с блеском развивал эту мысль. Но когда я кончил, передо мной стоял Носатик с покрасневшими от слез глазами. Его некрасивое лицо было таким некрасивым, озабоченным и несчастным, выражало столько преданности и упрямства, что я сдался и позволил ему увести себя к ним домой.
Аккуратный стандартный домик. Перед входом садик. Пятнадцать футов на десять. Четыре клумбы. Каждая со сковородку. Выложенная цветными кирпичами площадка. На одного.
У Носатика был ключ, и он провел меня в дом. Гостиная. Мебель в ситцевых чехлах. Добротный стол красного дерева. Книжный шкаф, набитый Диккенсом и Теккереем. На камине две французские бронзовые статуэтки. Позолоченные часы. Латунная решетка. Семейные портреты – увеличенные фотографии. Гибель Нельсона. Билет члена профсоюза со всяческими эмблемами. Вошел мистер Барбон. Обыкновенный морж. Рост средний. Лицо чуть скошено. Голова как головка чедерского сыра. Незабудковые глаза в двух синичьих гнездах. Сутуловат. Синий костюм с узкими рукавами. Модель 1912 года. Руки как ковши.
–Здравствуйте, сэр. Как любезно с вашей стороны зайти к нам.
–Ну что вы...
–Я знаю, как драгоценно ваше время.
–Ничуть.
–Такой знаменитый человек, как вы, сэр.
–Уж не такой знаменитый.
–Вы по поводу нашего сына? Моя Минни несколько обеспокоена его поведением. Мать, знаете. Гарри у нас младший.
–Знаю, знаю. У меня у самого их две штуки.
–Да-да, – кивнул он, не слыша, что я сказал. – Да, матерям нелегко с сыновьями. Старший пошел в авиацию и погиб. Несчастный случай.
–Сейчас только и слышишь о несчастных случаях. То младенец кипятком обварится, то мальчишка под грузовик попадет.
–Да, сэр, не мы одни. Тут и вправду грех жаловаться. Но вы же знаете, что такое мать.
–Знаю, знаю. У меня у самого их было две штуки.
–Да, конечно, – согласился он, не слыша ни слова из того, что я сказал. – Да, конечно. Но Гарри у нас младший, и он всегда был таким хорошим мальчиком. Умным. Учителя им нахвалиться не могли. Они были уверены, что он получит стипендию. На будущий год в сентябре. И поступит в Оксфорд. Мальчику было бы обеспечено будущее.
Он все говорил и говорил, какой милый, умный, добрый мальчик его Гарри. И каким утешением он был для матери. Но сейчас она очень обеспокоена. Очень. Я же знаю, каковы женщины.
Кто-то вошел через парадную. Мистер Барбон круто повернулся на стуле, как кран на поворотном круге, и двинулся за дверь. Руки длиннющие-предлиннющие. Все время подымаются, опускаются. Пальцы смыкаются, размыкаются. Как зубья у ковша. Дверная ручка медленно исчезла из виду, но потом появилась снова. Негромкое бормотание за дверью. Словно там работала старинная паровая лебедка. Женский голос несколько раз повторил: «Ни за что». Вошла миссис Барбон. Маленькая, пухленькая. Аккуратный носик. Гладкие седые волосы. Когда-то, должно быть, была ничего. Правда, шея коротковата. Посмотрела на меня так, словно готова была отравить.
–Это мистер Джимсон, мамочка, – сказал мистер Барбон и слегка подтолкнул ее ко мне, принуждая выполнить долг вежливости.
Она подалась назад и, бросив: «Да, слышала», продолжала сверлить меня глазами. Барбон двинул одним из своих ковшей и сгреб ее за рукав.
–Мистер Джимсон – друг нашего Гарри, мамочка. Тот самый знаменитый художник.
–Слышала, Том, слышала. Отстань от меня.
–Может, сядем, – предложил мистер Барбон.
–Не хочу я сидеть, – сказала миссис Барбон и обернулась ко мне.– Мне кажется, вы могли бы оставить моего сына в покое и не портить ему будущее.
–Простите, миссис Барбон.
–Ну, конечно, вам-то что. Заманили мальчика и вертите им, как хотите. Губите его жизнь и разрываете сердце его отцу.
–Но, миссис Барбон, я и не...
–И еще я вам скажу. Я считаю, что есть много таких художников, которых надо запретить. Правительству давно уже пора принять меры.
Мне от души было жаль бедняжку. Видеть, как единственный сын – ее гордость и опора на склоне лет – вдруг катится в тартарары... Ужасно! Вот и будь после этого матерью.
–Вполне согласен, миссис Барбон, – сказал я. – Никчемное это дело.
–Зачем же вы им занимаетесь?
–Мамочка! – сказал Барбон-старший.
–Нет, дай мне сказать, Том. Не перебивай меня на каждом слове. Стыдно вам, мистер Джонсон, – или как вас там? Порядочный человек постыдился бы ездить на таком мальчике, как Гарри. Ведь и слепому ясно, что он еще совсем ребенок и глуп для своих лет. Вы гоняете его туда-сюда, когда мальчику надо делом заниматься, готовить себя к честному труду и достойной жизни.
–Совершенно верно, миссис Барбон, я...
–А ваше занятие, да будет вам известно, я не считаю достойным человека, который уважает себя и стремится заслужить уважение других.
–Совершенно справедливо, миссис Барбон. Я не раз советовал Гарри...
–Это вообще не работа. Просто грязное надувательство, которым промышляют всякие лоботрясы и бездельники.
–Я не раз говорил Гарри, – вставил я, – что ему нужно хорошо учиться и стараться получить стипендию.
–Что он заработает как художник?
–Ничего, – сказал я. – Вообще, по-моему, у Гарри нет таланта.
–Ах, вот как! Много же вы о нем знаете! – возмутилась миссис Барбон. – Только в прошлом году он получил приз за свои рисунки. И Общество художников дважды присуждало ему бронзовую медаль, – сказала она, обрушиваясь на меня за слепоту к гениальным задаткам Носатика.
–Даже и в этом случае, миссис Барбон, карьера художника – штука ненадежная. Мальчику куда лучше добиваться стипендии.
–Зачем же вы тогда все это время отвлекали его от занятий? Учителя говорят, что он целыми днями топчется около вашей мастерской или бегает по картинным галереям и пялится на картины.
–Я не знал...
–А прошлой ночью... он вообще не явился домой.
–Мне было очень плохо, и он...
–Так вот! Если он вам нужен, забирайте его совсем, – сказала миссис Барбон, вся дрожа. – Я не желаю иметь в доме сына, который водится с людьми вроде вас и разрывает сердце родному отцу.
–Но, мамочка... – сказал Барбон-старший.
–Может, ты помолчишь, Том? Я знаю, тебе бы все замазывать и заглаживать, будто все это так, ничего. А я говорю тебе – чего. Наш мальчик губит свою жизнь и превращается в грязного побирушку и бездельника, разрывая нам сердце после всего, что мы для него сделали.
–Но, м-мамочка, – сказал Носатик, подходя к ней. – Это же неправда. Какие же художники б-бездельники?
–Помолчи, Гарри, – сказала мать, закрывая глаза, словно утомившись от бессмысленных споров. – Что ты понимаешь? Ты же все равно будешь делать, как тебе заблагорассудится. Что тебе до отца! Ну ладно. Так вот. Если вы ничего не можете нам сказать, мистер Джонсон, и даже не хотите просить прощения за то горе, которое вы нам причинили, может, вы по крайней мере уйдете и оставите нас одних. А ты, Гарри, можешь идти с ним. Только тогда уже сюда не возвращайся.
–Но, мамочка... – сказал Барбон-старший. Тут миссис Барбон покинула комнату, медленно закрыв за собой дверь. А мистер Барбон стал извиняться за жену.
–Она немного не в себе, мистер Джимсон. Гарри у нее единственный. Мы, поверьте, вовсе так не думаем о художниках. Вполне почтенная профессия. Просто мы беспокоимся, получится ли из Гарри что-нибудь стоящее.
–Скорее всего, нет, мистер Барбон. В искусстве редко кому удается сделать что-нибудь стоящее. Да я и не замечал у него никаких признаков таланта. Ему нужно добиться стипендии. И жизнь его будет обеспечена.
–Обес-с-с-спечена, – сказал Носатик, свистя, как змея.
Тут мистер Барбон превежливо поблагодарил меня за нанесенный им визит, и я вышел. Носатик вышел вместе со мной. Я отчитал его за то, что он так обращается с матерью.
–Она права,– сказал я.– Если ты будешь продолжать в том же духе, ты загубишь и ее жизнь и свою. Ведь ты разбиваешь ей сердце.
Но Носатик только больше нахохлился. Ну, разобьет ей сердце, так разобьет. Он думал об этом ровно столько, сколько вырвавшийся на свободу конь думает о зеркальной витрине, – он просто ее не замечает.
–Н-но ведь она глупости говорит, – сказал он. – Если запретить людям становиться художниками, не будет больше живописи.
–Ну нет, – сказал я, – искусство не упразднишь. Не выйдет. Не будет профессионалов – будут любители. Все станут художниками.
–Но ведь от любителей мало толку.
–Верно. Только профессионалы хороши, остальное – дрянь.
–А как стать любителем-профессионалом?
–Отдавать делу все свое время. И то недостаточно.
–Какая же разница между профессионалом и любителем?
–Огромная. У любителя – счет в банке, который все равно останется при нем, если он даже станет профессионалом. О чем я тебе и толкую. Сначала обеспечь себе счет в банке, а потом уже принимайся за живопись и пиши пусть хуже некуда. Все равно будешь счастлив. Потому что чем хуже будут твои картины, тем больше ты будешь доволен собой. И ты сможешь обзавестись милой женушкой и милыми детками, и устраивать милые званые вечера, и приглашать на них милых друзей, и стать членом какого-нибудь милого общества, и выслушивать милые комплименты от разных милых людей.
–Но я не хочу обеспеченности.
–Это потому, что ты всегда был сверх головы обеспечен. Но к обеспеченности нельзя относиться беспечно. Потеряешь – не вернешь. Так что беги домой и садись за книги. И знаешь что – я научу тебя писать картины.
–Что? – сказал Носатик.
–То, – сказал я. – Если ты добьешься стипендии, я стану учить тебя. Я научу тебя всему, чему один человек может научить другого. Это не очень-то много.
–Вы серьезно, мистер Джимсон?
–Даю тебе слово. Вернее, полагаюсь на твое.
Мальчик схватил мои руки.
–Мистер Джимсон! К-как мне б-благодарить вас!
–Там видно будет. Сначала кончи школу. А теперь – марш домой! И скажи матери, что это я тебя послал.
Он повернулся и бегом бросился к дому.








