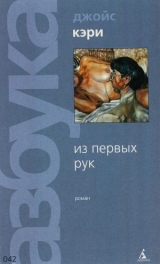
Текст книги "Из первых рук"
Автор книги: Джойс Кэри
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 28 страниц)
–Ты зачем это сделала?
К моему величайшему облегчению, Сара откликнулась.
–Ах, Галли, – сказала она, – не думала, что ты меня убьешь.
–Вот как, – сказал я. – А ты тоже хороша – орать во весь голос: «Полиция!» Ты ведь знаешь – я получу пять лет, если опять попадусь.
–Ах, Боже мой, Боже мой,– причитала Сара,– вот уж не думала, что ты меня убьешь! И все впустую!
Я было уже решился спуститься в погреб, чтобы посмотреть, не сломала ли она себе чего, как в коридоре, у входной двери, послышался чей-то голос, и я увидел полицейского. Я замер. К счастью, он сначала сунулся в гостиную, и прежде чем он оттуда вышел, я проскочил в кухню и закрыл за собой дверь на задвижку. Потом выпрыгнул в окно на капустные грядки и, сиганув через заднюю стенку, очутился в соседнем огороде. Моего ревматизма как не бывало.
Двор оказался закрытым. Без выхода на улицу. Тогда я вошел в соседний дом через кухню, где какая-то девчонка мыла тарелки. Я уставился на нее, она на меня. Глаза у нее сделались огромными, как плошки.
–Здравствуй, деточка, – сказал я, – Я насчет газа. Знаешь? Еще гудит в счетчике. С твоего разрешения я схожу за своим напарником. Он ждет на улице.
Девчонка молчала, как в рот воды набравши. Смотрела во все глаза и все терла, терла тарелку. Чуть дырку не протерла. Тогда я сказал:
–Вот спасибо, деточка, вот и хорошо.
И пошел по коридору к выходу. Очутившись на улице, я живенько добрался до большой магистрали, где ходит много машин, и прибыл в старый сарай, прежде чем Коуки, вымыв в баре посуду, вернулась домой.
Носатик Барбон ждал меня. Он был в таком возбуждении, что я долго ничего не мог из него выжать, кроме мычания.
–Держись, старик, – сказал я. – Гляди веселей.
–Эт-то так к-красиво, – выдавил он наконец из себя. – В-великолепно.
–Что?
–К-картина, в-ваша к-картина, в г-галерее. Они повесили ее в с-середине. «Женщина в ванной». К-как к-красиво!
Он ходил в галерею Тэйта, видел «Ванну», и ему ударило в голову. Она всегда так действует на слабые головы в первый раз. Как шампанское. Пьянящая штуковина.
–Чудесно, братец, – сказал я. – Ты успокойся. Картина действительно ничего. Только «красиво» – не то слово.
–Т-там какой-то т-тип к-копировал ее, но т-так п-плохо, у меня и то лучше бы получилось.
–Еще бы, – сказал я. И вдруг меня осенило. – Послушай, Носатик, – сказал я. – Мы обеспечены. – Я чуть не плакал. – Какой завтра день? Не дай Бог, воскресенье.
Но завтра, к счастью, не было воскресеньем. И еще до четырех часов у меня был превосходнейший ранний Джимсон. Этюд к «Женщине в ванной». Или, вернее, с «Женщины в ванной», но со всеми несомненными чертами, свидетельствующими, по выражению критиков и крикетоведов, о той первой свежести восприятия и смелости исполнения, которое не в силах повторить рука, ибо, приобретая зрелость в решении поставленных задач, она утрачивает тем не менее то je ne sais quoi {54}54
Здесь: особое, неповторимое ( фр.).
[Закрыть], без которого, пожалуй, ни одно произведение искусства не заслуживает именоваться творением гения.
Я на скорую руку высушил эскиз над печкой. У бедной Сары на заду вздулся волдырь, когда я тащил ее в Кейпл-Мэншенз. Но профессора это не смутило. Он ведь покупал не картину, а раннего Джимсона с безупречной родословной.
Когда я спросил его, не сходить ли мне на Бонд-стрит, он чуть не стал передо мной на колени. Он тут же послал телеграмму сэру Уильяму, и сэр Уильям еще до обеда прислал ответную телеграмму: пятьдесят фунтов и недельный опцион. Остальная сумма – по получении фотокопий и еще одной рекомендации от другого критика или, что более желательно, ученого крикетоведа.
Я согласился предоставить опцион на двадцать четыре часа, и сэр Уильям, который со свойственным ему великодушием был всегда готов оказать доверие там, где по большому счету имелись все основания считать сделку выгодной, выплатил все сразу.
Глава 40
На следующей неделе я так завертелся, что забыл получить по чеку. И сэр Уильям, боясь упустить картину, телеграфировал профессору, чтобы тот зашел ко мне. Но когда он зашел, мы все были в такой горячке, что не сразу его заметили.
Старая часовня походила на верфь – грохот, пыль, канаты и стояки для лесов, лестницы и банки с краской.
Я хотел наносить роспись прямо на стену. Двадцать пять на сорок, оштукатурена, как обычно, крупнозернисто, вручную, с мастерка. Отвесная грязно-серая поверхность с присохшим кое-где пометом, с паутиной у потолка и следами плевков поближе к полу. Пальцы мои так и рвались пройтись по ней кистью номер двадцать четыре. Я почти готов был обнять эту стену.
Но Носатик так разбушевался, что без клеенчатой робы и зюйдвестки к нему просто было не подступиться.
–Н-нельзя наносить роспись п-прямо на стену! – вопил он.– Она не г-готова. Н-надо п-писать на холсте или к-к-к...
–Да, но если возводить леса, придется как минимум ждать две недели.
–И н-нужно ждать, п-пока не возведут леса.
–А мое мнение – что эта чертова развалина не сегодня завтра и без нашей помощи рухнет. Кому тогда нужны будут твои леса? И вообще, если я взялся расписывать стену, того и жди пожара, удара молнии или обвала. А здесь я собираюсь написать самую большую свою картину. Быть может, это вызовет землетрясение или мировую войну, и полгорода превратится в руины.
Носатика мои речи привели в ужас. Нос у него покраснел и словно набряк от отчаяния. Чувства его достигли высокого напряжения. Поначалу он не сумел их выпустить, а потом они вырвались сами, все разом, как мелкая дробь.
–Н-но именно поэтому и надо ж-ждать, мистер Джимсон. Вы не можете рисковать, когда речь идет о такой картине. Не имеете права рисковать.
–Права, Носатик? Картина-то все-таки моя, черт возьми.
–Д-да. То есть н-нет. То есть я хотел сказать – она принадлежит народу. Эт-то шедевр, который принадлежит миру, г-грядущим п-поколениям.
–А может, этим поп-поколениям плевать будет на все картины, кроме кинокартин?
–Прошу вас, пожалуйста, мистер Джимсон. Ведь это серьезное дело. Вы не имеете права идти на риск. Надо укрепить потолок.
–Ни за какие коврижки. Сейчас же приступаю к работе.
–Но часовня может рухнуть.
–И пусть рухнет.
–Но тогда ваша работа погибнет навсегда.
–Пусть погибнет. Все равно останется достаточно дураков, занимающихся живописью и даже росписью. Искусство нельзя уничтожить, даже если забросать его кирпичами.
–Но никто не с-создаст к-картин, равных вашим, в-великих картин.
–Откуда ты знаешь, что они великие, Носатик?
–Откуда? – сказал Носатик. – Как же не знать? Достаточно взглянуть на них.
–Ну, этой ты, положим, еще не видел.
–Это будет величайшая картина, вы же знаете.
–Нет, черт возьми, из тебя никогда не выйдет художника. Ты рожден для церкви или большого бизнеса. Твое место там, где нужна вера, а не творчество. Тебе бы быть начинающим Фордом или пойти в ранние христиане. Подумаешь, львы! На всех все равно не угодишь.
Но, по правде говоря, из-за «Сотворения мира» я и сам вышел из берегов. Думал о нем днем и ночью. Уже неделю по-настоящему не ел и не спал. С тех самых пор, как мне в карман – через Бидера – свалились с неба шальные деньги. По ночам я просыпался, весь дрожа. Мне казалось, что упыри вонзились в пальцы ног. На самом же деле это «Сотворение» терзало меня своим огромным клювом. Я шел по улице и вдруг начинал смеяться и подпрыгивать на несколько футов, так, что мальчишки швыряли в меня апельсинными корками, а девчонки, подобрав юбочки, оглядывались, нет ли где полисмена, чтобы поскорее убрать эту непристойную ветошь (то есть меня). И все это происходило со мной потому, что я чувствовал, как ледяные руки толкают меня в спину – руки «Сотворения». Ничего удивительного, что Коуки решила, будто я немного того, и бегала за мной с бутылками портера, теплой одеждой и грелками. Потому что, как всякий порядочный генерал, я спал на месте боевых действий, а в часовне, которая, по мнению Коукер, была построена разве что для огнепоклонников, не было гидроизоляции.
–Послушай, Носатик, – сказал я, – пожалуй, то, что ты говоришь, не лишено смысла, но...
–С-с-с... – сказал Носатик, не желавший даже подождать, когда я кончу.
–И если ты можешь укрепить доски завтра к вечеру, я пока займусь картонами.
Причина, по которой я не мог ждать, была связана с Сарой. Полиция, – возможно, уже напала на мой след. А еще пять лет – пусть даже два – в душегубке прикончили бы меня. Поэтому я немножко торопился перенести мой замысел на стену.
–Даю тебе двадцать четыре часа, – сказал я, – чтобы покончить с досками. Но дольше я ждать не могу. Эта картина мне дороже жизни.
–Могу я платить сверхурочные? – спросил Носатик, капрал от промышленности. – В конечном счете это окупится.
–Плати сколько хочешь. Деньги для нас не проблема, – сказал я, и Носатик отправился пользоваться данной ему властью. Он пользовался ею так толково, что уже ко второй половине дня раздобыл доски и штукатуров. А также целый контейнер стояков, лестниц, цемента, канатов, ведер, не говоря о козлах и красках. Одноклассник Носатика по имени Джоркс, который, как все подростки, разбирался в электричестве, слазил на крышу и присоединил к старой проводке несколько метров нового провода, и мы смогли навесить целую гирлянду ярких ламп, от которых в старой часовне стало светло, как в ресторане. А еще двое ребят с Эллам-стрит, Набат и Знаменито, которые, как все настоящие лондонские парнишки, увлекались судами, снастями, узлами и блоками, соорудили в восточном нефе специальное приспособление, на которое подвесили две люльки. То есть ящики с отодранным боком, сидя в которых можно было расписывать стену.
Собственно говоря, все работы, кроме установки подпорок, были бы закончены завтра к вечеру, если бы не обычные помехи. Во-первых, прибыл какой-то джентльмен не то от муниципалитета, не то от комитета и, заявив, что здание ненадежно, предложил немедленно его покинуть.
–Но мы как раз укрепляем стены, – сказал я. – Кроме того, это мое рабочее помещение, а вы не имеете права выгонять работника из рабочего помещения. У меня контракт на три года.
–Боюсь, в связи с постановлением муниципалитета ваш контракт не будет иметь силы, – сказал джентльмен, обладавший синим вязаным жилетом и румяной улыбающейся физиономией, очками в золотой оправе, жирным носом и хорошими манерами. Весь так и сочился комитетской вежливостью.
–Зачем вам выставлять меня отсюда? – сказал я.
–Потому что здание ненадежно, – сказал джентльмен.
–Меня это не волнует, – сказал я.
–Но оно может обрушиться и убить вас, – сказал он.
–Я ценю ваши добрые чувства, – сказал я,– и снимаю с вас всякую ответственность.
–Значит, вы намерены активно противиться постановлению муниципалитета?
–Что вы! Я привык соблюдать законы. Я буду работать здесь втихую.
–Вы понимаете, – сказал он, – что мы это так не оставим.
–Вы не посмеете, – сказал Носатик, появившийся неизвестно откуда в крайнем возбуждении.
Мы оба удивленно и неодобрительно взглянули на него.
–Что? – сказал джентльмен.
–Что это мы не посмеем? – сказал я.
–Позор, – сказал Носатик. – Вы что, не знаете, что мистер Джимсон – это мистер Галли Джимсон, сам Джимсон?
–Знаем, – сказал джентльмен. – В том-то и дело, что знаем.
–Нет, вы только послушайте! – кричал Носатик, от которого пыхало жаром, как от радиатора. – А все потому, что вы Галли Джимсон.
–Тихо, Носатик, – сказал я, поглаживая его по плечу. – Иди домой. Проспись, пока никто ничего но заметил.
–Мы обратимся к народу! – заорал Носатик.
–Разумеется, – сказал джентльмен, радостно улыбаясь. – Дело обычное. Когда в позапрошлом году мы постановили отдать несколько домов призрения под гаражи, против нас организовали целую кампанию. Собрали даже что-то около тысячи фунтов, чтобы выкупить эти дома. Но за неделю все само собой рассосалось. И теперь там стоят бензоколонки. Превосходная заправочная станция. Приносит нам около тысячи чистого дохода в год.
–Как вы смеете! – орал Носатик, окончательно потеряв рассудок. – К-как вы с-смеете! Неужели вы не понимаете, что это войдет в историю. Л-люди будут п-проклинать вас еще много тысяч лет спустя.
–Мы не загадываем так далеко, – сказал господин советник, одаряя нас очаровательной дружеской улыбкой. – Муниципалитет не волнует, что будет через тысячи лет, поскольку тогда его самого уже не будет. Но мы будем здесь в назначенный день, чтобы выполнить наш общественный долг. До свидания, мистер Джимсон.
–До свидания, господин советник. Поклон семье.
И я как раз успел помешать Носатику ринуться на доброго джентльмена и, быть может, нанести ему роковые удары. Роковые для «Сотворения мира».
–Ты с ума сошел! Его личность неприкосновенна. Он – сама демократия в парадных штанах.
–Б-буржодуй! Скотина! – кипятился Носатик, размахивая руками. – Они хотят сорвать вам работу, потому что им не нравятся ваши картины.
–Не дури, Носатик, – сказал я. – Он держал себя вполне мило, этот господинчик. Выполнял свои обязанности по отношению к налогоплательщикам.
–Но это з-заговор! – кричал Носатик. – Все кругом уже знают. Не хотят, чтобы здесь была ваша картина – рядом со школой.
–Не с-смей говорить мне о заг-заговорах! – заорал я, выходя из себя. Не выношу таких разговоров. – Чтобы я этого больше не слышал! Нет ничего хуже и вреднее. Ты что, погубить меня хочешь? Знал я одного парня, который попался на эту удочку. Славный парень, торговал спичками. А конкуренты задумали выкурить его с того угла, где он стоял. Кто-то его предупредил, и он стал писать в газеты, митинговать против правительства и кончил тем, что сбил с полицейского каску. А теперь он в желтом доме. И что еще хуже – потерял всякий вкус к жизни.
–С-с-с... – начал Носатик, но я решительно взял его под руку и прервал.
–Тебе бы пойти и извиниться перед дорогим господином советником.
–Но он же хочет помешать вам, – сказал Носатик, становясь цвета маринованной капусты.
–Ну и что? – сказал я строго. – А если ему не нравятся мои картины? А хорошо, по-твоему, писать картины, которые кому-то не нравятся? Да еще такую громадину – хочешь не хочешь, а смотри! Безобразие, да и только! Все равно, как если бы я вылез на середину улицы и стал поносить его жилет или манеры, хаять его нос или смеяться над физиономией. Каждый вправе защищать свой жилет. Это и есть свобода. Так что прекрати шипеть, Носатик, и даже не пытайся внушать мне крамольные мысли, или, клянусь жизнью, я не позволю тебе работать со мной.
Эта угроза возымела действие. А с муниципалитетом я знал, как управиться. В таких случаях надо уповать на господ. Ибо никто как они. Я черкнул профессору записочку, сообщив, что я собираюсь употребить весь мой престиж, и забыл о муниципалитете. И нисколько не расстроился. И работа тоже не приостановилась. Но другой удар оказался посерьезнее. От него нельзя было так просто отмахнуться. Начались волнения среди рабочих, и не без основания. Как только плотник стал наколачивать рейки, ему на голову полетели кирпичи, большая балка, отделившись от стены, повисла в воздухе, с крыши загремела черепица, а в северной стене образовалась двухдюймовая трещина.
Рабочие прекратили работу и заявили об уходе, поскольку их жизнь подвергалась опасности. И Носатик снова стал меня точить: нельзя начинать картину, пока не поставят его знаменитые леса.
Но в этот критический момент я вспомнил Нельсона. Я приставил свернутую в трубку бумагу – только не к черной повязке на глазу, а к носу – и сказал:
–Не вижу никакой трещины. А насчет опасности, так неужели вы думаете, что для картины, о которой я мечтал всю свою жизнь, я выбрал бы здание, которое вот-вот рухнет?
И пока рабочие обсуждали последний довод, я пошел к Джорксу и сказал:
–Говорят, здание может рухнуть, и, по-моему, это вполне возможно. Ну так как? Я за то, чтобы продолжать.
–Я тоже, – сказал Джоркс, румяный паренек с большим ртом и коротким носом. – Я тут придумал, как укрепить еще дюжину лампочек посередине. Правда, придется повозиться.
–Придется, – сказал я. – Придется, может, и шею себе свернуть.
–Запросто, – сказал Джоркс, подымая глаза к потолку. – Здесь все насквозь прогнило.
–Что я и говорю, – сказал я. – Стоит ли бить тревогу из-за нескольких штук кирпича, когда вся крыша держится на пыли, прилипшей к паутине.
–Не беспокойтесь. Проводку я сделаю, – сказал Джоркс. – Я уже все обмозговал.
–Валяй, – сказал я. – И не давай им тебе мешать.
В итоге рабочие подперли стены и продолжили работы.
–Не стоило бы нам рисковать, мистер, – сказали они. – Эта часовня – сущая западня. Ну да ради доброго дела...
–Ради искусства, – сказал я.
–Нет, сэр. Но мы слышали, у вас контры с муниципалитетом.
–Муниципалитет приказал мне убираться.
–То-то и есть, сэр. Вот нам вроде как и неохота брать сторону муниципалитета против вас, сэр.
И они остались на всю ночь. Англичане до мозга костей.
Назавтра доски были прибиты, щель зашпаклевана, а крыша укреплена еще несколькими метрами провода. Конечно, какая-то мелочь продолжала сыпаться нам на головы, и Носатик все еще нервничал.
–Она может в любую минуту рухнуть, – сказал он. – Что тогда будет с вашей картиной?
– Вот-вот, Носатик, я как раз собирался поговорить с тобой о картине. Понимаешь, к субботе надо перенести на стену шестьсот эскизов и несколько дюжин картонов.
–К с-с-с...
–Да, к субботе.
–Почему к с-с-с...?
–Потому что нельзя терять ни минуты. Особенно если эта чертова часовня разваливается, что весьма похоже на правду, поскольку из нее уже сыпятся кирпичи. И в первую очередь мне нужна дюжина хороших помощников. Хорошо бы пригласить девчонок из художественного класса политехнической школы.
–Но ведь здесь опасно, – сказал Носатик. – Их м-может у-убить.
–Думаю, именно поэтому работа придется им по душе, – сказал я. – Во-первых, опасно; во-вторых, грязно и по шею в краске.
–В-третьих, служение искусству.
–В переговорах с учениками художественного класса я не стал бы напирать на эту сторону. Лучше говорить об опасности, грязи и краске.
И точно: еще до вечера двадцать пять девчонок и четверо мальчишек – весь класс в полном составе – предложили нам свои услуги. Я выбрал двенадцать не слишком хорошеньких. Мое правило: хочешь иметь хороших работниц – бери средних. Хорошенькие, может, и покладистее, но ленивы, а дурнушки хоть и прилежны, но чересчур въедливы.
В результате профессор застал нас в разгаре работы. Штукатуры и плотники доделывали нижний ряд лесов, мы с Носатиком, стоя на высоте тридцати пяти футов, расписывали верхнюю часть стены. Пятнадцатью футами ниже торчали на стремянках Джоркс и Набат. Вооруженные большими угольниками и отвесом, они намеряли на штукатурке квадраты, на которые десять девчонок и двое парнишек из художественного класса наносили рисунок с картонов. Коуки, которая всего несколько минут как вкатила коляску со своим привеском, покупками и шестью бутылками пива, подметала пол. Каждый день она сначала костила нас всех без разбору за то, что мы развели такую грязь, а потом с помощью веника и тряпки подымала отчаянную пылищу.
Шума тоже хватало. Джоркс пел, Набат насвистывал, девчонки фыркали-прыскали, трещали-верещали и бранились с мальчишками, которые кропили их краской. Трое штукатуров и плотники стучали молотками, переговариваясь, свистя и напевая. Носатик чихал, а я пытался урезонить Коуки, объясняя ей, что поднятая с пола пыль осядет на свежей краске. То есть орал во все горло. И должен сознаться – мне хотелось орать. Потому что работа на лесах всегда кружит мне голову. Неповторимое ощущение. Нечто среднее между тем, что чувствует ангел, выпущенный полетать в чистом небе, и пьяница, оставленный порезвиться в королевских погребах.
В конце концов, где в этом мире есть возвышение лучше подмостей живописца! Ни один адмирал, поднявшийся на мостик только что спущенного на воду боевого корабля, не испытывал такого наслаждения, как Галли, когда он, стоя на двух планках, поднятых на сорок футов над грязью повседневности, с палитрой и кистью в руке, на сквозняке, раздувающем его брюки, готовился приступить к боевым действиям.
Глава 41
Как раз в этот момент сквозь поднятую Коуки пыль, дым от трубки штукатура и пар от чайника я увидел профессора, пробиравшегося среди канатов, стояков, подставок и ведер. Его сопровождал сэр Уильям Бидер и еще с полдюжины других особ, в которых даже с верхотуры нельзя было не заметить признаков высочайшего достоинства. Как-то: туалеты с Бонд-стрит и интеллектуальное выражение лиц, выработанное в лучших частных школах.
По правде говоря, я с первого взгляда понял, кто они. Господа. Мой престиж. Который начал быстро возрастать с тех пор, как со смертью Хиксона мое имя попало в газеты. После операции с эскизом профессор, надо сказать, чуть ли не каждый день или писал мне, или звонил, надеясь обнаружить еще ранних Джимсонов или разжиться интересными деталями моей биографии. Потому что дела с «Жизнью и творчеством Галли Джимсона» были на мази. В Лондоне нашелся-таки издатель, обладающий достаточно высоким чувством общественного долга, чтобы согласиться увековечить мою гениальную личность при условии, что возможные убытки будут возмещены душеприказчиками Хиксона, рассчитывавшими сбыть еще нескольких ранних Джимсонов, и сэром Уильямом, который, как восходящая звезда среди коллекционеров, несомненно заслуживал, чтобы его имя дошло, или лучше сказать – снизошло, до грядущих поколений.
При виде столь пышной и влиятельной депутации я, по правде говоря, так воодушевился, что чуть не свалился с подмостей. Вот это да! – подумал я. – Вот это триумф! Возвращение к добрым старым временам. Ни дать ни взять, картина из «Панча» – «Посещение мастерской художника». Словно я уже на том свете! Эх, мне бы бархатную куртку и эспаньолку!
Я сразу возвысился в собственном мнении. В котором за последнюю неделю и без того уже сильно вырос. В значительной мере благодаря регулярному питанию – причем ел я самое лучшее, – но, должен признаться, и благодаря профессору. Когда тебя расписывают, пусть даже писатель, начинаешь поднимать нос. А профессор был как раз в хорошей форме. На свои пятьдесят гиней комиссионных он оделся во все новое, вплоть до носков, рубашек и пижам. И теперь прыгал новеньким с иголочки чижиком и чирикал на радостях. Он пел обо мне так сладко, что я стал куда менее критично относиться к собственным претензиям.Поэтому при виде профессора и господ, явившихся мне на выручку, я не столько удивился, сколько обрадовался. Мгновенный зуд, как при кори, ожег меня с головы до ног. И я сказал себе: «Что слава! Ты достиг большего – ты доволен собой! Пожалуй, теперь можно снять с себя теплую фуфайку, по крайней мере летом».
–Кто это? – спросил Носатик, принюхиваясь к процессии с собачьей подозрительностью.
–Мои поклонники, – сказал я небрежно. – Не обращай на них внимания. Занимайся делом. Посмотри, что ты натворил!
Потому что он рисовал киту нос совсем не там, где нужно.
–Что ты делаешь, Носатик? Взгляни-ка на эскиз, бестолочь!
–Но у кита лицо вовсе не на затылке.
–Нет, на затылке. У моего кита – на затылке. Только на затылке.
–Н-но мне его т-там никак н-не при-прилепить.
–Ах, Бог мой! В этом-то вся штука. Прилепи его, как ярлык на газовый счетчик. Иначе кит будет мертвым, ненастоящим. Он не будет жить. Будет просто картинка из книги о китах {55}55
Читатель найдет описание этой композиции в приложении к монографии «Жизнь и творчество Галли Джимсона», опубликованной в 1940 году, вскоре после кончины художника, горько оплаканного его почитателями. Однако, как справедливо замечает мистер Алебастр в своем блистающем эрудицией предисловии, мистер Джимсон завоевал прочное место в истории живописи главным образом произведениями раннего периода – такими, как первый вариант «Женщины в ванной». ( Прим. автора.)
[Закрыть].
Носатик не годился в подмастерья, потому что от великого энтузиазма все видел вкривь и водил кистью вкось.
–Вот что, Носатик, – сказал я, – возьми себя в руки. Успокойся. Нельзя писать в горячке, тут надо всерьез работать мозгами – думать о десятках вещей сразу. Думать глазами, пальцами, ушами, носом, животом, всеми имеющимися конечностями, всеми извилинами, какие остались у тебя после школы, даже кончиком языка. Многие первоклассные художники делают свои лучшие работы языком. А, Бог мой, только посмотрите, что он откалывает! – потому что Носатик накладывал на нос кита светлый тон. – Ты что, хочешь, чтобы этот пятак слез со стены?
–Я не могу его с-с-соскоблить.
–А и нельзя со-соскабливать. Во всяком случае, на стене нельзя. Краска потеряет свою специфику: масло растечется, а оно должно всасываться. Твоя чертова мазня будет блестеть, как Сарин нос, когда она жарит рыбу. Постарайся согласовать тона! Счастье, что ты не сделал еще светлее. Неужели ты не видишь, как у меня смотрится этот черный кливер?
Потому что, могу смело сказать, клюв приводил меня в восторг. Он был моей гордостью, моей радостью.
И я совсем забыл о моих поклонниках, пока, немного погодя, повернувшись, чтобы сплюнуть, не обнаружил их на линии огня. Зажатые среди строительного мусора, из которого они не знали, как выбраться, они стояли, задрав носы, с таким интеллектуальным видом и такими умильно-восхищенными улыбками, что только Носатик мог не понять, насколько мало они соображают, что вокруг них происходит и где они находятся. Мои мальчишки и девчонки разглядывали их с презрением и брезгливостью. Потому что в эту минуту чувствовали себя уже художниками. Даже штукатуры, народ вполне ручной и цивилизованный, смотрели на незваных гостей с презрением и брезгливостью. Потому что стенная роспись размером сорок пять на двадцать пять пробирает человека сильнее рентгеновских лучей. Она оказывает глубокое и зачастую непроходящее воздействие на расстоянии двадцати пяти ярдов. Одна моя ранняя роспись сделала из рыболова... гравера. Потом он зарезался. Не выдержал, кишка оказалась тонка. Слишком много риску. Не сумел пуститься во все тяжкие.
–Надо же! Вот принесла нелегкая! – сказал Носатик. – К-как раз, когда н-н-н-н-начинаем.
–Плесни на них краской, Носатик. – И Джоркс, стоящий под нами, заорал во всю глотку, обращаясь к Набату, находящемуся от него всего в десяти футах: – Эй, глянь, какое дерьмо пес на хвосте притащил!
А Набат, как человек начитанный, сказал:
–Филистимляне идут на нас, господа.
И девчонки засмеялись с таким ледяным презрением, что чайник Коукер покрылся сосульками.
Одна лишь Коуки, которая была в своем выходном костюме и, как кормящая мать, оставалась невосприимчивой к посторонним влияниям, повела себя как леди. Она подошла к титулованной своре и спросила, знают ли они, куда направляются.
–Это частная мастерская, – сказала она. – Кто позволил вам здесь шлендать?
Тогда Алебастр назвал себя и представил остальных. Коуки подошла к моей стремянке и проревела:
–Эй, мистер Джимсон! Слазьте-ка! Напьетесь чаю и потолкуете с этим людом. Они уверяют, что важные птицы.
–Попроси их подождать, Коуки, – сказал я. Потому что как раз писал старику лоб, и у меня неплохо получалось: лоснящийся розовый купол на фоне коричневой пещеры в скалах. Наружная часть пещеры, за спиной кита, продолжала розовое, но зигзагообразной линией, выделявшейся на фоне неба, чтобы выявить горизонт. Я уже почувствовал, что небо надо делать ровным, как крем. Не однотонным, а сгущающимся к верхнему краю, словно море на дешевых японских гравюрах.
–Попроси их убраться ко всем чертям, Коуки! – заорали хором Джоркс, Набат и девчонки. Заляпанные штукатуркой и забрызганные краской, они были похожи на покрытые разноцветной глазурью пасхальные пирожные. И чувствовали себя на седьмом небе от сознания, что понадобится не меньше недели, чтобы отмыть волосы и отскрести ногти; что они страдают за великое дело – стенную живопись.
–Пусть убираются! – вопили они.– Кто они такие? Грязь уличная.
Но гости были настоящие леди и джентльмены: их улыбки стали еще умильнее, а выражение лиц еще интеллектуальнее. Миловидная леди в первом ряду уже показывала красоты своему джентльмену – не то другу, не то мужу, не то герцогу, – тыкая пальчиком в спину ближайшего плотника и восклицая в экстазе:
–Ах, какой мазок! Восхитительно! Великолепно! Вот тут, тут, где переход в голубое! Сколько воздуха!
Я снова забыл о них. Но несколько минут спустя началась заваруха среди девчонок. Десятая за час. Меджи – мышка, крайняя слева,– вдруг запричитала:
–Ой, мистер Джимсон, сэр, пожалуйста, я больше не могу!
Джоркс, Набат и остальные, особенно девчонки, немедленно обрушились на нее с градом обвинений, насмешек и ругательств. Кто во что горазд. Девчонки готовы растерзать девчонок, у которых не клеится с работой.
–Держись! – крикнул я. – Держись, Меджи. Стой! Ни с места! Папочка уже идет к тебе.
И я на предельной скорости скатился с лестницы. Как раз вовремя, чтобы предупредить потоп.
–Ах, мистер Джимсон, сэр, я не понимаю, что здесь за чем. Все рассыпалось и никак не сходится. Кто-то здесь, наверно, напутал.
–Напутал, говоришь? Ну и что тут такого? Давай твой квадрат. Так, квадрат номер шесть – рыба с ногами. А где он на стене? Не вижу. Вижу – номер девять.
–Ой, мистер Джимсон! Какая я дура – повернула квадрат вниз головой!
И все мальчишки и девчонки заорали, яростно и возмущенно:
–Катись домой, Меджи!
–Вон раззяву!
–Зачем она сюда притащилась, недотепа! .
–Гоните ее в шею, дуру набитую!
Но от Меджи все это отскакивало, как от стенки горох. Влияние росписи, которая сделала ее неуязвимой. Как кормящую мать. Как Коуки. Напевая про себя, она стерла карандаш и стала наносить рисунок наново. На этот раз так, как надо.
–Спасибо, мистер Джимсон.
–Не за что, Меджи. С кем не случается? Сам Микеланджело, как известно из истории, не раз путал квадраты. Ведь цифры придумали арабы, а они ненавидят искусство.
Тут профессор тронул меня за рукав, чтобы привлечь внимание к княгине, герцогу и прочим. Они были такими богатыми, такими милыми и уже так запылились, что грешно было бы их не приласкать.
–Здравствуйте, – сказал я.– Здравствуйте, герцог. Добрый день, княгиня. Добрый день, мистер Смит.
–Мистер Элвин Смит – мультимиллионер, – шепнул мне профессор. И я еще раз пожал руку мистеру Смиту. Вторично. И одарил его знаменитой джимсоновской улыбкой. Специальный многотиражный выпуск.
–Мы тут любовались вашей изумительной картиной, – сказала княгиня. – Такой большой я еще не видела.
–Да, – сказал я. – Отдельные части даже больше других.
–А что она изображает? – сказал герцог. – Хотя боюсь, я задал неуместный вопрос.
Вопрос был действительно из тех, с какими поклонникам лучше не соваться. Но, к счастью для его светлости, я был настроен снисходительно и миролюбиво.
–Не стоит извинений, – сказал я. – Конечно, я не ожидал такого рода вопроса, но вам, как другу, готов дать любые пояснения.
–В таком случае, – сказала герцогиня, – мы все очень просим вас рассказать нам, что это значит.
–Это значит, герцогиня, – сказал я со всей присущей мне светскостью, достойной, по моему убеждению, директора Салона или покойного Чарлза Пииса на скамье подсудимых, – это значит, как ни жаль мне вас огорчать, что надо вставать в семь утра, чтобы не упустить ни одного луча дневного света. Но шутки в сторону! Картина такой величины – а она займет пространство в тысячу квадратных футов – потребует шестнадцать галлонов краски, дюжины три кистей, не говоря уже о лесах и стремянках стоимостью фунтов двадцать, – значит, уйму денег.








