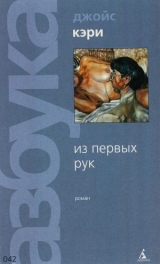
Текст книги "Из первых рук"
Автор книги: Джойс Кэри
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 28 страниц)
Глава 29
Сара все еще грохотала в погребе ведрами и щетками. Пыталась заглушить житейскими шумами голос совести – обычная чисто женская уловка. Но это навело меня на мысль. Раз она не слышит самое себя, вряд ли она услышит меня. И я тихонько вышел в коридор и толкнул первую дверь.
Но женщине совсем не обязательно слышать, что происходит в ее владениях. У нее есть шестое чувство, особый орган, пониже диафрагмы, засекающий любое вторжение с точностью до пяти миль, прикинься ты хоть братом, хоть сватом. Едва я приоткрыл дверь, как шварк – полетела щетка, дзынь – звякнуло ведро, и Сара собственной персоной взметнулась из погреба, как пламя при взрыве газа.
–Захотелось посмотреть квартиру, – сказал я. – У тебя здесь очень мило.
На самом деле в пыльной комнатушке не было никакой мебели, кроме плетеного кресла, новой тачки и какого-то подобия коврика на полу. И батарея бутылок.
–Гостиная?
–Была бы гостиная, – сказала Сара, вздыхая и сопя, – оставь они мне хоть коврик, хоть креслице.
–Какая славная фотография на камине. Симпатичная бабенка. Кто это?
–Это я. Эта фотография висела в гостиной у Фреда. Она всегда висела у меня в гостиной. У меня была другая такая же в серебряной рамке, но ту украли.
–В серебряной рамке? Той, что ты дала мне для твоей фотографии? По правде говоря, я взял ее назад, Сара. У меня вышли деньги, и я решил, что ты не обидишься.
Сара приняла это известие как положено старой женщине. Только поджала губы и наморщила лоб.
–Хорошо, что у меня было две карточки, – сказала она. – Ведь я снята здесь в подвенечном платье. В том самом, в котором венчалась с тобой. Верно, мне не следует говорить «венчалась». Но, Бог свидетель, я всегда того хотела.
–Теперь я вижу, что это ты, – сказал я. – Как это я сразу не узнал! Карточка немного потускнела – вот и все. Разве можно забыть твои формы? Какая у тебя была фигура! Да, ты была стопроцентной женщиной, Сэл. Даже по тем временам, когда женщины еще походили на женщин. Знаешь, я постараюсь вернуть тебе рамочку.
–Ладно уж, – сказала Сара, не веря моим обещаниям. – Главное – что карточка цела. Красивое было платье. Я потом еще долго хранила от него лоскутки. Как я его любила! Что и говорить, я была по уши влюблена в тебя.
–Или очень хотела выйти замуж.
Сара не стала возражать. Устала.
–Пожалуй, и это тоже, – сказала она. – Какой же женщине не хочется замуж? И вовсе не по той причине, на которую ты намекаешь. Мне не постель была нужна. Я хотела быть твоей женой.
–Чьей-нибудь женой.
–Ну и что? Дом без мужчины – все равно что чехол без кресла. Мне всегда нужен был кто-то, о ком заботиться. Это естественно.
–У тебя там что-то кипит, – сказал я, потому что уже успел оглядеть комнату и убедиться, что сундучка в ней нет.
Сара прислушалась.
–Ах ты, Господи! – сказала она и с неожиданным проворством выскочила из комнаты. Ей всегда было как нож острый, если у нее что-нибудь бежало. И пока она занималась кухней, я юркнул в соседнюю дверь. На этот раз я, без сомнения, попал в спальню. Сильно облезшая никелированная кровать с тремя отбитыми шишечками. Желтый шкаф весь в пузырях. Колченогий столик с оловянным тазом и голубым кувшином. Вытертая ковровая дорожка у камина. Картинки на стенах – рождественские приложения: «Вишневая ветвь», «Сочельник» – снег, почтальон и малютка с бантом, «Мадонна» Рафаэля. Супружеская атмосфера. Две помятые шляпные картонки на шкафу. Два сундучка под кроватью. Один – из крепкого дерева, окованный черными железными полосами. Сундук старого морского волка. Байлз. Другой – желтый, из гофрированной, как бумажная прокладка, жести. Кухаркин сундучок. Сара.
Мне ли не знать этот сундучок! Сара хранила в нем свои сокровища: старые ленты, лоскутки бархата, старые карточки, первые детские башмачки, маменькину Библию, сломанный веер, старый корсет («Какая талия была у меня в семнадцать лет!»), связки писем, счета из отелей (медовый месяц!), бальные программки и пожелтевшее белье. А на дне свадебная сорочка, в которой она хотела, чтобы ее похоронили. Последнее гнездо старой птицы. Разумеется, на замке. Сара всегда держала сундучок на замке. Но замок был типичным женским замком. Петли еле держались и порядком проржавели, а язычок готов отскочить при первом щелчке. У меня с собой всегда был про запас ломик, и в следующую секунду я уже приподымал крышку. Сверху лежала шаль. Под ней – розовое шелковое платье, какие носили в 1900 году. Дальше – два свернутых в трубку холста и папка с рисунками.
Я расправил холсты у стены. Первый – портрет Сары в зеленом платье, старом, довоенном платье с длинной юбкой. Наметка. Только руки и грудь выписаны, остальное не закончено. Но другой... Жемчужина! Первый этюд к «Женщине в ванной». И во многих отношениях лучше большой картины. Свежее, непосредственнее, куда больше живости и оригинальности в соотношении тонов. Больше остроты. Я так им залюбовался, что совсем забыл о Саре. Пока она не распахнула дверь за моей спиной и, увидев открытый сундучок, не вцепилась в холст. С минуту мы тянули его каждый к себе. Вдруг она отпустила свой конец, и картина упала на дорожку.
– Что же это, Галли? – сказала Сара.
Она видела ломик у меня в руках. Возможно, я даже замахнулся на нее. Но она не столько испугалась, сколько оскорбилась. И так взыграла, что, кажется, совсем запамятовала, что уже было записалась в старухи.
–Да ты никак убить меня собрался! – Схватившись рукой за бок, она прислонилась к спинке кровати. – Ах, Боже мой! Стара я уж! А ты... На кого ты похож! Шаришь в моем сундучке и тащишь мои вещи!
–Они не твои, Сара. Они мои. И нужны мне. Очень нужны.
Сара натужно вздохнула, словно у нее лопалось сердце. Но я-то знал, что сердце у нее не лопнет. Оно было для этого слишком мягкое. Но тут от ее охов заскрипела кровать или, может, корсет: И она сказала:
–Ты... Галли... с фомкой...
В ее настроении явно намечался перелом. Сара умела мгновенно перестраиваться. И я сказал:
–Разве это фомка? Просто ломик.
–Не вижу разницы.
–Огромная. Честный человек пользуется ломиком, а вор – фомкой.
–И ты еще можешь смеяться и шутить, когда чуть не убил меня?
Она сморщила щеки и выжала из глаз полторы слезинки. Половинку из заплывшего. Этого я не ожидал. Я сел на кровать рядом с ней и попытался обнять ее. Насколько хватило рук.
–Ну, Сара, старушка! Ну что случилось? Ты же знаешь – картины не твои, и нам обоим нужны деньги.
–Ах, Боже мой, во мне все оборвалось, когда я увидела, какими глазами ты на меня смотришь. Видно, хочешь загнать меня в гроб?
–Что ты? Зачем? Я хочу лишь загнать картину; двадцать фунтов тебе, кое-что мне. Как раз, чтобы провести недельку в Брайтоне.
Старушка скосила здоровый глаз на картину и снова сморщила щеки. Я испугался, что она опять пустит слезу. Но она воздержалась и, вздохнув, сказала:
–Может, ты возьмешь ту, Галли?
–В платье? Нет, Сара. За нее не дадут и пяти фунтов. Ее можешь оставить себе.
–Что ж, Галли, – и она по-старушечьи вздохнула, глубоко и умиротворенно. – У тебя на нее больше прав. Не стоит нам снова ссориться, в наши-то годы.
–А мы никогда и не ссорились, Сэл. Только расходились во мнениях.
–А ведь хороша я была, когда ты писал этот портрет. Ты тогда мною очень гордился.
–Да, ты была хороша. Взгляни на картину.
–Может, мы и ссорились... Но мы были молоды... Хорошо быть молодым.
–Мы и сейчас не так уж стары.
Она покачала головой:
–Ты и представить себе не можешь, какой старой я себя чувствую! До мозга костей.
–Ну-ну, Сэл, не унывай. – Я взглянул на ее заплывший глаз, вспомнил, сколько у нее напастей и как здраво она сейчас распорядилась картиной, и растрогался. И поцеловал. Но не попал в губы, потому что мы столкнулись носами. Со смерти Рози, то есть уже десять лет, я ни с кем не целовался и совсем забыл про это естественное препятствие. – Лучше тебя у меня никого не было, Сэл. И красивее. Утеха для глаз и всего прочего тоже. Красивая мы были пара.
Сара заулыбалась, и на ее щеках под красными прожилками выступил румянец... Она закачала головой.
–Да, Галли, ты всегда получал все, что хотел. А ведь, правда, у меня была неплохая фигура.
–И сейчас еще неплохая, – сказал я.
–Во всяком случае, не такая плохая, как ты думаешь, – сказала Сара, подарив меня таким взглядом, что я расхохотался. Был еще порох в пороховницах!
–Образец женщины.
–А ведь ты не видел, какая я была когда-то, Галли. Ведь я уже пятерых выкормила, когда ты стал писать меня. А когда я только пошла в служанки, талия у меня была девятнадцать дюймов.
–Эх ты, дурочка. Портить такие формы!
–Знаешь, на мой взгляд, ты сделал мне бедра чуть пышнее, чем они были. Я тебе и тогда говорила. Это не мои бедра, Галли. Они больше похожи на бедра Рози.
–Нет, это твои бедра, Сэл. Бедра всегда были твоим сильным местом. Жаль, что весь мир не мог любоваться такими бедрами.
–Они были неплохой формы, но ты сделал их слишком мощными.
–Бедра и должны быть мощными. Краеугольный камень всей постройки. Очаг в доме. Алтарь в церкви. Основа цивилизации. Средиземноморский бассейн. Ось, вокруг которой вращается мир.
–Голубой занавес хорош.
–Ты хочешь сказать, хорошо оттеняет некий треугольничек.
–Треугольничек? Ты хочешь сказать...
–Левую щечку.
–Ах ты, шалунишка, – сказала Сара, совсем уже оживившись. – Да и цвет кожи не совсем мой. Вряд ли я была такая розовая, разве что... если долго сидела на гальке.
–Чудесный цвет. Как у младенца.
–Да, кожа у меня была неплохая. Когда после первых родов я стала делать массаж, массажистка уверяла, что в жизни не видела такой кожи. Но ты удлинил мне подбородок, Галли. Я знаю, он чуть-чуть широк. Но, честное слово, ты сделал из меня злодейку из «Марии Мартин» {49}49
«Мария Мартин, или Убийство в красном амбаре» – популярная в Англии мелодрама, шедшая на сцене в XIX – начале XX века.
[Закрыть]
.
–Зато я подправил тебе нос.
–Удивительно, как белое пятнышко оттеняет это место. – И она показала носком туфли на грудь.
–Да, – подтвердил я. – Твоя левая – совершенство.
–Ну раз ты сам начал, так уж я скажу: для женщины, выкормившей пятерых, да еще таких сосунов, просто чудо, что грудь у меня не стала как старый кошель.
–И вот тут, от подмышки к соску, хорошо получилось. Превосходно. Какие холмики...
–И признайся, они были у меня тугие.
–Тугие. Как головки датского сыра.
–И на редкость белые.
–На редкость. Как взбитые сливки.
–Знаешь, Галли, нянька, бывало, глаз от них оторвать не могла, когда я кормила. Мне даже не по себе становилось. Она уверяла, что ни у кого не видела грудь такой красивой формы. А она-то их столько перевидала на своем веку! Сотнями. Как скотник кормовую свеклу.
–Взгляни на эту жилку. Какой мазок! Нет, черт возьми, чем-чем, а кистью я владел.
–Мистер Хиксон тоже так считает. Он говорит, что у тебя был удивительный дар и что ты только раз сумел использовать его до конца – когда написал мой портрет. Ничего лучше «Ванной» ты не написал.
–Ты хочешь сказать, ничего забористее.
–Если ты не написал бы ничего, кроме этой картины, ты все равно остался бы жить в веках. Это мистер Хиксон мне сказал.
–Если бы я ничего больше не написал, Сэл, лучше бы мне быть не художником, а фабрикантом губной помады.
–Никогда не забуду, с каким нетерпением ты срывал с меня платье, и я никогда не знала зачем – то ли положить меня на постель, то ли посадить перед мольбертом. Ты очень любил рисовать меня, Галли. Ведь правда?
Она стояла – циклоп с заплывшим глазом – и не могла налюбоваться на свое изображение. На щеках ее были следы слез.
–Ты, верно, каждый вечер глядишь не наглядишься на свой портрет, Сэл. Смотри-ка! Даже углы замусолила.
Она покачала головой:
–Я и думать о нем забыла.
–Ну-ну, Сэл. Ври, да знай меру.
–Раньше я, бывало, нет-нет да взгляну на него. Чтобы вспомнить счастливое времечко. Но с тех пор, как я живу здесь, – ни разу. Не до портрета мне.
–А сейчас ты приободрилась. Все из-за портрета. И у меня от него на душе веселей стало.
–Да уж что говорить. Тебе было чем полакомиться.
–Было, дай тебе Бог здоровья. Он наделил тебя всем, что положено женщине.
–И как я радовалась за тебя, Галли.
–И за многих других.
–Ну нет. Мне только с тобой было хорошо. И только с тобой я чувствовала себя королевой.
Старушка так распалилась, что я испугался, как бы она не дала задний ход.
–Мне, Сэл, пора, – сказал я. – У меня в час свидание с маклером. Послать тебе чек на двадцать фунтов или занести наличными? – И я наклонился, чтобы взять картину.
Но Сара тоже наклонилась и схватила ее с другого конца.
–Послушай, Сэл, – сказал я. – Не станешь же ты идти на попятную?
–Но, может, ты все-таки возьмешь ту? – сказала она.
–Нет, та не пойдет. На нее даже смотреть не станут. Будь умницей, Сэл. Ну какой тебе прок держать ее под замком в сундучке? Не такая же ты дура, чтобы отказаться от двадцати звонких монет, ради удовольствия любоваться собой – такой, какой ты была двадцать лет назад.
–А ты рассмотрел ту картину? Взгляни, как ты замечательно написал шелк. Право, она много лучше этой.
–Ах ты, старая грымза! Все еще не нагляделась на себя? Все еще в себя влюблена?
–Да нет же, Галли. Какое там! Мне так горько на нее смотреть, что я даже плачу.
–Скажи, есть на свете хоть что-нибудь, кроме собственной особы, что тебе дорого?
–Ах, Галли! Как ты можешь так говорить! Уж я ли не была тебе доброй женой и доброй матерью твоему Томми?
–А я и был частью тебя самой. И Томми тоже. Я был твоей грелкой в постели, а Томми – сердечными каплями.
–Я чуть не умерла, когда ты ушел от меня.
–Охотно верю. Все равно что лишиться левой ноги или передних зубов.
–Бог свидетель, Галли, ты всегда делал со мной все, что хотел. Ты разбил мне нос, а я вернулась
к тебе. Ты щипал меня и колол зад булавками, длинными булавками. А я терпела. Ты был жестоким мужем, Галли.
–А ты распутной бабой.
–Конечно, и я не без греха. Только не тебе называть меня распутной бабой. Если я и распутничала, как ты говоришь, так для твоего же удовольствия.
–Ты даже не хочешь вернуть мне мои же картины, когда они мне так нужны.
–Что бы ты ни говорил, Галли, а со мной ты был по-настоящему счастлив. Сам же не раз повторял, что счастливее тебя нет на свете.
–Ну-ну, Сэл. Заверни мне картину, и я пойду.
–А помнишь, как ты увивался вокруг меня в тот день, когда кончил писать эту картину?
Я взял картину, скатал ее и сунул под мышку.
–Нет, Галли, так нельзя. Ты помнешь ее! – вскрикнула Сара.
Она была готова разрыдаться над своим сокровищем. Мне стало жаль ее. Этот этюд, подумал я, лучший экспонат в музее старой плутовки. Святая святых храма. Она смотрит на него каждый день и повторяет: «Какая я была красотка, и как я пожила! Все мужчины за мной гонялись. И неудивительно!. Посмотри сюда, и сюда, и вот сюда». Да, старушке трудно примириться с такой утратой. И я ласково ущипнул Сару.
–Ах, Галли, пожалуйста, не попорть ее.
–Я? Испортить?
–Краски могут потрескаться. Дай я заверну ее как полагается, проложу газетой. Как я всегда делала. Нехорошо, если твоя чудесная картина потрескается.
–Моя картина или твой портрет? – Животики надорвешь над ее уловками.
Но я отдал ей картину, чтобы она завернула ее в бумагу. И хорошо, что отдал. Потому что пока она возилась с нею в спальне, в передней послышался топот Байлза. Счастье, что он не застал нас вдвоем. При виде меня он застыл, как вкопанный, и выпучил глаза. Пар в котле подымался. Сейчас заработают колеса.
–Так, – сказал он наконец и поднял кулак величиной с совок.
–С добрым утром, мистер Байлз, – сказал я. – Вот зашел проведать миссис Манди, старого друга нашей семьи.
–Так, – сказал Байлз, и колеса застучали.– Вон!
Сара сунула мне в руку сверток, и я поспешил удалиться.
Профессор заходил-таки ко мне утром, пока меня не было. Вынюхивал свой пай. И я уже было решил, не откладывая дела в долгий ящик, шагать в Кейпл-Мэншенз, чтобы сбыть товар, как вдруг мне пришла в голову благая мысль еще раз взглянуть на картину, чтобы определить, не лучше ли она смотрится на подрамнике. Любители вроде Бидера, да и маклеры тоже, зачастую неспособны оценить картину, если она снята с подрамника.
Я развернул сверток. Кроме четырех рулонов туалетной бумаги, тщательно упакованных в газету, в нем ничего не было. Я так обомлел, что не мог даже выругаться.
Тогда я, конечно, вспомнил, что Сара уходила за веревочкой перевязать пакет. И довольно долго отсутствовала. И я рассмеялся. Что мне еще оставалось? Не бросаться же к старой мошеннице, чтобы перерезать ей глотку. Даже мысль об этом приводила меня в неистовство. Наверно, потому, что Сара глубоко вошла в мою плоть и кровь. Я ее любил. А убивать близкого человека, даже мысленно, крайне опасно. Можно вывести из строя весь механизм. Застопорить мозги. И просто сорвать предохранительный клапан.
Я немного погулял по набережной. Подышал ветром. Полюбовался весенними деревьями на левом берегу, в лучах заходящего солнца. Словно языки пламени на латунном небе. Заляпанная солнцем латунь. А река как бренди.
Глава 30
На следующий день я снова отправился в Четфилд. С фомкой побольше. Я не сердился на Сару, но хотел покончить с этим делом. Однако как раз когда я производил рекогносцировку в районе парадной, мне было знамение – меня цапнула за ногу собачонка. Мне не впервой терпеть собачьи укусы. Собаки всегда кусают оборванцев. Не могу, однако, сказать, чтобы мне это нравилось. И когда я повернулся, чтобы пнуть собачонку, в двух шагах от себя я увидел Байлза, направлявшегося ко мне с вилами наперевес. Он долго гонялся за мной по площадке и, возможно, поймал бы, если бы не запыхался, поскольку не переставая объяснял, какую котлету он из меня сделает. В итоге он выбился из сил, и мне удалось юркнуть в соседний подъезд и скрыться в уборной. Я просидел там, пока не стемнело и можно было начать отступление. Принимая во внимание, что мне предстояло воплотить новый замысел «Грехопадения», я не решился подвергнуть себя риску. Это было бы преступлением.
Мне показалось неразумным ставить профессора в известность о том, что Сара провела меня, и я написал ему письмо, сообщив, что картина у моих агентов, где ее приводят в порядок. В тот же вечер я нанес визит сэру Уильяму, чтобы попросить его подождать; день-другой – и он получит свой шедевр.
–Какая жалость, – сказал профессор, встретив меня в холле. – Вы опоздали.
–Опоздал?
–Они уехали в Америку и вернутся месяца через три, не раньше.
–Ну и на здоровье, – сказал я. – За это время я подыщу раму. Полагаю, сэр Уильям не откажется выслать мне аванс в сто фунтов?
–Боюсь, – сказал профессор, – сэр Уильям захочет прежде взглянуть на картину.
–В таком случае, – сказал я, – я считаю себя вправе воспользоваться другими предложениями. Не сомневаюсь, что Хиксон даст мне большую цену.
Профессор не на шутку испугался и стал уверять меня, что сэр Уильям, если я соглашусь подождать, конечно же, заплатит больше Хиксона.
Профессор остался в квартире Бидеров на субботу и воскресенье. До понедельника, когда он уезжал погостить к старому другу в Девоншир, ему негде было жить. И есть ему было почти нечего. Бидеры все позапирали, кроме головки сыра и полкаравая черствого хлеба.
Сначала, когда я предложил составить ему компанию, профессор насупился. Однако, услышав, что я согласен взять на себя заботу о довольствии, стал гостеприимнее.
–Вы можете лечь на диване в студии, – сказал он. – Я сплю в гостиной.
–А почему не в постели сэра Уильяма?
–Белье заперто в шкафу.
–Ладно, – сказал я. – Перебедуем как-нибудь, пока хозяев нет дома.
Потом я научил профессора отдать в заклад зимнее пальто, а на вырученные деньги купил пива и бекона на двоих. Мы рассчитывали выкупить пальто, как только я получу за картину. Так мы и жили в стране Бьюлы на хлебе, сыре и беконе, а потом на хлебе, корках от сыра и беконе до понедельника. Когда старый друг профессора прибыл на «роллс-ройсе», чтобы забрать его в Девоншир. По-видимому, все друзья профессора охотно – когда это их устраивало – предоставляли ему всевозможные блага, за исключением одежды и денег.
Когда машина прибыла, я еще нежился в постели, и профессор не знал, как быть.
–Простите, мистер Джимсон, – сказал он, – но мне нужно запереть квартиру и сдать ключи в полицейский участок.
–Подумаешь, – сказал я. – Дайте сюда ключи, и я сам о них позабочусь. Невежливо заставлять друзей ждать.
И действительно, приятель Алебастра мерил шагами студию и с каждой минутой все больше накалялся от нетерпения. Потому что его ждала жена. А жена, насколько я мог судить, не слишком жаловала его друга, профессора. И отнюдь не была намерена долго ждать джентльмена с прорехами на заднице.
–Поехали, Алебастр, – торопил его приятель, поминутно входя и выходя. – Нам до ленча предстоит проделать немалый путь.
–Бидеры очень предусмотрительны,– сказал профессор, у которого от волнения голова шла кругом. – Они дали мне строжайшие инструкции. Здесь собрано много уникальных вещей, и они, естественно, беспокоятся об их сохранности.
–И правильно делают, – сказал я.– Скажите привратнику, чтоб не спускал глаз с входной двери. Скажите ему, что мистер Галли Джимсон берется передать ключи по назначению.
Профессор совершенно потерялся. Он укладывал в картонку свои пожитки: пару носков, запасной воротничок, черновые наброски к труду «Жизнь и творчество Галли Джимсона», зубную щетку и так далее и тому подобное, и, поминутно подбегая к двери, говорил: – Сейчас, сэр Реджиналд, – а потом мчался ко мне: – Так вы отдадите ключи сегодня же утром.
–По всей вероятности, – сказал я. – Все зависит от состояния моего желудка. В одном можете быть уверены – я жизни своей не пощажу, защищая квартиру, если понадобится. Я считаю это своей священной обязанностью. Не забудьте сказать привратнику, что я сам передам ему ключи.
–Сегодня же, – уточнил профессор.
Сэр Реджиналд издавал звуки, весьма похожие на те, которые испускает беговая лошадь, возжелавшая выиграть дерби еще до того, как дали старт.
Профессор продолжал пялиться на меня. Я отвечал ему тем же. Смотрел прямо в глаза, как положено человеку с чистой совестью.
–Может быть, мне лучше сказать в полиции, чтобы они сами зашли, – предложил он. – И вам будет спокойнее. Правда, мистер Джимсон, если полиция все возьмет на себя – меньше ответственности.
–Превосходная мысль, – сказал я. – Передайте им, что я позабочусь о ключах и присмотрю за тем, чтобы все было сделано честь по чести.
–Вы идете, Алебастр? – крикнул сэр Реджиналд из-за двери. – Я больше не в состоянии смотреть на картины вашего Бидера. Где он только набрал столько дряни!
–Иду, иду,– сказал профессор, впадая в панику. – Хорошо, мистер Джимсон. Я поставлю в известность привратника и полицию, а вы отнесете ключи в участок. И тогда у вас будет спокойно на душе.
–Вот спасибо, – сказал я. – Вы славный парень, профессор. Я действительно чувствую огромную ответственность. Мне очень понравились Бидеры, и я вполне разделяю их беспокойство о сохранности всех этих прелестных вещиц.
—Да, – сказал профессор. – Сейчас, сэр Реджиналд, сейчас. Вот ключи, мистер Джимсон. И пожалуйста, не забудьте, прежде чем запрете дверь, закрыть окна и включить сигнализацию.
–Положитесь на меня, – сказал я.
Сэр Реджиналд уже увлекал его, бедную тень, за собой.
Я позавтракал поздно. Хлебом и поскребышами. Выкурил трубку в стране Бьюлы. А потом, вскрыв обрывком стального провода бельевой шкаф, постелил себе на кровати мадам – здесь было мягче, чем на ложе сэра Уильяма.
Назавтра утром мы с привратником славно побеседовали за несколькими квартами пива в «Красном льве», и он был настолько любезен, что сам сходил в участок сообщить, что в настоящее время квартира оставлена под моим присмотром и что я взял на себя всю ответственность за сохранность находящегося в ней имущества.
А когда привратник узнал, что я человек с именем, он стал держаться со мной в высшей степени предупредительно. И если, паче чаянья, у меня начинали хлюпать ботинки, смотрел в другую сторону, как юная девица, когда у барона вдруг расстегнется ширинка. Он был крайне деликатен в обращении с великими людьми. И с пивом. Старая гвардия. Человек добрых традиций.
На следующее утро, заправившись хлебом с поскребышами на столе красного дерева, я снял семейные портреты в столовой, чтобы посмотреть, какая там стена. Я не забыл, что обещал сэру Уильяму расписать стену над шкапчиком. Тигры и орхидеи за сто гиней. Стена не оправдала моих ожиданий, и когда я набросал тигров куском угля, позаимствованным из запасов мадам, они не вписались в пространство. Стена оказалась слишком квадратной. Не стена, а задний двор. На нее просились куры и маргаритки.
Позднее в поисках стены я снял акварели в студии. И тут я сделал открытие. Хорошую стену картины только портят. Сколько раз я находил великолепный материал для росписи в самых неожиданных местах – например, за картинами старых мастеров. В студии была не стена, а жемчужина. Справа от двери, если войти из холла. Между двумя дверьми. И превосходно освещена отраженным от потолка светом. Всем стенам стена. На ее фоне оставшиеся картинки выглядели словно мушиные знаки. Я снял все до единой и сложил в ванной.
Хорошая стена, можно сказать, сама себе художник. И, любуясь ее превосходными пропорциями, я увидел, для чего она создана. Воскрешение Лазаря.
Не теряя ни минуты, я набросал «Воскрешение» в карандаше там, где оно было бы закрыто картинами. Получился параллелограмм по диагонали, от верхнего левого угла к нижнему правому. Могила Лазаря. Я уже видел ее, красно-желтую с бутылочно-зеленым Лазарем, словно ледяное изваяние, посредине; а вокруг – кактусы и тамариски; в верхнем углу – десятки охровых ног, а в нижнем треугольнике – лысые головы и мальчуган, разглядывающий красного жука на иссиня-зеленом листе. Но я загорелся ногами. Всем ногам ноги. В четыре раза больше натуральной величины. Оставалось только контур обвести. Я нашел у мадам очаровательный ящичек с красками и составил телесный тон. Это все потом смоется. Уж что-что, а ноги я сумею написать хорошо. Они звучали во мне, как музыка. Слева, на переднем плане, не меньше четырех футов в длину и двух в высоту, до лодыжки: две желтые ступни – узкие, жилистые, с кривыми ногтями; две черные – огромные, сильные, обвитые мускулами, как лианами; детские ножки – розовые, круглые, с ноготками как шлифованный коралл; разномастные ноги – одна толстая, мозолистая, с узловатыми пальцами, скрючившимися в пыли, другая – ссохшаяся, искривленная, приподнятая на носке, с пяткой, дюймов на шесть не доходящей до земли; ноги калеки, налитые решимостью и болью; еще пара – кофейного цвета, с повязкой, старушечьи ноги – плоские, длинные, упрямые, отчаявшиеся, с взбухшими, присосавшимися к земле, словно гусеницы, подушечками, с безжизненно смотрящими в небо ногтями; и наконец, ноги Спасителя – розовые, в золотых сандалиях, с полированными ногтями и зеленоватыми прожилками, с нетерпеливо приподнятым большим пальцем.
Когда часам к пяти я опустился на стул и окинул взглядом ноги, внутренний голос сказал мне: «Молодец! Молодец! Такое еще никому не удавалось. Ай да Галли Джимсон! Джи-и-джимсон! Может, ты и впрямь гений. Может, крысики не врут».
И такой шедевр в квартире Бидеров. Которые завесят его всякими зализанными картинками. Досточтимая миссис Чашка кисти Рейнолдса. Ваше здоровье, миледи! Чтобы вам ни дна, ни покрышки! Леди Недотрога кисти Гейнсборо. Одним дыханием! Сколько души в глазах, души большого ребенка. Молочко и укропная водица. Плоские пустышки. Пустышка на пустышке. Пустая лесть пустышкам.
Я перенесу эти ноги на холст, подумал я. И пошел на кухню вскипятить чайник и поесть хлеба с джемом. Леди Бидер оставила только жестяной чайник. Но в студии в горке стоял пузатик севрского фарфора. Чай из жестяного чайника? В стране Бьюлы такое не пойдет. И я заварил чай в севрском чайнике. Превосходный чай, хотя и не слишком крепкий. Хлеба оставалось всего два ломтика, и когда я расправился с ними, мне все еще хотелось есть. Я поковырял в замках буфета согнутым сардинным ключом. Два ящика подались. Но там не оказалось ничего, кроме парадных глубоких тарелок и разрозненных серебряных приборов.
И тут меня осенило. Почему бы мне не продать сэру Уильяму Лазаря вместо тигров? Ему это будет даже выгоднее. За свои сто или, скажем, сто пятьдесят гиней он приобретет замечательное произведение искусства, ценою в тысячи фунтов. А себе я всегда могу сделать копию на холсте.
А в счет уплаты я мог бы взять аванс. Единственным доступным, в данных обстоятельствах, образом. Черт возьми, размышлял я, любуясь ногами, ведь я сделаю его имя бессмертным. Я дам ему славу, которую он всю жизнь тщетно пытается купить. «Воскрешение Лазаря» кисти Галли Джимсона, кавалера ордена «За заслуги», из частного собрания сэра Уильяма Бидера. Люди будут глазеть на него на улице. Во всяком случае, торговцы картинами. Отдельные торговцы. И ждать, когда он отдаст Богу душу.
А пока я пошел и заложил севрский чайник и несколько серебряных ложечек. Дали две бумажки. Я заказал себе обед, какого не ел уже пять лет. Хватит жаться и экономить на Галли Джимсоне, кавалере ордена «За заслуги», сказал я. Хватит скрывать свой пуп от белого света. Пупом вперед! Нести, как знамя, как скорый поезд свои огни! Пф-пф. Секрет успеха. Обратитесь к профессору. Мой агент по рекламе. Официант! Тащи сюда другого Аристотеля. Этот уже набрался по горло. И вином и мясом.
Но с сэром Уильямом я решил вести честную игру. С меценатом надо обращаться хорошо. Пока он не нарушает слова. И не пытается надуть. Не требует, чтобы ему уступили шедевр ценою в десять тысяч фунтов за две сотенных бумажки и три короба дешевой лести. Я сложил залоговые квитанция в конверт и открыл на нем счет. «Воскрешение Лазаря» работы Галли Джимсона – сто семьдесят пять фунтов десять шиллингов; аванс – два фунта.
Назавтра я заказал все, что мне нужно: краски, кисти, подставки, планки, холсты, и принялся писать ноги. И конечно, когда дошло до деталей, сделать их оказалось совсем не так просто. Пришлось побегать в поисках модели. Первый же негр, которого я нанял позировать, ни к черту не годился. У него оказались на редкость нахальные ноги. Пришлось написать с них отдельный этюд.
–Где ты разжился такими лапами? – спросил я его, когда мы устроили перерыв на обед.
–Какими, извините, лапами, сэр? – Этакий скорбный, вежливый парень, шести футов росту и фута три в ширину, в злой чахотке.
–Нахальными.
–Не могу знать, сэр.
–Чем ты занимаешься?
–Стюардом я служил, сэр, на пароходе, сэр.
–Ну, тогда ясно.
–Не возьму в толк, о чем вы, сэр.
–Ну, если парню всю жизнь приходится таскать разным олухам жратву, где-нибудь его да прорвет, – сказал я. – Уверен, что если собрать всех официантов и разуть, ножки их такое выдадут, что у клиентов надолго отшибет аппетит.








