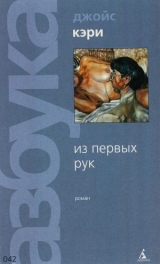
Текст книги "Из первых рук"
Автор книги: Джойс Кэри
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 28 страниц)
И он не разукрасил мне карточку, только чуть-чуть меня подтолкнул и сказал:
–Хотел бы я посмотреть...
–Для этого нужны глаза, – сказал я. – У того, другого, их не осталось, да и от лица осталось не много.
Тут он выпихнул мою сковородку с огня. Но я подумал: какой смысл заводиться? Потеряю обед. Да он уж и готов. Рыба разогрелась. Еще минута – и она пересохнет.
–Прошу за стол, – сказал я, неся сковородку в наш угол. И Плант вынул столовое серебро. Две вилки, нож и небольшой вертел. Вилка для профессора. Нож и вилка для Планта. Вертел и пальцы для меня. Пальцы куда лучше, чем вилки. Особенно для жареного картофеля.
Я быстро разделил лишнюю порцию рыбы и поджаренного хлеба; никто и не заметил, где что, так они зарумянились. Кому-то досталось два куска хлеба.
–Вкусно, профессор?
–Изумительно. Чудесно. Скажите мне, мистер Джимсон, спать здесь тоже можно?
–Иногда. После обеда. Блошиного обеда. Шесть пенсов за ночь.
–Право, стоит попробовать. Хотя бы на одну ночь.
–Все к вашим услугам, – сказал я. – За шесть пенсов.
–Я получил приглашение пожить у друзей, но мы перепутали числа. И я оказался свободен. Положа руку на сердце, я не жалею.
–Светские обязательства – страшная докука, – сказал я. – Но в нашем отеле берут деньги вперед.
–Вы, верно, не сможете простереть вашу любезность столь далеко, чтобы одолжить мне четыре пенса, – сказал профессор.
–Конечно, смогу. Из тех трехсот фунтов, которые вы раздобудете мне за «Грехопадение».
Мы с Плантом наскребли для него четыре пенса. И накормили завтраком. Затем он исчез; четыре пенса тоже.
–Ну, – сказал я спустя неделю, – я все же удивлен. Я подозревал, что профессор не совсем настоящий, но не думал, что этот сон прервется так быстро. Я ожидал, что он будет витать над моей подушкой достаточно долго, чтобы я мог отличить его от астмы.
Глава 22
И вот однажды утром я получил письмо, отправленное из Кейпл-Мэншенз. На хорошей плотной бумаге без бахромы по краям и крупного зерна; великолепная бумага.
«Многоуважаемый мистер Галли Джимсон!
В настоящее время я гощу у своих друзей сэра Уильяма и леди Бидер, известных знатоков и любителей искусства и поклонников вашего таланта, с которым они познакомились в доме мистера Хиксона.
Я не знаю, имеется ли сейчас в вашем распоряжения новая картина, но мне думается, что сэр Уильям был бы очень рад посмотреть ваши последние работы. Я бы сказал, что вкусы его более прогрессивны, чем вкусы мистера Хиксона; в его коллекции есть образцы всех современных направлений, включая работы символистов; если я не ошибаюсь, ваши фрески были в числе первых произведений этого направления. Сэр Уильям – богатый человек и щедрый покровитель всех искусств.
Не откажите в любезности сообщить мне, есть ли у вас какие-либо новые картины; в случае благоприятного ответа мы можем договориться о времени и месте встречи, удобных для обеих сторон. С глубоким уважением
А. В. Алебастр
А в конверте лежали четыре марки по пенни.
–Взгляните-ка, мистер Плант, – сказал я. – Что вы на это скажете?
–Он же нам говорил, что собирается погостить у друзей.
–Этого-то я и не могу понять. Смахивает на то, что он говорил правду.
–Мне понравился этот молодой человек, – сказал Плант. Он с каждым днем становился все больше похожим на самого себя. – Чувствуется, что он искренне любит искусство.
–Вот именно. Это меня и настораживает. Кейпл-Мэншенз. Это, кажется, в одном из богатых кварталов? Модерн с высокой квартирной платой.
–Сходите туда и повидайтесь с ним.
–Да, надо бы, – сказал я. – Но, представьте, вдруг профессор не врет и его друзья на самом деле могут дать мне деньги, настоящие деньги за настоящую картину. То есть за настоящего Джимсона.
–Почему бы и нет? – сказал Плант, скрещивая руки на груди и свирепо глядя на низенького старикашку шагах в десяти от нас, который так же далек был от мысли стащить у нас сковородку, как от мысли умыться. – Почему бы им не купить одну из ваших картин? Я согласен с этим молодым человеком. Вы слишком низкого мнения о себе, мистер Джимсон.
–Для нас важно не то, какого мнения о себе я, для нас важно, какого мнения о себе этот Бидер. Считает он себя умней всех прочих миллионеров? Ведь они покупают картину, только если маклер заверит их, что через неделю цена возрастет. А если считает, то какой породы этот умник?
И я ушел. Я любил старого Планта, но уж больно он старался меня ободрить. Словно думал, что я вот-вот повешусь или прыгну в воду.
Мне надо было подумать. Я видел, что это могло по-новому повернуть мою жизнь. Или нет. Тысячи фунтов, думал я, даже, скажем, пятидесяти хватило бы мне до конца моих дней. Я смог бы найти мастерскую, хорошую мастерскую, со стеной и целой крышей. Даже двадцать фунтов помогли бы мне стать на ноги. Конечно, думал я, вряд ли что-нибудь из этого выйдет. За пятнадцать лет я не продал ни одной картины, и последний заказ – от той старухи из Энкума – получил потому лишь, что она была малость чокнутая. Разве иначе она поручила бы мне эту работу? А что до профессора, он порой и не врет, да это-то и худо. Куда проще иметь дело с завзятым лгуном. А когда тебе выдают вперемежку ложь и правду, нельзя верить ни единому слову. И все же, думал я, пусть десять фунтов, и я снова смогу писать.
Поэтому я последовал совету Планта, почистил ботинки старой газетой и отправился в Кейпл-Мэншенз. Великолепное новое здание солидных размеров, точно сложенное из детских кубиков, великолепный старый швейцар солидных размеров, в стиле королевы Виктории. Все как полагается. Он без промедления выставил меня за дверь. Так и полагается. И мне долго пришлось его убеждать, что я пришел по приглашению. Наконец он позвонил в квартиру Бидеров. Сам профессор спустился вниз, чтобы встретить меня и принести извинения. Как и полагается. Услышав, что я знаменитый художник, швейцар тоже извинился передо мной.
–О чем тут говорить, – сказал я. – Вы выполняли свой долг. Я передам сэру Уильяму, что вы человек надежный. Если даже за деньги нельзя было бы купить преданность, до чего бы мы докатились в конце концов. Вы в какую пивную ходите?
–Простите, сэр? А-а! Иногда я заглядываю в «Красный лев», здесь за углом.
–Я зайду и выпью с вами за ваше здоровье.
–Я освобожусь не раньше двенадцати.
–Ничего, я подожду. Мое слово свято.
Профессор нервничал, и я подумал, не потерял ли он еще несколько пуговиц от штанов. У него был такой вид, словно он боялся, как бы они вдруг не свалились. Вместе с тем он выглядел еще более чистеньким, чем раньше, и у него было еще больше помады на волосах.
–Вы как раз вовремя мне написали, – сказал я. – Я только что завершил лучшую из своих картин. Осталось доделать самую малость. Очень крупная работа. Девять на двенадцать. За ней уже охотятся.
Закупочная комиссия Чантри {33}33
Комиссия Чантри – группа художников и искусствоведов, отбирающих и закупающих картины для государственных картинных галерей.
[Закрыть]оторвала бы ее у меня с руками для государственной галереи. Но я всегда считал, что следует поощрять истинных покровителей искусства, щедрых и великодушных людей. Таких, к примеру, как сэр Уильям. Особенно если они миллионеры. Художники в долгу у миллионеров, и выплатить этот долг можно только звонкой монетой. Ведь само собой – сэр Уильям вернет свои денежки с лихвой, как только я окочурюсь, а может, и раньше.
–Каков сюжет вашей картины? О, разумеется, мне не следовало бы об этом спрашивать. Но мне хотелось бы знать хотя бы в общих чертах.
–Мясо, – сказал я, уверенный, что профессору вряд ли придется по вкусу сюжет «Грехопадения». – Человечье мясо в соответствующих позах, с гарниром из овощей. Цена – тысяча... гиней. Без рамы. Еще за сотню могу оправить ее в прекрасную раму ручной работы. Сотню гиней, конечно, или, скажем, сто десять фунтов. С гарантией, что это не подделка.
–Это не та картина, которая называется «Грехопадение»? – спросил профессор.
–Разумеется, нет, – сказал я.
–Я знаю, что сэру Уильяму хотелось бы иметь одну из ваших великолепных картин с обнаженной натурой.
–Я и говорю об обнаженной натуре.
–Но... тогда, если я не ошибаюсь, это одна из ваших последних работ в стиле Гогена.
–Гогена! Кто такой Гоген? Тот французский художник, что ли, который малевал кукол с зелеными глазами на фоне жестяного ландшафта? Я не мог бы писать в его стиле, даже если бы вступил в секту
Плимутских братьев, заболел чесоткой и пятнадцать лет подряд расписывал вывески для кабаков... Сколько мы еще будем подниматься?
– Бидеры живут на верхнем этаже. Самые лучшие апартаменты, прекрасный вид.
Но я успокоился, только попав в квартиру. К счастью, Бидеры ушли в гости и я мог без помехи все осмотреть. Настоящий холл, большая студия с внутренней галереей, за ней маленькая столовая, две спальни и хромированная ванная. Как водится, персидские ковры, старинная мебель, вазы, мраморные бюсты, африканские божки, американские мобили {34}34
Мобили – один из видов абстрактной скульптуры, причудливые по форме подвесные конструкции из тонких металлических полос и других легких материалов, движущихся под действием токов воздуха.
[Закрыть], статуэтки из Танагры и пепельницы горного хрусталя. Портреты кисти старых мастеров в столовой, современные картины маслом в студии, рисунки в спальне, акварели в холле. Обычная честная компания. Уилсон Стир {35}35
Стир Филип Уилсон (1860—1942) – английский художник-импрессионист.
[Закрыть]– вода в водянистом колорите; Мэтью Смит {36}36
Смит Мэтью (1879—1959) – английский художник-модернист, последователь Матисса.
[Закрыть]– убийство в кровавом колорите; Утрилло – беленая стена в известковом колорите; Матисс – одалиска в знойном колорите; Пикассо – конь на вертеле в огненном колорите; Гилберт Спенсер {37}37
Спенсер Гилберт (1892—1979) – английский художник, пейзажист и портретист.
[Закрыть]– птичий двор в задумчивом колорите; Стенли Спенсер – цветник перед домиком в многоцветном колорите; Брак – полбутылки портера в пивном колорите; Уильям Роберте {38}38
Роберте Уильям (1895—1980) – английский художник-модернист.
[Закрыть]– послеобеденный отдых в дремотном колорите; Уодсворт {39}39
Уодсворт Эдвард (1899-1949) – английский художник-кубист. Известен абстрактно-сюрреалистическими морскими пейзажами.
[Закрыть]– волны, скалы и рыбаки-бахвалы в морском колорите; Дункан Грант {40}40
Грант Дункан (1885—1978) – шотландский художник-модернист.
[Закрыть]– скирда в соломенном колорите; Фрэнсис Ходжкинс {41}41
Ходжкинс Фрэнсис (1870-1947) – новозеландская художница-самоучка.
[Закрыть]– поросята, телята и прочие «ята» в хрю-блеющем колорите; Руо {42}42
Руо Жорж (1871-1958) – французский художник-экспрессионист.
[Закрыть]– гибель святого мученика в стенальном колорите; Эпстайн – Лия в ожидании Иакова в верносупружеском колорите. Все самые что ни на есть модные и дорогие.
–Я вижу, ваши друзья – богатые люди, – сказал я, – то есть любезные и очаровательные люди. Я уже очень их люблю.
И я осмотрел спальни. Шелковые подштанники в бельевом шкафу сэра Уильяма. Только шелковые. Стопки батистовых носовых платков. Белых как снег.
–Он, верно, из тех людей, которые каждый день берут свежий носовой платок, – сказал я.
–Сэр Уильям одевается очень просто, – сказал профессор.
Все это время профессор парил надо мной, как ангел-хранитель, на случай, если какая-нибудь гадкая мелочишка вдруг прыгнет ко мне в карман и укусит меня за руку в темноте.
–Пожалуй, нам пора идти, – сказал он.
–Куда? – сказал я.
–Смотреть вашу картину.
–Что вы, – сказал я, – у нас куча времени. К тому же я хотел бы познакомиться с сэром Уильямом.
–Боюсь, он не скоро вернется.
–Когда же вы его ждете?
–Не раньше обеда.
–Это мне вполне подходит. Меня сегодня никуда не приглашали.
–О, но вполне возможно, он вернется еще гораздо позднее.
–Например?
—Часам к двенадцати.
–Экая досада, я договорился с архиепископом Кентерберийским, что к ужину буду дома, если он вдруг заглянет. Но сэр Уильям прежде всего. Я ни за что не обману ожидания миллионера, когда это от меня зависит. Даже если мне придется ночевать на диване.
Профессор выглядел так, словно с него падали не только брюки, но и кальсоны. Я отвел его в студию, усадил в кресло, угостил сигаретой сэра Уильяма.
–Да, моя вера в Бидеров все растет. Живут в студии, покупают картины. А художников они любят?
–Они весьма интересуются художественными произведениями.
–Я спросил, любят ли они художников. Умытых, конечно.
–Да, они принимают у себя художников.
–Больше одного раза?
–Леди Бидер сама рисует.
–Это уже хуже.
–И вовсе не плохо. Конечно, для дилетанта.
И мы погрузились в раздумье.
–Еще бы, – сказал я, – при их-то деньгах!
–Право, некоторые ее акварели очень милы. Конечно, манера традиционна.
–Еще бы, при их-то деньгах. Лучшие советы. Лучшая бумага и краски.
Профессор умоляюще взглянул на меня.
–Бидеры – мои очень старые друзья. Особенно Флора, то есть леди Бидер.
–Еще бы, – сказал я, – при их-то деньгах! Держитесь за них, старина. Прижмите их к своей груди. Вцепитесь в них мертвой хваткой... или хоть воровской ухваткой. Но и вы, верно, им полезны. Леди советуется с вами насчет своих рисунков.
–Она очень способная ученица.
–Послушайте, профессор, – сказал я. – Знаете, что нам с вами надо? Давайте состряпаем «Жизнь и творчество леди Флоры Бидер». За пять сотен фунтов наличными. По двести пятьдесят на нос.
–Не леди Флора Бидер, а просто леди Бидер.
–Как вам угодно. Знаки препинания расставлять будете вы. На себя беру всю работу. Ну как, по рукам?
–Вы серьезно? – Профессор был изумлен.
–Конечно, серьезно. С деньгами не шутят. Взгляните на мои ботинки.
–Но, мистер Джимсон, кто захочет издавать «Жизнь и творчество леди Бидер»? Ни один издатель, ни один уважающий себя издатель не возьмется за это.
–Тогда мы поищем издателя другого рода. Соглашайтесь, профессор. У вас просто бедное воображение. Дело есть дело. И в этом деле мы заодно. Вы же хотели написать «Жизнь и творчество Галли Джимсона»?
–Вы сравниваете леди Бидер с собой? Как она ни одарена, она вряд ли...
–Никто не заметит разницы. Конечно, если все будет на должном уровне. Лучшая бумага, много цветных репродукций, золотой обрез и вступительная статья президента чего бишь там или профессора изящных искусств. Но издержки не наша забота. У нее финансов хватит. Черт подери, профессор, за пять сотен монет мы занесем ее имя на скрижали славы. Мы вознесем ее на подмостки вечности... на год или на два. Конечно, когда кто-нибудь попробует повесить на нее шляпу или зонтик, он обнаружит пустоту. Но будет уже поздно. Она будет выставлена во всех лучших музеях, и единственное, что останется директорам, – это поместить ее на солнце, или над вентилятором, или там, где на нее может попасть дождь, или отправить вместе с Тёрнером в запасник Тэйта, а там, глядишь, снова произойдет наводнение, и ее хорошенько промоет грязной водой, настоянной на дохлых псах. Но и тогда наша леди будет в самом избранном обществе.
–Мой дорогой мистер Джимсон, это невозможно.
–Ясно. Игра не по правилам. Тогда давайте устроим ей выставку; пусть она купит половину своих картин, и мы нацепим ярлычки «продано» и поместим в газетах несколько критических обзоров насчет английских традиций в искусстве, преимуществе вечных ценностей перед показным блеском, благоговейном подходе к природе и так далее и тому подобное. Уж если это игра не по правилам!..
Но профессор решил, что я шучу. Никакого воображения. Вот уж не артистическая натура. И мне пришло в голову: а вдруг он на самом деле честный игрок? Никаких подножек и ударов из-за угла. Образцовое произведение Создателя.
–А я-то думал, мы с вами создадим компанию, чтобы раздобыть деньжат, – сказал я.
–Как можно, – сказал профессор, – служить мамоне и искусству одновременно?
–Очень даже можно, – сказал я. – Не будь мамоны, не было бы и искусства. От звонкой монеты к культуре. Таков обычный путь. В чем разница, по-вашему, между Бобом, который любит швырять в картины камни, и Носатиком Барбоном, который пройдет десять миль, лишь бы повстречаться с плохим художником? В двухстах фунтах платы за учение, которые ежемесячно тратит на него государство за счет военных репараций. История цивилизации записана в гроссбухе. Кто самые просвещенные люди на свете? Богачи. Какая нация самая христианская? Та, у которой больше всего денег.
Профессор был шокирован.
–Вы шутите, мистер Джимсон. Вряд ли вам понравилось бы, если бы я поместил эти высказывания в вашей биографии.
–Надеюсь, вы это сделаете, – сказал я. – Не то я сделаю это сам. Чего мне надо? Всего самого лучшего для всех. А это стоит миллионы. Дорога в ад вымощена благими намерениями, но в раю предпочитают более надежный материал. Золото. Сапфиры. Мы хотим построить Царство Божье на земле, а на это требуется куча денег. Умная голова дороже, чем королевская булава! Еще бы! Нужны сотни лет обработки, то бишь образования, чтобы выпустить это изделие, да и тогда еще нет полной гарантии в успехе. У нас не хватает денег для необходимых опытов, не говоря уж о ремонте лаборатории. А самая дорогостоящая вещь – труд гения.
–Большинство известных французских импрессионистов были бедняки. Им платили за их картины гроши. А те, что помельче, просто умирали с голоду.
–Французские импрессионисты жили в стране, где правительство тратило миллионы на поощрение искусства. Правда, когда там появлялись настоящие художники, их обливали грязью и кое-кого даже заморили до смерти. Но смешно требовать от правительства, чтобы оно разбиралось в живописи: бита не видит ничего, кроме мяча, так уж она устроена. Но кое-что правительство делает: оно поощряет плохих художников самых различных толков, – а к чему это ведет? К тому, что появляется много людей, которые норовят украсть у кого-нибудь свежую мысль, и те, у кого они крадут, и есть настоящие художники. Вот и создается атмосфера, благоприятная для развития настоящего искусства.
–Но ведь постимпрессионистов подвергли осмеянию даже в самой Франции.
–Я же не говорю, что настоящих художников поощряют, пока они живы. Это невозможно. Я сказал только, что создается атмосфера, благоприятная для развития настоящего искусства... после их смерти. Когда Ван-Гог заканчивал свои шедевры, умники начинали восхищаться Мане. Это должно было служить поощрением для Ван-Гога... если бы он в нем нуждался. А когда Ван-Гог отдал Богу душу и кости его истлели, а картины покупались по тысяче гиней за штуку для государственных картинных галерей, чтобы студентам было с кого срисовывать, над Матиссом, и Пикассо, и Браком потешались все кому не лень, – но разве им не приятно было знать, что Ван-Гога, не меньшего безумца, чем они сами, так высоко ценят во всех лучших гостиных? Разве это не поощряло их? Я вот что хочу сказать, – сказал я. – Если правительству нужно, чтобы в стране было настоящее искусство, Искусство с большой буквы, ему требуется только нанять кучу крикетоведов, профессоров и прочих грязных писак, чтобы они кидали мячи на крикетном поле искусства на глазах у невинных детей и учили их рисовать так скверно, чтобы даже родные матери устыдились за них и стали умолять своих отпрысков заняться каким-нибудь более почетным делом, например печатанием фальшивых ассигнаций или продажей белых рабов. Но мольбы их останутся втуне. И половина детей уподобится Ироду, пожираемому червями, а вторая половина – Иову, пораженному проказой. Первые будут рыскать повсюду в поисках затычки для своего зада, а вторые – ползать на четвереньках в поисках уголка, где бы им упокоить свои бренные кости. И вот наконец они сойдутся на кладбище и, пустив в ход когти и зубы, выроют из могилы какого-нибудь горемыку и скажут: «Зрите! Вот гений, которого правительство уморило с голоду!» Возможно, так оно и есть. Или нет. Кто не ошибается? Всем нам свойственно ошибаться. Даже поколению, пожираемому червями за счет правительства. Но если не истратить миллионов, у нас и ошибок не будет... Ничего не будет. Разве только доты и надолбы политической экономии – следы позавчерашней или послезавтрашней войны.
И тут вернулись Бидеры. Сэр Уильям и леди. Сэр – большой, лысый, с обезьяньей шерстью на тыльной стороне рук. Голос – грохот ломовой телеги на мосту. Обольстительные манеры. Легкий поклон. Сияющая улыбка. Леди – высокая, стройная, глаза испанки, смуглая кожа, точеный нос. Руки – Эль Греко. Вещица для знатока. Я бы написал эти руки, подумал я, хотя к плечу они, пожалуй, худоваты; вот голова и торс из одного куска. Я бы взял и то и другое.
Леди Бидер была еще обольстительнее, чем ее муж.
– Мистер Галли Джимсон? Я так рада. Я знаю, вы редко наносите визиты. Мы не осмеливались и просить вас... могли лишь мечтать...
И она пригласила меня остаться к чаю. Такие люди могут себе это позволить. Им ведь ничего не стоит отдать диванные подушки в чистку.
Что я обожаю в богачах, так это их любвеобилие и непринужденность. Христианская атмосфера. Телемская обитель. Всем поделятся, потому что всего по горло. Все простят, потому что это им не стоит труда. Разбейте их дрезденскую чашку – они лишь улыбнутся. Только бы вы не смешались и не испортили всем настроения. Это единственное, что их волнует. Покой и радость. Мир на земле. В человецех благоволение.
Когда я впервые встретил Хиксона, я был готов целовать его несравненные ботинки. Я любил их от шнурков до каблука – настоящее произведение искусства; и он был так полон благоволения, оно прямо струилось из него, как запах его мыла, свежего белья, помады для волос, эликсира для зубов, лосьона для бритья, примочки для глаз и микстуры от запора. Мерцание светлячка. Манящего куда-то. Пока он не сгорит, бедняжка. Вспышка в темноте. Ведь богачам, понятно, не так-то просто выбраться из рая через игольное ушко. А провести всю жизнь в раю малость скучновато. Миллионеры достойны не только нашей любви, но и жалости. Будем же с ними учтивы. Это наш христианский долг.
Когда леди Бидер спросила, по вкусу ли мне чай, я ответил:
– Да, ваша милость. Мне все здесь по вкусу. Я в восторге. Вам придется спустить меня с лестницы, чтобы избавиться от меня. Вы и сэр Уильям – милейшие люди. У вас восхитительные манеры и восхитительный дом, восхитительные вещи и превосходный чай. Небось шиллинга четыре фунт? И это – даром. Гениальное не имеет цены.
Профессор беспрестанно покашливал и делал мне страшные глаза, но я не боюсь смутить благовоспитанных людей. Они привыкли к бестактным замечаниям. Богачи подобны королям. Они не могут позволить себе обижаться. Richesse oblige {43}43
Богатство обязывает ( фр.). Перефразировка известного выражения «noblesse oblige» (знатность обязывает).
[Закрыть]. И они действительно старались, чтобы я чувствовал себя как дома, и не переставали осыпать меня комплиментами. А когда я рассказал, как Коукеры выставили меня из моей мастерской, они воскликнули, что надеются, я составлю профессору компанию и проведу у них конец недели, пока они будут в отъезде.
–К сожалению, мы не можем предложить вам остаться у нас подольше: у нас всего две спальни.
–Меня вполне устроит диван.
–О, мистер Джимсон, как можно! Вам будет неудобно.
–Тогда сделаем так: сэр Уильям будет спать вместе с профессором, а я – с ее милостью. Вы можете смотреть на меня как на женщину, в мои шестьдесят восемь.
Алебастр позеленел и так раскашлялся, словно он подхватил чахотку. Но я знал – смутить таких высококультурных людей невозможно. Они забывают, что такое смущение еще раньше, чем успеют кончить школу... заодно с верой в Бога и прочими скоропостижными чувствами.
–Неплохая мысль,– сказал сэр Уильям со смехом.
–Я весьма польщена, – сказала леди, – но боюсь, я помешаю вам спать. Я сплю очень беспокойно.
–Дорогая, – сказал, поднимаясь, сэр Уильям,– быть может, мистеру Джимсону будет интересно взглянуть на твои акварели?
–О, Билл, прошу тебя, не надо.
–Почему же, Флора? Твой последний этюд очень и очень недурен... Я, конечно, не ставлю его в ряд с картинами профессионалов. Но как непосредственное впечатление...
–Нет, нет,– сказала ее милость. – Мистер Джимсон будет смеяться над моими жалкими попытками.
Но, конечно же, им обоим хотелось, чтобы я посмотрел ее работу и сказал, что она изумительна.
И почему бы нет? Они были так добры ко мне, так милы.
–Что вы, – сказал я, – у дилетантов встречаются преинтересные вещи.
Профессор подпрыгивал, как горошина на сковородке. Он кашлял, гримасничал, стараясь внушить мне: «Будьте тактичны, будьте осторожны, эти люди во всем привыкли к высшим расценкам».
Но я засмеялся и сказал:
–Не волнуйтесь, профессор. Я не собираюсь водить ее милость за нос. У меня и в мыслях этого нет. Я слишком восхищаюсь ее прелестным носиком.
Сэр Уильям достал мольберт и большую папку красного сафьяна с золотой монограммой. Он вынул оттуда двойной лист великолепного бристольского картона превосходных пропорций с миленькой маленькой картинкой посредине. Небо с облаками, трава с деревьями, вода с бликами, коровы с рогами, домик с дымом и работник с вилами, в синей блузе и шляпе.
–Очаровательно, – сказал я, попыхивая сигарой. – Не хватает только названия. Как бы ее назвать? «Пора ужинать». Сразу видно, этот малый проголодался.
–Мне кажется, небо вышло не так уж дурно, – сказала она. – Я просто положила краску и больше не трогала.
–Правильно, – сказал я. – Главное – не переборщить. Покупайте краски первого сорта, и они сами сделают все, что нужно. Прелестно!
–Очень рада, что вам нравится, – сказала леди. Она была так мила, что я подумал: а не сказать ли ей все-таки кое-что?
–Конечно, – продолжал я, – небо чуть-чуть неожиданно, чуть-чуть случайно, словно кошка пролила молоко.
–Кажется, я понимаю, – сказала ее милость.
–Но право, мистер Джимсон, – вступился сэр Уильям. – В Дорсете небо именно такое. Это типичное дорсетское небо.
Профессор так яростно подмигивал мне, что лицо его стало похоже на концертино с дыркой. Но я не внял. Дилетантам можно говорить что угодно – они и ухом не поведут. Разве что подумают: «У всех этих художников такие допотопные вкусы. Завистливые ископаемые. Им нравится только то, что они делают сами, вся эта надуманная абракадабра, в которой нет ни правды, ни чувства природы».
–Да, – подтвердил я, – типичное небо. Типичное случайное небо. Это я и хочу сказать. Что мы здесь видим? Пустоту... мило брошенную на превосходный ватман дорогой кисточкой из верблюжьего волоса.
–Кажется, я понимаю, что вы имеете в виду, – сказала ее милость. – Да, да, понимаю... Чрезвычайно интересно.
И она сделала сэру Уильяму знак левой бровью; он тут же замолчал и быстро убрал картон, словно кадр сменился в кинофильме. А на его месте – хлоп! – уже лежал другой. Славненькая вещица: облака с небом, деревья с травой, река с мокрой водой, барка с мачтой, лошадь с хвостом и человек со спиной.
–Вот это прелестно, – сказал я. – Бесподобно! В манере де Виндта. Поглядите только на зигзаг мачты в воде. Какая техника!
–Жена специально изучала технику акварели, – сказал сэр Уильям. – Там очень сложные приемы.
–Ужасно сложные, – сказал я. – Но ее милость вполне ими овладела. Теперь остается одно – забыть их.
–Кажется, я понимаю, что имеет в виду мистер Джимсон, – сказала леди. – Да, в техницизме таится опасность...
И она так ласково взглянула на меня, что я готов был расцеловать ее тут же на месте. Настоящая леди. Сколько снисходительности к мерзкому, грязному старикашке, при всем его невежестве и предрассудках.
–Вот-вот, – сказал я. – Тут нам и аминь. Посмотрите на меня. Один из искуснейших художников мира. У кого еще была такая техника? Разве что у Рубенса в его лучшие времена. Я бы мог показать вам написанный мною глаз... женский глаз, который побьет все, что создал Рубенс. Маленькое чудо, сотворенное кистью! И если бы мне не повезло, я провел бы всю жизнь за подобными фокусами. На радость миллионерам и крысикам. Но я спасся. Как – одному Богу известно. Выпал из трамвая. Потерял билет и добродетель. Вы не поверите, ваша милость: почти все, что я сделал за последнее время, технически немногим лучше экзерсисов любой девицы после шести уроков в хорошей школе. Дикая, несуразная мазня. Разница в том, что моя мазня – о чем-то, это результат опыта, а делать то, что делают дилетанты... все равно, что высвистывать задом «Энни Лорри» {44}44
Песенка, популярная в Англии в 1930-е годы.
[Закрыть]сквозь замочную скважину. Может, это и требует техники, – но стоит ли оно труда? Я к тому веду, ваша милость, почему бы не заняться настоящим делом? Пошевелить мозгами, я хочу сказать – поработать головой. Почему бы не поразмыслить немного? Сесть и спросить себя, к чему и о чем все это.
И тут оба они, глядя на меня с таким христианским всепрощением, что я был готов выложить им чуть не всю правду, заговорили разом:
–О мистер Джимсон, не кажется ли вам... конечно, я всего лишь дилетантка... что интеллектуализм в искусстве таит в себе большую опасность?
–Разрушает эстетическое чувство, – грохотал сэр Уильям. – Не кажется ли вам, мистер Джимсон, что величие французских импрессионистов, таких, как Мане и Моне, зиждется на их отказе от классических канонов?
–О Боже, – сказал я. – Послушай их только, Боже! Ну не душки ли они?.. Да разве Мане и Моне не развивали свои теории до тех пор, пока с неба не пошел розовый дождь и не покраснела трава?.. А разве Писсарро не разрубил деревья на стеклянные осколки? А Сёра не пропустил свою старую матушку через мясорубку, а потом накатал на линолеум? Чем, по-вашему, занимался Сезанн – играл в крестики и нолики, как торгаши-портретисты из Королевской академии? Четырнадцать высокоблагородных нулей за крест кавалера ордена Британской империи. О Господи! – сказал я; они были так вежливы, так милы, ягнятки, им было сто раз наплевать на мои слова. Все, что я говорил, отскакивало от них, как медь оркестра Армии спасения от купола собора Святого Павла. Они были так богаты, так любили своих ближних, что прощали все и вся: человека – раньше, чем он раскроет рот, поступок – раньше, чем он свершится, лишь бы это не касалось их самих.
–О Боже милосердный! – сказал я. – Что, вы думаете, делал я всю свою жизнь – играл кистью и красками в бирюльки? Как, по-вашему, друзья, – воззвал я к их лучшим чувствам, – кто перед вами: полоумный, у которого полно вшей в рубахе и не хватает шариков в голове (это была стрела в нежное сердце леди), плут и обманщик, который потратил пятьдесят лет своей жизни, получая ничто за ничто и пинок в зад вместо процентов на вложенный капитал (это для здравого смысла сэра Уильяма), или человек, который кое-что понимает в своем деле?
Ее милость и сэр Уильям одновременно улыбнулись и положили руки мне на плечо.
–Дорогой мистер Джимсон, – сказала она. – Я согласна с каждым вашим словом. Не могу выразить, как я признательна вам...
–Огромное удовольствие,– прогрохотал сэр Уильям. – Поверьте, мы ценим это. Весьма, весьма поучительно.
–Ах, – сказала ее милость. – Уже половина девятого.
–Ай-ай-ай, – сказал я. – Надеюсь, я не задержал вас с обедом?
–Что вы, что вы, – сказал сэр Уильям. – Мы обедаем в самое разное время.
–Быть может, мистер Джимсон останется и пообедает с нами? – сказала леди.
И я остался. Я знал, что обед будет хороший. Богачи, да благословит их Господь, покровительствуют всем видам искусства: портняжному, сапожному, кулинарному, картежному и искусству убивать время. Нам подали семь блюд и шесть бутылок. Но сэр Уильям – бедняга! – трезвенник, а его леди пьет только рейнвейн, чтобы не испортить фигуру. Полбутылки на полфигуры. Так что мы с профессором распили все, что там было. Он – стакан кларета и глоток портвейна, я – остальное.








