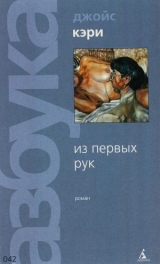
Текст книги "Из первых рук"
Автор книги: Джойс Кэри
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 28 страниц)
Глава 34
Конечно, пока я лежал в больнице, Носатик покатился под гору. Сначала покатился под гору, зато потом пошел в гору. Проявились его природные склонности. К коммерции. Сперва он нанялся мыть посуду в чайную, потом пошел продавать газеты, потом устроился мальчиком в бакалейную лавку. Право, начни он распространять открытки – разумеется, предварительно договорившись с джентльменом, хозяйничающим на данном участке, – он огребал бы большие деньги и поставил нас обоих на ноги. Но, как я уже не раз говорил, Носатик был лишен воображения. Он был рожден, чтобы стать ангелом милосердия.
А мне отчаянно нужны были деньги, потому что речь шла о величайшей картине всей моей жизни. Началось с тех деревьев, под которыми мы тогда провели ночь в Берлингтоне. Картина грандиознее, чем новое «Грехопадение». «Сотворение мира». Я уже видел ее. Пятнадцать футов на двадцать. Самая большая из всех, какие я когда-либо знал. Для нее нужна специальная мастерская и специальное полотно, а еще лучше стена, много лестниц различной длины, подмостья, и так далее, и ведра краски.
И пока я лежал в больнице, новая картина захватывала меня все сильнее. Мне уже снились синие киты, похожие на газовые счетчики, и красные женщины, растущие прямо из земли, с короткими ногами вроде Лолиных, и деревья, выставлявшие ветру спелые яблоки, похожие на груди.
–Чтобы сделать все как следует, нужно тысячу фунтов, Носатик, – рассуждал я.
И Носатик, которого мой замысел волновал не меньше, чем меня, отвечал:
–Надо э-к-к-кономить.
Ну не смешно ли?
–Не выйдет, – сказал я. – Напишу-ка я сэру Уильяму.
–К-к-кому? – сказал Носатик, выкатив на меня глаза.
–А что? – сказал я. – Он человек богатый. Поклонник искусства. Его миссия – помогать художникам. Да-да, я попрошу его финансировать нас: тысячу фунтов в виде аванса и тысячу при сдаче работы.
–А по-полиция? – сказал Носатик. – А его вещи?
–Ты ничего не понимаешь в миллионерах, Носатик, – сказал я. – Миллионер, за редким исключением, ведет себя мудро. Он ни от чего не расстраивается. Помню, как-то Хиксона провел какой-то выжига-маклак, всучив ему подделку. Хиксон навел справки и выяснил, что судиться с этим типом бессмысленно, поскольку платить ему не из чего. Тогда он пригласил его обедать, намекнул, что знает, что тот его обставил, и попросил сообщить, если пойдет по дешевке стоящая вещь. И через этого маклака Хиксон приобрел несколько стоящих вещей. А все потому, что у него хватило ума простить должнику своему.
«Прости должникам своим, Калли Грин {53}53
Калли Грин – сатирический персонаж стихотворения Э. Л. Мастерса (1868-1950).
[Закрыть], и начинай с понедельника новый счет». Это воистину по-христиански.
– Бьюсь об заклад, – сказал я Носатику, – что сэр Уильям будет рассуждать так: какой мне смысл портить отношения с Джимсоном, даже если он и несколько вольно обошелся с моими креслами? Кресел я своих не верну, разругавшись с ним. Но, поступая разумно, я могу выжать из него стоящую картину.
И я написал сэру Уильяму письмо.
Дорогой сэр Уильям!
Мне очень жаль, что я отсутствовал, когда вы возвратились из путешествия. И я, разумеется, уже давно принес бы вам свои извинения лично, если бы в течение нескольких недель не находился в связи с болезнью под строгим присмотром сиделки.
Я полагаю, вы заметили, что я осуществил вашу превосходную мысль о стенной росписи. Насколько мне помнится, речь шла о тиграх для столовой. Но так как стена в столовой оказалась непригодной для росписи, я начал писать Лазаря на стене в студии. Надеюсь, вы согласитесь, что оба мы только выиграли от этой замены.
Мне очень хотелось бы как можно скорее завершить мою работу, тем более что о цене мы уже договорились. Но, к сожалению, сейчас я не располагаю свободным временем, так как занят в высшей степени примечательной картиной, которую, вероятно, назову «Сотворение мира». Меня просили передать ее в собственность Государства. Некоторые частные лица также желали бы приобрести ее. Однако я готов предоставить вам опцион в тысячу гиней (1050,10 фунтов стерлингов, включая почтовые расходы), при общей стоимости картины 5000 гиней (5229,19 фунтов стерлингов, включая подрамник и так далее), которые вы мне выплатите в течение недели по завершении работы.
Ответ прошу адресовать моему секретарю Г. Лесли Барбону, эсквайру, Дог-лейн Мьюс, 14а, Берлингтон-приморский.
Искренне преданный вам
Галли Джимсон.
P. S. Как вы, вероятно, заметили, я на время работы отправил часть вашей мебели на хранение, чтобы не повредить ее и так далее. Закладные квитанции, в целях безопасности, оставлены мною в безопасном месте, то есть в банке, хранящейся на притолоке над дверью в ванную комнату, где вы найдете их в целости и сохранности. Я считаю себя ответственным за всякий возможный ущерб, в случае какового просил бы вычесть соответствующую сумму при окончательном расчете.
С месяц спустя я получил нижеследующий ответ.
Дорогой мистер Джимсон!
Сэр Уильям и леди Бидер в настоящее время отправились на столь необходимый им отдых в Канны. Я переслал ваше письмо сэру Уильяму, который просит меня передать вам, что он высоко оценил ваше любезное предложение, ваши хлопоты о его имуществе и так далее. Тем не менее он по-прежнему желал бы приобрести небольшую картину – по возможности с обнаженной натурой, в неподражаемо блестящей манере, свойственной вам в период Сары Манди, – которую он предпочитает стенной росписи. Он вполне сознает всю значительность предлагаемого вами произведения, но полагает, что такая картина не будет гармонировать с его скромной коллекцией и квартирой. Он будет крайне признателен, если вы пожелаете навестить его по возвращении, точная дата которого в настоящее время еще неизвестна.
С искренней преданностью и уважением
А. В. Алебастр.
– Вот видишь, Носатик, – сказал я. – Говорил же я тебе, что Бидер вполне достоин быть миллионером. И дай Бог, будет им еще долго. Если будет придерживаться тех же христианских правил на бирже, какими руководствуется, собирая произведения искусства.
Выйдя из больницы, я сразу же бросился в Кейпл-Мэншенз. Но никого не оказалось дома. Я оставил визитную карточку с адресом: «Элсинор», Эллам-лейн, Ю.-З.
Дождь лил, как из дырявого сита, и когда часов в шесть я добрался до «Элсинора», на мне не было ни единой сухой нитки. А мой зимний кашель – хотя он несколько приятнее для уха, чем летний или весенний, – доставляет мне куда больше хлопот. Поэтому я находился в убийственном настроении и готов был сорвать его на ком попало. И первым, кто мне попался, был огромный детина с мордой бородавочника. Он стоял в дверях, загораживая вход в кухню. Я сказал ему: «А ну, пропусти, такой-то сын такой-то матери». А когда он развернулся, чтобы прикончить меня, я завыл, как пароходная сирена. Это плохо сказывается на горле, но производит впечатление на дикарей и вносит смятение в их ряды.
–Ты что? – сказал он. – Я же тебя не трогаю.
Но на кухне околачивалось еще шестнадцать ночлежников, и одни предложили стащить меня во двор и бросить в помойку, а другие – втащить наверх и спустить с лестницы. Я присоединился к тем, кто стоял за помойку. Но победа осталась за теми, кто предлагал лестницу. Еще одна победа богатого воображения. Схватив меня за ноги и за руки и опрокинув лицом вниз, они уже таранили моей головой кухонную дверь, как вдруг я услышал голос, показавшийся мне знакомым:
–А ну-ка прекратите!
Ночлежники орали, что я профсоюзная крыса и что меня надо вышвырнуть из «Элсинора». Тем не менее поставили меня на ноги, и я увидел перед собой худенького старичка в синем комбинезоне с одной только левой рукой и крюком вместо правой. На крюке висело ведро, а рука держала метлу. Странно, подумал я, ведь нужники здесь чистит Планти. И тоже одной рукой. И тут я увидел, что это и есть Планти, постаревший лет на сорок, а Планти увидел, что это я.
–Мистер Плант! – сказал я.
–Мистер Джимсон! – сказал Планти, роняя метлу и протягивая мне левую руку. – Очень рад видеть вас, сэр. – И он церемонно пожал мне руку. – Очень приятно. Входите, сэр. Входите.
Он повел меня через кухню в чулан, и ночлежники расступились перед ним, как перед членом королевской семьи. Бородавочник почтительно нес за нами метлу.
–Прошу,– сказал Планти, пододвигая мне стул. – Живите здесь сколько вздумается.
До разговоров с Бородавочником он не снизошел. Только указал ему на угол. Бородавочник, старательно прислонив метлу к стенке, сказал:
–Простите, мистер Плант, нельзя ли мне ключик?
Планти, казалось, не слышал. Бородавочник попереминался с ноги на ногу и попытался вторично:
–Простите, мистер Плант...
Планти даже не взглянул на него. Взмахнул крюком, и Бородавочник вышел буквально на цыпочках и тихо прикрыл за собой дверь, словно воришка, выбирающийся среди ночи из курятника.
–Ну как поживаете, мистер Джимсон? – сказал Планти. – Придвигайтесь к огню.
Потому что над медной решеткой колыхалось маленькое пламя.
Планти так радушно улыбался, что я подумал: «Пусть он убог и наг, но наконец-то счастлив».
–Вы превосходно выглядите, мистер Плант.
–Я превосходно устроился; спасибо, мистер Джимсон.
–Все на той же работе?
–Все на той же работе.
Ответ прозвучал эхом из-под церковных сводов. И я подумал: «Надо подбодрить старика».
–Сразу видно, кто в этом замке король, – сказал я. – Клянусь честью, не ожидал. Поздравляю, мистер Плант. Как вы этого добились?
–Добился, – сказал Плант, с улыбкой глядя в огонь. Кажется, он не был слишком польщен.
–У вас ключ.
Мистер Плант склонил голову набок – кивок старика – и продолжал улыбаясь смотреть в огонь.
–А если вы не сочтете парня достойным ходить в вашу уборную, что тогда?
–Он в любое время может воспользоваться общественным туалетом на Хай-стрит.
–Н-да. Три четверти мили ходу и пенни за услуги. Вот, значит, как вы поддели их на свой крюк, старина.
Я рассмеялся и похлопал Планта по плечу. Но Плант не засмеялся в ответ. На лице его была все та же улыбка, которая, по-видимому, ни к чему не относилась.
—Хорошо, когда за такими типами присматривает философ, – сказал я. – В этом Бородавочнике прорезалось даже что-то человеческое. Это большая победа, мистер Плант.
Плант с улыбкой смотрел в потолок. Но, кажется, не видел его.
–А как вы вообще себя чувствуете, мистер Плант?
–Хорошо, мистер Джимсон. Старею, конечно. Вот совсем было запамятовал, что для вас есть письма.
Он подошел к шкафчику и вынул пачку писем.
–Ха-ха, – сказал я. – Письма поклонников, записочки от профессора.
Но в пачке были только счета, проспекты и письмо от Коукер.
Лодочный домик. Гринбэнк,
22 31.7.39
Я была бы вам весьма признательна, если бы вы вернули мне долг в размере пяти фунтов, тринадцати шиллингов и десяти пенсов. Если вы в состоянии платить фунт в неделю паршивцу Лесли Барбону, который разбил сердце собственной матери, вы в состоянии заплатить и мне.
Д. Б. Коукер
P. S. Имейте в виду, что я снова начинаю заколачивать деньги и мне нужен мой оборотный капитал.
Мистеру Галли Джимсону, эсквайру.
Ночлежный дом.
Эллам-лейн.
—Очень приятное письмецо, – сказал я. – Сразу чувствуешь, что о тебе не забыли.
–Для вас там еще что-то есть, – сказал Планти, словно очнувшись от глубоких раздумий. Он еще раз нырнул в шкафчик и извлек оттуда нечто похожее на мешок с картошкой. – Вот, оставила какая-то дама, приезжавшая в «роллс-ройсе».
К мешку, в верхнем углу, у завязки, была приколота записка. И когда я прочел ее, от радости я чуть не выпрыгнул из штанов. Адрес: Галли Джимсону, эсквайру, «Элсинор», Эллам-лейн. Содержание: «Сэр Уильям Бидер просил меня вручить вам эти вещи. Он надеется, что они в полной сохранности». Подпись: «М. Б. М.».
В мешке оказался ящик с красками, две палитры, две банки консервированной говядины и высокая картонная коробка, заклеенная бумажной лентой, с надписью «кисти и краски».
–Вот это настоящий миллионер! – сказал я. – Побольше бы таких людей, как сэр Уильям, окруженных штатом шоферов, поваров, секретарей и Эмбеэмов, чтобы холить его и выполнять его дивные христианские желания. Да сохранит ему Господь его миллионы!
Но когда я открыл ящик с красками, он оказался пуст. Ничего, даже мастихина. А в картонной коробке валялись две облезлые кисточки, несколько старых, выжатых тюбиков и три пустых бутылки из-под масла. Какой-то мерзавец спер по крайней мере двадцать почти новых кистей и добрых три, если не четыре, дюжины тюбиков краски.
–Вот это типичный миллионер! – сказал я. – Окружил себя штатом наглых подонков. Дай Бог ему здоровья, и чтоб у этого Эмбеэма все кишки повылезали. Правда, может, он (или она?) подоспел, когда уже были сняты пенки.
–Н-да, – сказал Планти, качая головой. – Что тут придумаешь!
Он все улыбался, и его улыбка действовала мне на нервы.
–Уж что-нибудь могли бы придумать.
–Да-да, – сказал Плант, словно ничего не слыша.
Опять Спинозу разыгрывает, подумал я, а вслух сказал:
–Какая тема для созерцаний старому барахольщику.
–Кому? – спросил Плант, по-прежнему улыбаясь в пространство и мигая глазами. – Кому, вы сказали?
–Так, никому. Одному лупоглазому. Гляделкину-Потелкину.
Но Плант не понял намека. И я подумал, что, может, он уже разделался с философиями. Перерос их. Перестал охотиться за химерами и наконец приобрел то, что можно было бы назвать пониманием сути вещей. Как моя сестра Дженни, когда ее муженек Рэнкин в последний раз получил по голове. Они как раз были очень счастливы, впервые за всю свою совместную жизнь, потому что одна только что организовавшаяся энергичная компания, «Браутс», взяла рэнкинский регулятор и запустила его в массовое производство, отведя под это дело специальное помещение. И Рэнкин как начальник цеха стал получать какие-то деньги. Но тут началась война в Южной Африке, и Браутсы прогорели. Они назаключали кучу контрактов с шахтами. И к тому же не боялись рисковать, широко предоставляли кредит и расходовали основной капитал на внедрение новых патентов. Предприимчивая публика. Сами искали себе погибели. И весь их капитал, контракты, патенты и так далее попали в руки старой солидной фирмы, которая положила рэнкинский регулятор на полку. Им ни к чему было возиться со всякими новомодными штучками-дрючками, уже разорившими Браутсов. Эта фирма отставала этак лет на сорок и производила испытанный, апробированный хлам для солидных заказчиков вроде Адмиралтейства и Министерства военных дел.
Рэнкины вылетели в трубу не то в третий, не то в четвертый раз. Им пришлось заложить одежду, чтобы было на что купить хлеб. И когда Дженни пришла ко мне занять денег и рассказать о своей беде, ей было не до улыбок. Но она уже не плакала, как раньше. Не винила правительство, не ругала предпринимателей или врагов Рэнкина. Она забралась ко мне на колени и уткнулась головой в плечо. Смешное это было зрелище. В тридцать два года Дженни выглядела заезженной поденщицей. А я только что вышел из больницы. Дженни вздохнула разок-другой. И все. С чувством, как говорится. Правда, чувства было столько, что у меня все внутри перевернулось. «Не тужи, старуха, – сказал я. – Жизнь еще повернется к тебе парадной стороной». Но она только покачала головой: «Что же она не поворачивается?» – «Так это ж еще не жизнь». – «А что же?» – «Не знаю, так, обстоятельства, наверно». В общем, до нее начало понемногу доходить. «Брось, – сказал я. – К чертям все это. К дьяволу». – «Но Роберт так мучается – ужас, как мучается. Никогда не думала, что человек может так терзать себя. День и ночь. Как он еще только с ума не сошел! Он убьет себя. Вот увидишь, убьет». – «И не подумает, – сказал я, – особенно если грозится». – «Он уже не раз говорил, что наложит на себя руки, и он это сделает». – «Беда Роберта в том, что он не умеет смотреть в лицо жизни, обстоятельствам, если угодно. Он хочет, чтобы они сами стлались ему под ноги. А они не могут, не могут стлаться под ноги. Могут только обрушиться и стереть в порошок, как груда камней в сошедшем с рельсов составе. Твой Роберт просто накрутил себя, да и ты тоже». – «Как я могу оставаться спокойной, когда он так мучается!» Что я мог возразить? Дженни была преданной женой. И она не могла разлюбить Рэнкина так, с бухты-барахты. Она могла простить, когда били ее, но не Рэнкина. Только не это. И поэтому она ушла с тем, с чем пришла. Никто на свете не смог бы ей помочь. Ей оставалось, как говорится, идти навстречу своей печальной участи.
Вот так и со стариками. Даже с теми, кто сумел захватить ключ к вечным радостям. Вдруг, ни с того ни с сего они становятся тихими и задумчивыми. Безразличными к почестям и победам. Как Планти, при всем его нынешнем могуществе. По-моему, он не придавал большого значения лести и заигрываниям всяких Бородавочников. И улыбка его, как мне показалось, была уже не та, что прежде. Когда с утренним ветерком до старика доносится последний звонок, улыбка его становится какой-то рассеянной, словно он к чему-то прислушивается. Акт вежливости, не больше. Возможно, он и сам не знает, улыбается он или плачет, и, пожалуй, ему все равно, лишь бы быть чем-то занятым. И безразлично, что говорить, лишь бы заполнять пустоты в разговоре и чувствовать удовлетворение оттого, что еще существуешь. И потому я не стал спрашивать Планти, над кем он смеется – надо мной, над собой или еще над кем-то. Я занялся собой, погрузился в свои мысли.
По правде говоря, несмотря на мучивший меня кашель – следствие отвратной погоды – и некоторое беспокойство, вызванное отсутствием денег, я провел с Планти чудесный, мирный вечер у камелька. И хорошую ночь на стульях. И хотя мне не спалось, я наслаждался превосходным видом на небо, открывавшимся через верхнюю часть окна. Небо было похоже на взбесившуюся киноленту. Всю ночь, крутясь в неистовом вихре, неслись по нему головы, руки, носы, голые ноги и прикрытые штанами ягодицы, пушки, шашки, цилиндры. Иногда появлялась вальяжная дамочка в изящной позе, но не успевал я подмигнуть ей, как она расплывалась в огромный шар, теряя то руки, то ноги, или превращалась в повозку с боеприпасами, которая катилась по трупам.
Планти тоже не спал. Всякий раз, поворачиваясь в его сторону, я видел, как поблескивают его глазки, уставившиеся в потолок. Не знаю, о чем он думал. Мысли стариков – их тайна, и никому не дано проникнуть в нее. Только раз, когда подо мной скрипнули стулья, он спросил:
–Вам удобно, мистер Джимсон?
–Вполне, мистер Плант. Что это вы не спите?
–Выспался уже. А вам хорошо спится?
–Как в люльке, – сказал я. Друзьям надо говорить, что жизнь хороша, брат. Меньше хлопот. И больше времени, чтобы пользоваться жизнью.
Глава 35
Письмо Коукер мне не понравилось. Мне показалось, что она способна наломать дров. Поэтому в первый же субботний вечер, когда мамаша Коукер, по всем данным, должна была шнырять по рынку, чтобы купить мяса по дешевке, я отправился к старому сараю. Заглянул в окно. Никого. Но изнутри слышались какие-то звуки, словно кто-то, чертыхаясь, отбивал котлеты. Раньше, когда я подслушивал у сарая, оттуда доносился голос мамаши Коукер. Этакое завывание. Словно зимний ветер, тихо скуля, потревожил сломанный варган. Теперь же звук был иной. Словно волочили груду рельсов по Пиклхерринг-стрит. Похоже было, что это Коуки развоевалась, как бывало. Поэтому я решился стукнуть в окно.
–Эй! Кто там еще? – гаркнула Коуки. – Убирайся-ка подобру-поздорову. Не то худо будет.
–Это я, Джимсон.
–Ври больше, – сказала Коуки и приподняла занавеску. – А, мистер Джимсон! Так это и вправду вы?
–Мамаша дома, Коуки?
–Отбыла, слава Богу. Но я вас не могу пустить. Некогда мне. – Коуки явно занималась хозяйством и была на взводе.
–Когда же мне зайти? Мне очень нужно повидать тебя.
–Ладно, входите. Только не наследите вашими ножищами.
Я вошел и увидел Коуки с тряпкой вокруг головы. Коуки занималась уборкой. А рядом с кроватью в нарядной люльке лежал двухмесячный малыш и сосал большой палец собственной ноги.
–Привет, Коуки, – сказал я. – Все семейство в сборе. Должен сказать, материнство тебе на пользу. Вон какая у тебя стала фигура! Женщина!
–Велика радость быть женщиной! – взъярилась она. – Вылизывай грязь с утра до ночи и меняй пеленки с ночи до утра. Да, тебе говорят, безотцовщина, – сказала она, поворачиваясь к малышу, который, попав пальцем не в рот, а в глаз, вдруг заверещал. – Теперь-то, как без нужды, так мы паиньки. А ночью что? Ни минуты глаз из-за тебя не сомкнула.
–Ишь ты, – сказал я. – Нечего на малютку валить. Она не виновата.
–Она? Это что, по-вашему, девчонка? Засветите-ка фары, мистер Джимсон! Это же парень. Разве не видно? Небось знал, что к чему. А насчет того, что на кого валить, так он пока еще не понимает, что про него говорят. Ну ничего, скоро поймет. Не я, так другие скажут. И пусть. Меньше будет задаваться. Чем раньше поймет, что ему в одном дерьме со всеми барахтаться, тем лучше.
–Ну-ну, Коуки, – сказал я. – А я-то думал, что ты хотела ребенка.
–Хотела, – сказала Коуки. – Ждала, когда стану матерью. А теперь скажу: природа и без того достаточно напакостила женщине. А ты смотри у меня, – повернулась она к малышу. – И ты туда же! Приблудок! Только попробуй пакостничать. Кину на приютском пороге, как это делают девки с Эллам-стрит, даже не зная, кто отец их приблудка.
–А как Вилли, признал ребенка? – спросил я.
–А вам что? – огрызнулась Коуки. – У Вилли и без того хватает забот с его тощей выдрой. Ест его поедом. Подайте-ка мне ведро. Грязи-то, грязи здесь! Хоть топись. Прямо не дом, а пылесос какой-то, всю грязь в себя втягивает!
–А бутуз-то славный, – сказал я. – Ишь ты, какие перетяжки на лапках, как на свежих сосисках.
–Мужчина и есть мужчина, – сказала Коуки. – Вам-то детей не рожать. Вон, Планти говорит: «Это вам Бог дал ребеночка». Ему бы кто дал! Мужа мне Бог почему-то не дал. Вилли мне спроворил ребеночка, вот кто. И то потому, что вовремя не остерегся. Ну, иди сюда, горюшко мое.
Она вынула ребенка из люльки и, сняв с него распашонку, принялась купать. А купала она его – любо-дорого смотреть! И ребятенок гулькал себе и улыбался, словно его щекотали ангелы.
–Славный бутуз, – сказал я.
–Еще бы не славный, – сказала Коукер. – Мало я, что ли, вокруг него прыгаю? Патронажная сестра говорит – самый крепкий мальчонка за последние полгода и самый ухоженный. Она даже хотела выставить его напоказ. Только очень мне нужно, чтобы люди говорили: «Эка, безотцовщина!»
–Откуда кто знает?
–Достаточно взглянуть на него или на меня рядом с ним.
–Надо носить кольцо. Что тут такого? Все девчонки с Эллам-стрит носят кольца, есть у них детишки или нет.
–Девочки с Эллам-стрит мне не указ, – сказала Коуки, давая ребенку грудь. – Я женщина гордая. А ну, Джонни, соси, не балуйся. Нет у меня времени с тобой прохлаждаться.
–Только не отдавай его во флот. Вот там такое считается позором.
–Что ж, не мне их винить. Кому такое нравится? Давай, давай, Джонни. Рви с мясом. Что ее, мать, жалеть! Вот так, и когти вонзай. Нечего ее жалеть, глупую бабу.
–Раскройся-ка побольше. Мне нужна твоя грудь, – сказал я, принимаясь рисовать.
–Не смейте меня рисовать, – сказала Коуки. – Вам и так показали больше положенного. Толстая я стала впихиваться в чулан, да и вы только что из больницы. А вот что вам действительно нужно, мистер Джимсон, и о чем вы, верно, сами подумали бы, будь у вас хоть капля ума, так это попросить одну особу, чтобы она оставила вас здесь и в кои-то веки поухаживала за вами как следует. Выглядите вы – хуже некуда. В гроб и то краше кладут. А что болтать будут, так пусть болтают. Вон, целый год чесали про меня языки: Коукер такая-сякая, с приблудком! Пусть и жильца добавят, не жалко.
–Я бы, Коукер, с удовольствием. Ты славная девушка, что бы там о тебе ни болтали. К тому же мне натурщица нужна.
–Натурщица! За кого вы меня принимаете?
–Если у меня не будет натурщицы и мастерской, плакали твои денежки.
–Я вам покажу натурщицу! Костей не соберете! А почему вы здесь не можете малевать?
–Места мало. Я задумал большую картину. Больше всех, какие писал.
–На Хорсмангер-ярд есть свободный гараж. Может, вас и пустят туда за так.
–Надо попытаться. Я могу взять за эту картину целую тысячу, Коуки. А тебе дам пятьдесят. Гиней.
–Нужны мне ваши гинеи! Отдали бы мне мои пять фунтов.
–Разумеется, Коуки. Ты согласна получать за койку и стол фунт в неделю? Деньги вперед. Положишь в сберегательную кассу для Джонни.
–По рукам, – сказала Коукер. – Я же вам писала, что начинаю заколачивать. Когда вы внесете задаток?
–Через неделю, ну, через две.
–Мне хватит за месяц вперед, – сказала Коукер. – Только деньги на бочку. И чтоб без обмана, мистер Джимсон. Я никому не позволю водить себя за нос. Я круглый год должна заколачивать. С моей обузой мне иначе нельзя.
И она стала собирать на стол. Мясо на рашпере, картофельное пюре, пиво, хлеб, масло, сыр. Давно я так не ужинал.
–Спасибо, Коукер, – сказал я.
–Все по счету, – сказала Коукер. – Вы со мной по-честному, и я с вами.
–Ну, если ты действительно хочешь скорее получить по счету, – сказал я, – заставь миссис Манди вернуть мне картину. У меня на нее есть верный покупатель.
–Хватит. Вам пора спать. У меня от ваших глупостей уши вянут.
–Мне казалось, тебе нужны твои деньги.
–Я свои деньги верну, и не впутываясь во всякие сомнительные истории. Только рекомендацию себе попортишь. Хорошо, что на моей работе она не нужна.
По правде говоря, проведя несколько часов в обществе Коуки в ее новом качестве, я начал сомневаться, так ли уж хорошо мне будет с ней, как я рассчитываю. Хозяйка она была превосходная и то, что называется, превосходная мать. Ребенка держала в чистоте и кормила на убой. Она просто с ума по нему сходила. Так всегда с этими мамашами-одиночками: или знать ребенка не хотят, или уж души в нем не чают. Середины тут нет. И я не сказал бы, что характер у Коуки стал хуже. Она даже улыбалась, когда бутуз пускал пузыри или хлопал себя по носу. Но счастливой она себя не чувствовала. Такой уж она человек. Будь у нее миллион в год и муж-красавчик, каких только в кино увидишь, она все равно не чувствовала бы себя счастливой. Она принимала жизнь слишком всерьез. Марфа, а не Мария. Соль земли, как говорится. А от избытка соли в человеке развивается сухость. Она сделала для меня много, очень много, но не то, что мне нужно. Погнала меня спать в девять, а когда я попробовал возразить, что мне еще рано, уложила силой.
–С вами всякое терпение лопается, старый хрыч,– сказала она, стаскивая с меня одежду, словно я был ее вторым ребенком, – Вам и по дому-то нечего расхаживать с таким кашлем, а по улицам за вертихвостками бегать – и подавно. Марш в постель, и спать до утра!
Спорить с этой женщиной не имело смысла, и я дал обрядить себя в ее ночную рубашку и уложить в постель.
–А теперь спать, – сказала она. – Не то я вам устрою черную жизнь. Мне только похорон тут не хватает. И так ребенок будит меня по четыре раза в ночь и требует свою пинту.
Коуки удалилась за кресло, чтобы переодеться на сон грядущий. Но тень ее поднялась по стене, и я сказал:
–Мне во что бы то ни стало надо написать тебя, Коуки. Ты как раз такая женщина, какую мне нужно. Теперь у тебя и формы появились. Раньше ты была как силосная башня, Венера Силосская, а теперь, смотри, какая у тебя грудь.
Но я только даром терял время. Коуки была типичная молодая мать. Ничего не слышала из того, что ей говорили,– где уж там понять! Голова заполнена мыслями о ребенке, сердце – материнской гордостью.
Я очень обрадовался, когда выяснилось, что по вечерам в часы пик Коукер работает в баре «Три пера».
–«Три пера» – приличное заведение, – сказала она. – Был бы у девушки вид приличный, а на кольцо там плевать хотят. А я ни за что не стану кольцо носить. И коляска влезает в буфетную.
Она велела мне лежать в кровати и унесла мои штаны. Но едва она со своей коляской завернула за угол, я был таков. При моем длинном пальто и длинных носках, которые я натянул повыше, я вполне обходился без брюк. Правда, прохожие оглядывались на меня, но я вполне мог бы сойти за сквайра в гольфах, делающего обход своих владений.
А выйти на воздух мне было необходимо. Даже один день взаперти сковывал мои мысли, спрессовывал их и связывал в тугую пачку. Мое воображение, вместо того чтобы черпать образы извне, замыкалось внутри. Оно навязывало мне композицию, а нужно было, чтобы образы компоновались сами. Если я просидел бы под началом Коукер неделю, я мог бы сказать прости-прощай моему «Сотворению мира». Оно превратилось бы в квадратную картину с четырьмя углами и одной серединой. Распиши я его хоть во всю стену – оно было бы только изопродукцией. Трафаретом. Рамочкой, выпиленной лобзиком. А настоящая картина – это цветок, гейзер, фонтан. В ней нет рисунка, в ней есть форма. Нет углов и середины, есть суть. И мое Сотворение должно быть Творением. Событием большого масштаба. А мыслить большими масштабами человек может только на свежем воздухе.
В самом деле, я боялся, как бы, связавшись с Планти и Коукер, я не оказался в таких тисках, что ничего не смогу написать, а только буду без конца мусолить форму. Коуки застряла у меня в голове, как оловянный балласт в корзине воздушного шара. Я не мог выбросить ее, даже когда свернул под ивы. Но мне повезло. Вечер был ясный, небо без облаков, серое, как вода в Темзе. И как только я дал волю ногам, тень Коуки полезла на волю из корзины. Она все увеличивалась и увеличивалась, пока не достигла десяти футов и не приняла отчетливые женские формы. И стала совсем как живая. Как раз то, что мне нужно, сказал я себе, женщина-дерево с корнями, как ноги Лоли. Круглая, как газовый счетчик или Черчиллева шляпа. Да, Черчиллева шляпа будет синим китом. Самкой, кормящей детеныша. Китиха с женским лицом, плавающая в зеленом море. А посредине – черное кольцо, напоминающее контуры Австралии, а в нем старичок, которому все это привиделось. Седобородый такой старичок с детской картинки или как у Блейка, только толще, крупнее и крепче сидит в оболочке. Как орех в скорлупе. Но не слишком большой. А черный ободок, пещеру в скале вечности, надо сверху срезать, и там наверху пусть лежит самка-кит и нянчит своего детеныша. А желтые сполохи пусть будут жирафы по сто футов в высоту, ощипывающие верхушку луны в белых цветах. Огромных; чем больше, тем лучше. Да, такая картина должна быть огромной. Такой, чтобы при виде ее люди открывали зонтики – а вдруг кит, упаси Бог, свалится им на головы. Нужно, чтобы кит выглядел огромным, как Тауэр, а жирафы много больше, чем в жизни. Иначе они будут казаться маленькими, как на фотокарточках. Тридцать футов в высоту, не меньше.
Я шел по Хорсмангер-ярд. Я, конечно, не поверил тому, что Коуки сказала про гараж, – но как знать? И когда, к моему удивлению, оказалось, что тут действительно сдается пустой гараж, я не пришел в изумление, увидев, какая это захламленная развалюха, футов пятнадцать от крыши до конька, а стены – одно название, что стены, – из жести.








