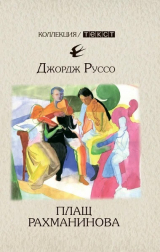
Текст книги "Плащ Рахманинова"
Автор книги: Джордж Руссо
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 18 страниц)
Часть II
Плащ Рахманинова
Рахманинов… что ж, мне бы не хотелось о нем говорить. Правду сказать, мы ненавидели друг друга.
Сергей Прокофьев в интервью британскому музыкальному критику Александру Верту[29]29
Александр Верт, Musical Uproar in Moscow (London: Turnstile, 1949), p. 83; также в The year of Stalingrad: an historical record and a study of Russian mentality, methods and policies (London: Hamish Hamilton, 1946).
[Закрыть]
…трагедия расставания [Рахманинова] с родиной, кажется, до сих пор грызет его изнутри. Удивительно это гробовое молчание, в которое погрузился творческий гений композитора с момента его отъезда [из России в 1917 году]. Да, он написал Четвертый концерт для фортепиано. Но все же восемь лет молчания – это огромный срок для композитора. В нем будто что-то надломилось, когда он оторвался от родной почвы, словно его гений таинственным образом пустил корни в землю отцов и теперь не может больше произвести ни единого ростка.
Л. Сабанеев, Modern Russian Composers (Freeport, N.Y: Books for Libraries Press, 1971, p. 117)
…с художественным совершенством в подробностях, трудно совместимым с нелепо малым числом прожитых лет, воссоздавал необъяснимо ностальгический образ «дома»…
Владимир Набоков, пер. С. Ильина, «Память, говори», СПб.: Симпозиум, 1997
* * *
Если верить вековой мудрости, во всех нас живет тяга к творчеству – потребность произвести нечто отличающееся, создать что-то из ничего, изменить окружающую среду, оставить после себя произведение искусства. Но в 1900 году, когда Рахманинов страдал от эмоционального срыва, люди практически вынуждены были заниматься самостоятельным творчеством, чтобы получить доступ к миру искусства, если только они не жили в Санкт-Петербурге или Москве. Несколько лет спустя Пикассо сказал, что «каждый ребенок – художник», и в этом афоризме есть истина, но дальше он назидательно добавляет: «Трудность в том, чтобы остаться художником». Он имел в виду, что стремление к творчеству – желание создать произведение искусства – присуще почти всем детям, но с возрастом оно отмирает, и люди превращаются в потребителей искусства, а не творцов. Примерно в это же время окончательно сформировались идеи психоанализа: виднейшие европейские психоаналитики Фрейд и Мелани Кляйн вычленили из детской психологии желание творить (в игре) и поместили в ту же группу инстинктов, что и стремление к выживанию, размножению, сексу и другие влечения, свойственные жизни; по утверждению Фрейда, оно существует в противовес всепоглощающему влечению к смерти, и Кляйн с этим соглашается, добавляя, что оно проявляется и у детей, и у взрослых в результате «сублимации депрессивной позиции»[30]30
Мелани Кляйн, Contributions to psychoanalysis, 1921–1945 (London: Hogarth Press,1948), гл. 7. В своем анализе Кляйн подчеркивает, что стремление творить особенно часто проявляется в людях депрессивного типа. То есть стандартное депрессивное состояние возникает, когда у ребенка развивается способность воспринимать объект целиком, а не отдельные фрагменты.
[Закрыть].
Ее анализ детской депрессии применим с некоторыми ограничениями и к известным фактам о ранней жизни Рахманинова. Время покажет, что юный Рахманинов был гением, но он не воспарил бы так быстро без постоянного давления со стороны его требовательной матери Любови, толкавшей ребенка на скорые свершения, вместо того чтобы дать ему спокойно творить, и это вызывало у него депрессию.
Матерью Сергея была Любовь Петровна Бутакова, дочь генерала, принесшая огромное приданое в дополнение к пяти поместьям ее мужа Василия. Но брак не сложился, Любовь Петровна выгнала мужа за пьянство, разгульный образ жизни и растрату финансов, что только усилило депрессию Рахманинова. Это Любовь отвела своего юного сына-пианиста к его кузену Зилоти и договорилась, чтобы тот нашел мальчику место в школе игры на фортепиано, это она все устроила и в своих ожиданиях была непреклонна[31]31
Кузен Александр Зилоти (1863–1945), племянник Василия, был блестящим пианистом, высоким, грациозным, на десятилетие старше Сергея; он учился у Листа в Веймаре и стал одним из самых выдающихся молодых музыкантов России. Закончил Санкт-Петербургскую консерваторию, три раза за годы жизни Рахманинова сменившую название. Зилоти был лучшим учеником Зверева, как прежде и Листа, а еще – любимым русским пианистом Чайковского. Всякий, кто слышал его игру, приходил в восторг, и женился он удачно – на дочери богатого коллекционера живописи со связями среди промышленников-миллионеров. Он тоже бежал из России примерно тогда же, когда и Рахманинов, и поселился в Нью-Йорке, где преподавал игру на фортепиано в Джульярдской школе до самой своей смерти в восемьдесят два года. Адель Маркус встречала его, когда стала работать там на полставки в 1936 году.
[Закрыть]. Она сажала сына на колени и говорила ему, что он ее любимое дитя, что он станет великим пианистом и превзойдет всех других великих пианистов. Денно и нощно она наполняла его воображение этими фантазиями. Когда ему исполнилось десять, его представления о себе уже настолько раздулись, что вполне соответствовали ее собственным иллюзиям.
(Реконструируя отношения Любови с маленьким Сергеем, я не мог не вспоминать об отношениях Эвелин с ее сыном Ричардом: материнская пылкость, с которой та убеждала ребенка в его будущем величии, мечты о том, что он станет виртуозным музыкантом, их взаимосвязь, то, как они держались за руки над его первой виолончелью. В моих ушах звучали отголоски беспочвенных обвинений Сэма, высказанных после того, как Ричард разбился насмерть, и я чувствовал, что существует иной вид смерти, нежели остановка дыхания и пульса.)
Ранний выплеск творческого дара Рахманинова – все те прекрасные произведения, написанные им до двадцати лет, – никогда бы не случился, если бы Любовь не пестовала и не подталкивала сына, больше всего мечтавшего о своем отсутствующем отце. Мать была тираном, мучившим его с запредельной нежностью. И в отношениях Рахманинова с женщинами до конца его жизни можно проследить ее жестокое влияние, оказанное еще в детстве.
В отрочестве Сергей уже знал, что его любовь к музыке передалась ему не от матери, пусть она и была его первым учителем игре на фортепиано. На самом деле Любовь Петровна не любила музыку. Она не стала слушать казачий оркестр, игравший марши в Онеге, семейной усадьбе возле Новгорода, где Рахманинов провел детство, и призывала Сергея упражняться на фортепиано только потому, что это был труд, – с таким же успехом он мог бы класть кирпичи или копать канавы. Ее правилом было поддержание сурового порядка. Влечение Рахманинова к музыке, особенно к клавишным инструментам, шло от отца и от деда Аркадия Александровича, талантливого пианиста и композитора.
Конечно, загадка творческого импульса простирается далеко за пределы психоанализа. Каждого художника нужно рассматривать в контексте его времени, места и культурных традиций. Реализовал бы Рахманинов лишь половину своего композиторского гения, как это в действительности произошло, родись он в 1810-м или 1910-м? Может, стал бы второсортным Робертом Шуманом или Сэмюэлом Барбером? Этот непростой вопрос касается больше исторического анализа, нежели эстетики романтизма. Композиторы-романтики, погруженные в меланхолию, и интенсивность переживания, существовали веками; главное то, как они передавали свое состояние, свой голос, свое волнение через музыкальные формы. Это технический вопрос, над которым размышлял не я один, хотя зачастую музыковеды выпускают из виду биографические обстоятельства композитора. В случае с Рахманиновым я убежден, что мать оказала гораздо большее влияние на композиторские методы сына, чем ей приписывают. Свою лепту внесли и обучавшие Рахманинова мастера, особенно Танеев и Чайковский, но были и весомые психологические причины тому, что он не мог вырваться из старой модели романтизма[32]32
Игорь Стравинский (1882–1971), который был едва ли на десять лет младше Рахманинова, критиковал его музыку с того момента, как в первый раз ее услышал, и еще долго после смерти Рахманинова. Здесь его мнение схоже с мнением Прокофьева, который музыку Рахманинова терпеть не мог. Первым учителем Стравинского был Римский-Корсаков, и тот тоже относился к музыке Рахманинова довольно скептически. Римский-Корсаков отрицательно отзывался о его произведениях, хотя по отношению к самому композитору всегда держался безукоризненно вежливо; и сам Рахманинов к тому времени, как покинул Россию, стал понимать, что, возможно, писал бы совершенно другую музыку, если бы его натаскивал учитель Стравинского, а не Танеев. Последний был искусным пианистом и человеком замечательных познаний, пусть и грубоватым в своей бестактности, но из его московских учеников только Скрябин и Метнер стали известными композиторами и написали пережившие их произведения, и то Скрябин довольно рано отказался от теории композиции Танеева. Чайковский восхищался его музыкальным вкусом, но в то же время опасался его и в разговорах с глазу на глаз признавал, что в произведениях Тенеева нет полета воображения. Стравинский был очень хорошо знаком с музыкой Танеева и Чайковского, но скорее тонко перерабатывал их произведения в собственном творчестве, чем подражал им, как Рахманинов. К 1910 году Стравинский уже закончил «Жар-птицу», тогда как Рахманинов все еще писал устаревшие романсы и программные сочинения о колоколах. Только его произведения для фортепиано, особенно Третий концерт, могут соперничать в новаторстве формы с поколением Стравинского.
[Закрыть].
В зрелом возрасте его вдохновение подпитывалось влечением к женщинам. Особенно это заметно в период, когда ему уже за двадцать и он все еще не женат. К тридцати годам, когда он женился на своей двоюродной сестре Наталье Сатиной, все изменилось: в то десятилетие (1903–1913) он написал несколько лучших своих произведений, однако в определенном смысле наверстывал время, упущенное из-за эмоционального срыва, и невозможно представить, каков был бы его путь как композитора, если бы не случилось так, что ближе к двадцати годам он не мог сочинять из-за депрессии.
В течение первых двух десятков лет Рахманинову постоянно приходилось переезжать – по моим подсчетам, он сменил более двадцати домов. Каждая перемена была травматичной, и даже там, куда он уходил добровольно, его мучила тоска по другим местам. Хуже всего были переезды в детстве и ранней юности: из Онега под Новгородом с его лесами и озерами в искушенный Санкт-Петербург и пронизанную духом конкуренции Москву, из комнат в подвале Зверева в комнату на верхнем этаже с видом на окрестности, а оттуда – в городские и деревенские усадьбы родственников. Постоянно в движении, нигде не оседая. Он много раз перебирался с места на место и будучи студентом, еще больше – в зрелом возрасте. Его «заключение» в «гареме» Зверева, как мы увидим, было мучительным, но еще более мучительно воспринял он свое бегство от Зверева. Часто, еще в студенческие годы, у него случались приступы болезни, и он, как бродяга, кочевал из одного жилища в другое, иногда останавливаясь у богатого товарища, принявшего его из жалости[33]33
Как например Сахновский с его богатой купеческой семьей.
[Закрыть]. Неудивительно, что первые годы после женитьбы (1902–1904), когда ему не нужно было искать постоянный дом, так плодотворно сказались на его творчестве. Величайшая ирония его жизни в том, что даже когда они с семьей, Натальей и дочерьми, сбежали из революционной России и поселились в Америке, они продолжали бежать из одного дома в другой, пересекая при этом океаны и континенты. На вершине своей карьеры пианиста он давал по сто концертов в год, так что ничего удивительного в том, что он каждую ночь проводил в новой постели. Однако его ситуация едва ли сравнима с ситуацией обычного пианиста, который после ночи в отеле может вернуться в одну и ту же постель в одном и том же доме. Рахманинов не мог.
Удивительное дело, но целых шестьдесят лет Рахманинов был скитальцем одновременно добровольным и вынужденным. Вынужденным из-за революции 1917 года, после которой он убедил себя, что больше не может сочинять и в то же время давать концерты, а добровольным – потому что на Западе он мог поселиться где угодно, но продолжал мотаться между континентами. Поначалу Рахманиновы не могли представить себе жизнь в Америке, поэтому останавливались в Дрездене, Париже, Италии, где им было комфортно и где Рахманинов чувствовал настрой, они даже построили виллу (Сенар) на берегу Фирвальдштетского озера, но, когда путешествовать через Атлантику стало опасно из-за нацистов, осели в Беверли-Хиллз, Калифорния, – месте, которое привлекло их райским климатом и большой общиной русских эмигрантов. Там во время Второй мировой войны Рахманинов и скончался. Проживи он дольше, то, несомненно, после того, как в море и небе все успокоилось, вернулся бы к кочевому образу жизни и, возможно, построил бы новый Сенар на берегу какого-нибудь горного озера в Центральной Европе. Дело в том, что, утратив Россию, он уже не мог найти ей замену ни в одной стране мира. Да и не хотел.
Не стоит пытаться соотнести творческие периоды Рахманинова с местом его нахождения, искать, в каких местах он сочиняет и сочиняет хорошо, а в каких – нет. Тем не менее каждому, кто изучает его биографию и творчество, ясно, что 1917 год делит его жизнь на две половины: после отъезда из России его вдохновение ушло и не возвращалось, где бы он ни находился. Потому ли это произошло, что лютая тоска по родине забирала всю его психическую энергию, или потому, что он попросту исчерпал тот творческий дар, которым был наделен, и теперь, в 1917 году, муза его покинула, – определить невозможно[34]34
Концертные исполнители тоже творческие люди, но другого плана, чем композиторы: игра на фортепиано или виолончели требует отточенных физиологических и анатомических навыков, а также ума, памяти и глубокого понимания музыки, но в их профессии необязателен этот таинственный источник вдохновения, который мы, за неимением лучшего термина, называем «гением». Композиторы-пианисты вроде Шопена и Листа должны были обладать всеми этими талантами, чтобы стать великими в обеих областях, на что, конечно, претендует и Рахманинов.
[Закрыть]. Но утверждение о том, что всему виной нехватка времени, просто глупо;, абсурдно оправдание его русской родни, заключающееся в том, что он был так занят упражнениями в игре на фортепиано и концертами, что не успевал сочинять[35]35
Один из его потомков пытался привести этот довод ему в оправдание в документальном фильме, снятом Би-би-си в 2010 году: он утверждал, что Рахманинов вполне мог писать такие же великие концерты и сонаты, как те, что он создал в России, если бы ему не нужно было зарабатывать горы денег, чтобы обеспечивать Наталью с дочерьми.
[Закрыть]. Он сам раскрыл причину в своем публичном заявлении, данном газете «Дейли телеграф» в 1933 году: «Все те семнадцать лет, что я провел вдали от родины, я чувствовал, что неспособен больше творить… Конечно, я все еще пишу музыку, но теперь это значит для меня совсем не то, что раньше». По крайней мере, он не лицемерил, как его семья. Если бы дело было в деньгах, Рахманиновы могли бы есть меньше икры и строить меньше вилл[36]36
Я не могу передать, насколько это наивное объяснение: он перестал писать музыку, потому что у него не было времени из-за постоянных концертов. Нет никаких сомнений в том, что их действительно было много: после 1920-го он каждый год давал десятки концертов – однако Рахманиновым необязательно было жить на столь широкую ногу, ездить отдыхать с континента на континент, строить европейские виллы. Утрата родины – России – принесла с собой утрату вдохновения, на что биографы обычно закрывают глаза.
[Закрыть].
С биографической точки зрения Рахманинов рано расцвел, и поэтому его трудно измерить. Он не относился ни к вундеркиндам, как Моцарт и Мендельсон, ни к композиторам противоположного типа, которые медленно созревают и лучшие свои произведения пишут на склоне лет, как Бетховен и Шуберт. Свои самые известные и популярные произведения Рахманинов написал в России лет в двадцать-тридцать. В 1913 году, когда над Европой стали сгущаться тучи войны, а дома усиливались волнения, ему исполнилось сорок, после этого он сочинял очень мало и почти ничего – в последующее десятилетие, когда бежал из России и осел за границей. В конце 1920-х он испытал petit renaissance[37]37
Маленькое возрождение (фр.). (Прим. переводчика)
[Закрыть] и сочинил Четвертый концерт для фортепиано, но теперь ему было уже за пятьдесят и его творческое пламя почти погасло. В последнее десятилетие своей жизни, когда ему было за шестьдесят, он почти совсем ничего не написал, за исключением помпезной Рапсодии на тему Паганини, которая едва ли подняла его композиторский уровень.
Показательно сравнить Рахманинова с Шопеном, которого он ценил превыше всех и как композитора, и как пианиста[38]38
Никто в здравом уме не будет отрицать, что он восхищался и многими русскими композиторами от Глинки до Чайковского, однако Шопен, по мнению Рахманинова, был уникален. Никакой другой композитор не оставил столь ощутимого следа в его произведениях, особенно в сонатах, концертах, прелюдиях и опусе 22, Вариациях на тему Шопена.
[Закрыть]. Оба были виртуозными пианистами, оба – политическими изгнанниками из восточноевропейской страны, полжизни проведшими на чужбине и так и не вернувшимися домой, оба могли похвастаться богатством, утонченностью, хорошими манерами и принадлежностью к аристократическому обществу, оба часто болели, страдали от ипохондрии и острой меланхолии, оба расцвели скорее рано, чем поздно, лет в двадцать. Шопен добровольно остался в Париже, Рахманинов – в Западной Европе и Америке. В ноябре 1830 года, когда в Варшаве вспыхнула революция и новообразованное Царство Польское попыталось сбросить с себя ярмо России, юный Шопен находился в европейском турне и ехал из Вены в Париж, где и остался из солидарности со своими братьями-поляками, предпочтя жизнь в изгнании. Точно так же и Рахманинов бежал из России, подобно многим другим. Рахманинов осознавал свое сходство с Шопеном и находил удовольствие в этих параллелях. К тому времени как Рахманинов окончил Московскую консерваторию, Шопен уже был в России музыкальной знаменитостью и славянским кумиром среди интеллигенции[39]39
Еще до рождения Рахманинова стали появляться короткие биографии Шопена, как, например, анонимная «Краткая биография Шопена» (Санкт-Петербург, 1864). Полноценную биографию, написанную Листом по-французски и изданную в Париже в 1852-м, через три года после смерти Шопена, выпустили в русском переводе до того, как Рахманинов закончил консерваторию в 1891-м; см. Ференц Лист, «Ф. Шопен» (Санкт-Петербург, 1887). В последующие годы издавались короткие популярные биографии, включая сочинение Лидии Карловны Туган-Барановской «Фр. Шопен, его жизнь и музыкальная деятельность» (Санкт-Петербург, 1892). В 1899-м, когда Рахманинов приступил ко Второму концерту, в обоих главных городах России широко отмечалось пятидесятилетие смерти Шопена. Помимо журнальных статей того года, как минимум еще одна популярная книга рассматривала музыкальную деятельность Шопена и его жизнь в изгнании: Г. Тимофеев, «Фридерик Шопен: очерк его жизни и музыкальной деятельности» (Санкт-Петербург, 1899).
[Закрыть].
Но вдохновение Шопена в Париже, вдали от Польши, расцвело, тогда как вдохновение Рахманинова в Америке иссякло. Разница соотношений их вдохновения и местонахождения поразительна. Однако наивно предполагать, что ностальгия Шопена – его польская żal, печаль – до конца жизни подпитывала его музу, подвигая на бесконечные мазурки, тогда как русская тоска Рахманинова его уничтожила. Свое влияние оказали и другие факторы. Разница между ними в области ностальгии указывает на общий недостаток чего-то в Рахманинове, но не дает исчерпывающего объяснения. По моему мнению, тоска была главной эмоцией Рахманинова и сильнее всего повлияла на его характер, однако у него были и другие эмоции, которые нельзя не учитывать. Я считаю, что нужно принять во внимание также его отношение к любви и сексу, болезнь и страдания, его странную скрытность и стойкое ощущение того, что все предопределено. Источник вдохновения у всех художников прячется так же глубоко, как корни тоски по родине у композиторов вроде Шопена и Рахманинова, Но в воображении таких романтических натур, как Шопен и Рахманинов, «родина» и «тоска» зачастую неразрывны. А в таком позднем романтике, как Рахманинов, это соединение вызывало и другие явления, вплетающиеся в ткань его жизни.
* * *
Секс в 1880-е годы, когда формировалась личность Рахманинова, был делом куда более интимным, чем теперь, после того как Фрейд с Юнгом отточили свои методы лечения истерии. Сексуальные отношения держались исключительно за закрытыми дверями, хотя и служили источником пересудов в обществе. В представлениях о сексе еще не фигурировали деление на гетеросексуальность и гомосексуальность, стереотип о том, что знаменитости легко найти себе партнеров, не говоря уже о недавно возникшем новом пуританстве XXI века. В те годы секс воспринимался как законный и незаконный, в браке и вне брака, ассоциировался с проституцией, опасностью забеременеть, риском заболеваний, романтизировался через стереотипы об увлекшихся профессионалками аристократах, влюбленных военных и нераскрытых femmes fatales[40]40
Роковые женщины (фр.). (Прим. переводчика.)
[Закрыть], ждущих, когда на них набросится мужчина. Мир Эммы Бовари и Анны Карениной таился за каждым поворотом бульвара от Парижа до Санкт-Петербурга. Как непохожа была эта картина на еврейский Нью-Йорк в годы Великой депрессии, где Эвелин росла в обществе насквозь пуританском, несмотря на бурные двадцатые.
Жизненный путь Рахманинова рисует его чуть ли не самым асексуальным из людей. В юности у него был всего один роман, притом весьма комичный, с тремя сестрами Скалой, из которых больше всего его поразила младшая, Вера[41]41
Рахманинов называл ее своей музой и посвятил ей свое первое произведение для фортепиано и виолончели.
[Закрыть]. Его увлечение было таким же ветреным, как и ее кокетство, однако вмешались родители, и флирт не перерос во что-то серьезное[42]42
Русский критик Том Емельянов утверждает, не приводя доказательств, что Вера Скалой сожгла любовные письма Рахманинова; см. «Последняя любовь Сергея Рахманинова», «Журналист», 2003, № 9, с. 87.
[Закрыть]. Будущие его ухаживания за двоюродной сестрой Натальей Сатиной были вызваны скорее благодарностью и здравым смыслом, нежели дикой страстью и запретным влечением. Их жизнь после брака и рождения двух дочерей строилась исключительно на порядке и отлаженной рутине. В молодости у Рахманинова было еще несколько эпизодов, когда он, судя по всему, поддался искушению плоти, например, с певицей Ниной Кошиц в Крыму. Но лишь три раза в жизни – впервые в ранней юности, потом в двадцать с небольшим и мимолетно в Америке – он по-настоящему подвергся испытанию сексом[43]43
Его дружба с юной поэтессой Мариэттой Шагинян, «милой Re» из его писем, носила отечески покровительственный характер и была какой угодно, только не эротической. В общении с молодыми женщинами он часто начинал играть роль заботливого и снисходительного отца, словно подражал Василию Рахманинову.
[Закрыть]. Все три случая ничуть не похожи друг на друга и важны для понимания Рахманинова.
Николай Зверев (1832–1893) был полон загадок, особенно его путь к славе виднейшего преподавателя игры на фортепиано в Московской консерватории. Он утверждал, что изучал математику и физику, но не слишком преуспел: ему просто нравились их симметричный порядок и символизм формул. Будучи выходцем из аристократичного семейства, располагавшего миллионами рублей, он мог выбрать себе любое занятие, какое ему по душе, что и сделал. Его школа была единственной в своем роде, и вскоре Рахманинов понял, что никакой другой учитель никогда не окажет такого же влияния на его психику.
Самым неприятным для Рахманинова была сексуальность Зверева: тому нравились мальчики. Рахманинову повезло, что его имя не упоминалось в связи со скандалом, разразившимся в консерватории в самом конце 1880-х, когда Рахманинов там учился, и вызванным слухами о неподобающих сексуальных отношениях между преподавателями и студентами. Канадский историк Дан Хили написал книгу, в которой среди прочего красноречиво рассказывает о том, как проявлялась и регулировалась гомосексуальность в поздней царской России: поскольку раздутый бюрократический аппарат был неудобен для отправления наказаний, режим просто заявлял, что содомитов в России не существует, соответственно гомосексуалистам приходилось прибегать к эвфемизмам, отрицанию и скрытности[44]44
См. Дан Хили, «Гомосексуальное влечение в революционной России: регулирование сексуально-гендерного диссидентства» (М.: Ладомир, 2008), гл. 3 «Эвфемистичность и избирательность. Контроль за содомитами и трибадами».
[Закрыть].
В течение двух десятилетий, предшествовавших 1905 году, законы против содомитов несколько смягчились, поэтому люди вроде Зверева, с деньгами и положением в обществе, могли спокойно предаваться своим сексуальным влечениям, если делали это втайне. Вместо этого он решил вложить состояние в обучение юных пианистов, «зверят», которые жили у него дома. По описанию одного из таких зверят, он был «…высокий, стройный, с аккуратно причесанными седыми волосами, как у Листа, и неожиданно черными кустистыми бровями на гладко выбритом лице… от его доброго отеческого облика будто веяло миром и спокойствием..»[45]45
См. Бертенсон.
[Закрыть]. Другие зверята не соглашались: Зверев кормил их, одевал и руководил их образованием, однако его дом был не просто «школой фортепиано» – он олицетворял образ жизни, подобный которому, да и то редко, встречался в Германии и Польше[46]46
Домашний «пансион» Зверева был единственным заведением такого рода в России. Подобный пансион устроил у себя дома немецкий поэт и издатель Штефан Георге (1868–1933), чья гомосексуальность была хорошо известна в Германии; там он обучал мальчиков поэзии и посвящал некоторым из них любовные стихотворения, однако нет никаких свидетельств, что об этом знали в России.
[Закрыть].
Было и другое подозрительное обстоятельство. Зверев учил игре на фортепиано жен офицеров и меценатов, но все остальное в его жизни говорило о том, что он презирает женщин. В своих безумных фантазиях он воображал некую противоположность османского гарема. Мечтал о вагнерианском монашеском ордене, живущим игрой на фортепиано, в котором он был бы Амфортасом на троне. Он и его зверята могли существовать на хлебе и воде в спартанских условиях: ни женщин, ни мебели, ни ласки, ни дома в широком смысле слова – только несколько обветшалых фортепиано.
Зверев был сражен, когда впервые услышал игру двенадцатилетнего Рахманинова. Кузен Зилоти предупредил Любовь Петровну и ее сына, чего можно ожидать от самого известного преподавателя игры на фортепиано в Москве, но сам Зверев был не готов к тому, что услышал и увидел, – к появлению высокого крепкого парня, крупного для своих лет, с огромными ручищами и хмурым лицом, дышащего зрелостью и отбрасывающего задумчивую тень. Зверев никогда не слышал, чтобы ребенок так искусно исполнял этюды Листа, даже его лучший ученик Зилоти, которого он отправлял учиться у самого Листа. Зверев тотчас принял Рахманинова в свою «школу», а позже обеспечил ему место в Московской консерватории. Любовь испытала облегчение: Рахманинов завалил все предметы в обычной школе. Но теперь ее сын пристроен; она поцеловала Зилоти за его доброту и трижды перекрестилась. Сергей станет великим пианистом, как Шопен и Лист. О большем нельзя и мечтать.
На протяжении всей истории человечества матери идут на жертвы ради ребенка, пытаясь таким образом искупить вину за собственные неудачи. Те, кто не смог стать знаменитостью, особенно в музыкальном мире, зачастую питают честолюбивые мечты о будущей славе детей. В имперской России 1870-х годов у Любови не было возможности достичь высот, но, как и многие русские матери, она желала, чтобы хоть один ее ребенок сделал карьеру в музыке.
В доме Зверева жило семь мальчишек в возрасте от одиннадцати до шестнадцати. Они неустанно упражнялись на фортепиано и следовали строгому распорядку, требовавшему от них четкости и ответственности. Зверев учил мальчиков гармонии и сольфеджио, но, к облегчению юного Рахманинова, не давал им арифметики, географии, истории и даже истории музыки. Им приходилось неукоснительно соблюдать расписание: вставать и ложиться по часам, в дни занятий вставать раньше, чем обычно, чтобы поупражняться лишние три часа, а самое главное – они должны были упражняться по два часа в день под наблюдением сидящего рядом Зверева. Рахманинов подчинялся, но недоумевал, почему Зверев составил такое сложное расписание.
Ему неловко было сидеть каждый день рядом со Зверевым, и дело было не в физической близости, а в том, что Зверев постоянно касался его рук, запястий, ладоней: опускал локти или двигал запястья в другом направлении. Часто казалось, что он хочет придвинуться ближе. Зверев был холост, «зверята» составляли весь смысл его жизни. Рахманинов признавал, что он лучший учитель игры на фортепиано в Москве, и в совсем раннем возрасте готов был смириться с нежеланной близостью, если бы Зверев позволил ему сочинять, ибо он уже сочинял небольшие произведения – прелюдии, ноктюрны, фрагменты, – в которых выражал свои грезы и воспоминания о времени, проведенном с отцом и бабушкой.
Как хорошо он их помнил! В Онеге, имении, где прошло его детство, Василий часто сталкивал мальчиков в воду. «Если вы не научитесь плавать лучше, то можете утонуть», ласково предостерегал он. Василий щипал их, смешил, давал монетки, чтобы послушать шарманщика, и переодевал в сухое. Он был полной противоположностью строгой, вечно упрекающей матери.
Дети-композиторы не могут внятно объяснить, почему сочиняют музыку, но периодически их подвигают на это и естественные порывы, и побуждения со стороны взрослых. Для Рахманинова в одиночестве предаваться творчеству было совсем не то же, что механически упражняться на фортепиано: он уже познал блаженство от нахождения наедине со своим ничем не сдерживаемым воображением, и только Зверев ему мешал[47]47
Упражнения в игре на фортепиано в консерваториях конца XIX века и особенно в частных школах вроде зверевской не были уединенным занятием: ученики играли вместе, зачастую все в одной комнате, где стояло несколько фортепиано, несмотря на шум и какофонию; учителя часто сидели рядом с ними, за одним инструментом, играли с ними в четыре руки или поправляли их руки, как делал Зверев, но даже когда ученики упражнялись одни, они слышали своих товарищей в соседних комнатах. Одним из соучеников Рахманинова в пансионе Зверева был Матвей Пресман, которого настолько занимал высокий крепкий парень, что он оставил о нем множество воспоминаний. Его записки, попавшие в сборник «Воспоминания о Рахманинове» под ред. З.А. Апетян (Москва, 1988), наглядно повествуют о том, в какой маниакальной манере сочинял четырнадцатилетний композитор: «Он стал очень задумчив, даже мрачен, искал уединения, расхаживал с опущенной вниз головой и устремленным куда-то в пространство взглядом, причем что-то почти беззвучно насвистывал, размахивал руками, будто дирижируя. Такое состояние продолжалось несколько дней». Контраст между стремлением Рахманинов к уединению и их совместными занятиями на фортепиано не мог бы быть еще резче.
[Закрыть].
Мальчики спали все вместе в большой комнате на верхнем этаже дома. Примерно половину времени они упражнялись в маленьких комнатках с фортепиано самостоятельно и половину – под присмотром Зверева. В течение трех лет Рахманинов следовал правилам, но, когда попросил об отдельной комнате, где он мог бы писать музыку, разразился кризис. Рахманинов сказал Звереву, приводя все весомые аргументы, какие только мог найти, что ему нужны тишина и уединение. Зверев отказался, их отношения ухудшились, они стали обвинять друг друга в разных промахах. Наконец Сергей решил уйти. Он бы уже давно сбежал, если бы не боялся наказания со стороны матери и осуждения Зилоти. Сам Чайковский признал Зверева величайшим учителем игры на фортепиано в России; по его словам, никто не отказался бы от принадлежности к избранным питомцам великого учителя, включая Скрябина, которого Зверев наряжал в кадетскую форму. Наверняка Рахманинов воображал, какой каре подвергнет его Любовь Петровна, и это тревожило его сильнее, чем скандал из-за оценок и раздражающая привычка Зверева касаться его коленом.
Как непохоже все это было на занятия Эвелин с Аделью, часовые встречи раз в неделю, свободные от эмоциональной близости и уж тем более от необходимости делить с кем-то спальню под надзором почтенного мастера, окруженного своими зверятами. Представьте, что было бы, если бы юный Сергей подверг сомнению авторитет учителя, как Эвелин, которая вопреки советам Адели настаивала, что хочет играть на дебютном концерте музыку Рахманинова.
Однако именно так он и поступил. Ему было почти шестнадцать, и он мог оценить последствия побега. Куда ему идти? Денег у него не было. Любовь Петровна, бабушка Бутакова, кузены Зилоти и Скалой, тети и дяди из Петербурга и Москвы – никто не платил за него Звереву ни рубля, потому что Зверев принимал к себе учеников бесплатно. Рахманинова волновали не деньги, а кое-что другое.
Куда ему идти? Перед ним стояла вечная дилемма дома: сначала он лишился Онега, потом петербуржских квартир (даже когда мать Любовь останавливалась в городе у родственников). Теперь ему приходилось бежать и из зверевской тюрьмы: виновниками всегда оказывались мужчины, как его распутный отец Василий (как бы Сергей его ни любил), тогда как женщины выступали хранительницами дома (впоследствии эту роль исполняла его жена Наталья). Не нужно быть специалистом по культурной антропологии, чтобы понять, почему Рахманинов до самой смерти придавал такое значение дому: он с ранних лет жизни познал, что дом – это символическое место, по своей природе связанное с творческим импульсом. Правильный дом с благоприятной атмосферой способствует вдохновению. Вне дома, вне Онега, вдохновение исчезает. Однако дом, как интуитивно чувствовал Рахманинов, необязательно должен быть физическим, он может быть психологическим, временным, пространственным, выражаться в тоске по «абстрактному месту». Папа Василий тоже олицетворял дом и был изгнан суровой Любовью[48]48
Безо всякого психоанализа можно предположить, что она была калечащей матерью-деспотом, не придававшей никакого значения тому, насколько все три ребенка обожали отца. Вдобавок юному Рахманинову пришлось переехать из просторного уединения деревенской усадьбы в пропитанную гомоэротической атмосферой, общую для всех «зверят» спальню в городском доме Зверева; такая тяжелая перемена потрясла бы даже подростка с самой устойчивой психикой, каковым нельзя назвать нарциссического и уже чувствующего депрессию Рахманинова. В довершение ко всем этим физическим и психологическим потрясениям шло вмешательство властной Любови во все домашние дела: она предъявляла мужу суровые ультиматумы, изгнала его, когда он не подчинился, сама разбиралась со всеми финансовыми и политическими опасностями, угрожавшими их имениям (у них было несколько имений), сама решила, куда пристроить сыновей (Рахманинов был младшим), и давила на пианиста-сына, требуя продвижений в музыкальной карьере. Даже смерть ее дочери Елены (та была на семь лет старше Рахманинова) от анемии не могла подорвать ее решимости и силы воли. Любовь умерла в России в 1929-м, когда ей было девяноста три года, всего на четырнадцать лет раньше Рахманинова. Очень важно также при отсутствующем отце психологическое разделение в сознании Рахманинова двух главных менторов его юности: матери и Зверева – каждый из которых каким-то образом травмировал его. В напряженной атмосфере школы Зверева Рахманинов старался стать «великим пианистом», в то же время отделяя себя (действующая психоаналитическая концепция) и от матери, с которой у него была сильная эдиповская связь, и от героя-учителя, у которого обнаружился фатальный недостаток, порочная сексуальная слабость.
[Закрыть].
Практическая сторона вопроса поджимала: Рахманинов должен был уйти, но у него не было денег чтобы поселиться где-то еще. Некоторое время, в 1889-м, когда ему было всего шестнадцать, он терпел, но потребность писать музыку казалась более важной, чем оттачивание ладов и этюдов, и он снова обратился к Звереву. Вспыхнула ссора, наставник замахнулся на него. Рахманинова потрясло, что учитель может его ударить. Зверев в гневе написал Любови Петровне о том, что ее сын хочет уничтожить свою карьеру. Властная Любовь Петровна призвала учителя с учеником на семейный совет, заранее решив, что Рахманинов должен вернуться в когти Зверева, потому что у него должна быть карьера и Зверев – вернейший путь к ее устройству.
Хотя Любовь Петровна и председательствовала на этом совете, инициатором был Зилоти. Он обратился к тетушке Варваре Сатиной, сестре Василия, и посвятил ее в ситуацию, умоляя вмешаться и воспрепятствовать Любови, даже если, в конце концов, она все равно добьется своего. Убежденная в том, что сын во что бы то ни стало должен прославиться как пианист, Любовь Петровна приехала из Петербурга, чтобы его спасти, и на совете все согласились с ней: Рахманинов должен остаться у Зверева либо вернуться в Санкт-Петербург. Только тетя Варвара Сатина встала на его сторону. Она предложила бесплатно поселить его в своем московском доме и выделить комнату, где он мог бы сочинять музыку. С ним будут обращаться, как если бы он был ее собственным сыном. Это удовлетворительное для юного Рахманинова решение и было принято на совете, но перед ним снова встал мучительный вопрос дома, вызывавший в нем сильное эмоциональное напряжение[49]49
По сути, это было одним из главных событий в начале его жизни. Тетя Сергея Варвара, урожденная Рахманинова, вышла замуж за состоятельного московского купца Александра Александровича Сатина. После того как в 1889 году Рахманинов поселился у них дома, с ним обращались как с сыном, с пятым ребенком. Одна из младших дочерей, Наталья, впоследствии стала его женой. Биологически они были двоюродными братом и сестрой, но в психологическом плане – родными: старший брат женится на младшей сестре. Показательная вырисовывается картина, особенно если смотреть со стороны: в течение всего нескольких недель Рахманинов меняет место жительства, бросает учителя, у которого провел четыре года, и никогда больше с ним не разговаривает, заменяет уроки игры на фортепиано уроками композиции, что усиливает его представление о себе как о композиторе, находит себе суррогатную семью своей тетки и ежедневно общается с ее дочерью, на которой впоследствии женится. Рахманинов был не из тех, кто желает вырваться из лона семьи.
[Закрыть].
Но на этом l'affaire Zverevienne[50]50
Неприятная ситуация со Зверевым (фр.). (Прим. переводчика.)
[Закрыть] не закончилась. Варвара Сатина была неглупа: у нее были свои демоны, и ей периодически приходилось «лечить нервы», после того как она вышла замуж и выносила мужу четверых детей. С появлением каждого ребенка она страдала от некой разновидности послеродовой депрессии, что вкупе с сеансами гипнотерапии крайне развило ее интуитивное понимание себя. Благодаря этому усилившемуся восприятию она распознала невероятный музыкальный талант в племяннике. К тому же в частных кругах ходили слухи о Звереве и его «зверятах». Еще четыре года назад, в 1885-м, когда племянник только поступил к «кошмарному Звереву» и поселился в его монашеском пансионе, она заподозрила, что спартанская дисциплина Зверева служит суррогатом для чего-то еще.
Теперь она узрела его деспотизм своими собственными глазами, в своей гостиной. Она преисполнилась решимости спасти племянника, не дать ему и дня прожить в этом ужасном месте. После четырех лет тягот в зверевском «гареме», как язвительно называл это заведение Танеев, новый учитель Рахманинова по музыкальной композиции, Сергей наконец-то получил собственную комнату. Она находилась на верхнем этаже особняка, и в ней было маленькое, но очаровательное окно с видом на площадь перед домом и купола далеких церквей. Когда оно было открыто, от церквей доносился звон колоколов, навевая воспоминания об Онеге. Задолго до Пруста Рахманинов интуитивно чувствовал, что звуки и запахи важны для пробуждения памяти. Возможно, это не настолько отразилось в его музыке, как мы увидим, чтобы повлиять на его оценку как композитора. Тем не менее он сделал колокола главным символом своих личных религиозных воззрений, представлявших собою смесь православных ритуалов и детских фантазий о постоянном доме, в котором были бы и мать, и отец.
Его ждало и другое испытание. Летом 1894-го, проведя пять лет в лоне великодушного семейства Сатиных, двадцатиоднолетний Рахманинов решил, что настало время покинуть гнездо. Вместе с одноклассниками они сняли квартирку в центре Москвы в доме под названием «Америка», но выяснилось, что такое предприятие ему не по силам. По уже сложившейся закономерности за кризисом у него всегда следовала болезнь, хотя и неопасная, вот и в тот раз началась лихорадка.
Сатины не только поселили его у себя в Москве и всячески поддерживали, но и брали с собой в свое имение Ивановку, к юго-востоку от Москвы. Какой контраст, думал Рахманинов, с северными лесами Онега, которые он так любил, и с крымскими скалами, куда Зверев возил своих «зверят» летом. Возможно, юношеское воображение усиливало в его глазах привлекательность Ивановки, а может быть, дело было в том, что здесь собирались все родственники – весь микрокосм его мира. Сатины, Скалой (семья Веры), Зилоти – все приезжали сюда.







