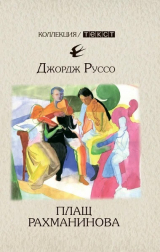
Текст книги "Плащ Рахманинова"
Автор книги: Джордж Руссо
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 18 страниц)
К 1930-м Голицын, уже приближавшийся к шестидесятилетнему возрасту и зениту своей врачебной карьеры, стал широко известен в медицинских кругах Лос-Анджелеса. В русском эмигрантском сообществе он был самым значительным русским врачом вне зависимости от специализации. Поэтому, когда Рахманиновы попали в Беверли-Хиллз и стали искать себе семейного доктора, который обязательно был бы русским, их выбор естественным образом пал на Голицына. Рахманинов был мировой знаменитостью, и любой врач, эмигрант или нет, считал бы за честь его лечить.
Скорее всего, они встретились летом 1941 года через общих знакомых русских эмигрантов в Лос-Анджелесе. Рахманиновы и Сатины прекрасно знали, кто такие «князья Голицыны», и были рады заиметь князя семейным доктором. У доктора с пациентом было так много общего – прошлое в Российской империи, принадлежность к дворянскому сословию, бегство от красных, разница в возрасте всего три года, – что даже скрытный Рахманинов чувствовал себя с ним комфортно.
Невозможно сказать наверняка, поведал ли Рахманинов Голицыну о своем давнем нервном срыве, чтобы дать ему представление об истории болезни, но можно предположить, что он рассказал о своей усталости и новом кризисе, в который впал теперь, когда ему было почти семьдесят. Но даже если и так, Голицын не оставил свидетельств: в его документах ни слова не говорится о Рахманинове.
Жены Наталья с Любовью тоже были почти ровесницами, у обеих мужья прошли через ад, и это их роднило – они легко сошлись, стали навещать друг друга, вместе пить чай по-русски, с лимоном. В те годы отношения врачей с пациентами даже в Америке еще не были такими сдержанными, какими стали позже, а белоэмигранты и вовсе не придерживалась формальностей в отношениях друг с другом. Женщины за самоваром вспоминали о прошлом и обсуждали новый мир, который обрели здесь, по соседству с Голливудом.
Наверное, Голицын жадно слушал знаменитого пациента, когда великий пианист заходил в его темный кабинет, покрытый экзотическими коврами цвета красного вина. Голицын понимал источники глубокой скрытности пациента, выраженной в приглушенном голосе с русскими модуляциями, и сочувствовал его выгоранию. Рахманинов сказал, что уже много лет чувствует усталость из-за бесконечных передвижений по миру, его тело начинает разрушаться. Однако Голицын не был психиатром, как Даль; он сопереживал, понимал болезненную ностальгию сидящего перед ним экспатрианта и пытался помочь, но он был инфекционистом, а не Зигмундом Фрейдом. Конечно, они все-таки были соотечественники, даже если Рахманинов едва открывался, чувствуя, как ему повезло, что он попал к русскому доктору из Старого Света, а не к какому-нибудь голливудскому выскочке.
Среди символических даров Голицына пациенту был тот, которого Рахманинов никак не ожидал.
* * *
Я предоставил эти сведения, потому что среди записей Эвелин содержится набросок дневника Ольги Мордовской о последних днях жизни Рахманинова. Эта невнятная повесть написана собственной рукой Эвелин и не содержит ссылок на источники. Откуда Эвелин его взяла? Может быть, Эвелин составила его со слов Дейзи? Может, они сочинили его вместе?
Но каков бы ни был источник, этот набросок оказался самым длинным из всех записей Эвелин. Вне зависимости его значения в жизни самой Эвелин, этот набросок отображает внутреннее ощущение Рахманинова, что ему не избавиться от пожизненной болезни – ностальгии, которую я считал главной причиной его творческих неудач после эмиграции. Никто из биографов не ставил под сомнение психологический эффект ностальгии: уж точно не Бертенсон, не Серов и не два десятка других. Но вопрос, на который никто из них не пытался ответить, состоит в том, как это ностальгия повлияла на его сочинения после 1917 года: на ограниченность воображения, неспособность к стилистическим экспериментам.
Я пришел к заключению, что Эвелин сама сочинила «Дневник сиделки», потому и стала затворницей, изолировалась от мира: она размышляла и записывала. Сначала соединила воспоминания Дейзи с упоминанием Бертенсона, давшего сиделке имя, которое не могла предоставить Дейзи. После этого стала работать над дневником, как писатель над романом: это была всепоглощающая страсть, вытягивающая из нее энергию, даже когда она не добавляла в повествование ничего нового. Закончив, Эвелин умерла удовлетворенная, убежденная в том, что совершила «открытие», с чувством выполненного долга.
Сделаем отступление: Дейзи много чего рассказала Эвелин о последних днях жизни Рахманинова. Но она никак не могла рассказать (потому что сама не знала), о чем говорили Рахманинов с сиделкой. Чтобы реконструировать их разговоры, нужен был человек с богатым воображением – как у Эвелин. Поэтому Эвелин приступила к работе (не зная, конечно, что ее конец уже близок). Ей удалось эту работу закончить, и она упокоилась с миром, довольная тем, что поняла нечто важное о своей жизни и, возможно, о жизни Ричарда. Все это сквозь призму судьбы Рахманинова.
Эвелин писала от руки, даже деловые письма. Ее почерк никогда не был отчетливым, а с годами стал еще корявее – рука ослабела, и она все сильнее давила на перо (помню, в последние несколько раз, что мы виделись, ей больно было нажимать на ручку из-за артрита). Последние абзацы в «Дневнике сиделки» гораздо неразборчивее, чем первые.
Остается еще одна возможность. Допустим, этот дневник существовал в действительности: то есть его написала сама Ольга Мордовская, а после их с Рахманиновым смерти унаследовала Софья Сатина вместе с остальным архивом Рахманинова, перешедшим от мужа к жене, а от нее – к свояченице. В1943 году Мордовская уже была старой и после этого прожила недолго. Но ее «Дневника» нигде не найти. Все бумаги Софьи Сатиной составляют основу архива Рахманинова в Библиотеке Конгресса в Вашингтоне, но «Дневника» среди нет, как нет его и в архивах уже упомянутого Гуверовского института. Но допустим, «Дневник» не перешел к Сатиной и остался в Лос-Анджелесе, где попал к какому-нибудь торговцу, выставившему его на продажу в семидесятых. Эвелин могла купить его только по дешевке, что было вполне возможно, учитывая, что фигура Рахманинова тогда еще вызывала весьма незначительный интерес. К концу 1970-х финансовые возможности Эвелин сильно снизились, и ветхая мебель в ее квартирке на Венис-бич ясно давала понять, что она едва сводит концы с концами. Если «Дневник» действительно существовал на русском и если Эвелин его купила, она не смогла бы заплатить за перевод на английский.
Все эти предположения слишком надуманные и вызывают слишком много вопросов, на которые нет ответа, например, вопрос с исчезновением «Дневника». Как мог человек, нашедший такую редкую и важную для него рукопись, уничтожить ее или потерять? Почему Эвелин не отослала ее мне в целости и сохранности вместе со своими записями?
Так что, скорее всего, такого дневника никогда не было, Эвелин сама сочинила его, опираясь на несколько источников, – в точности как я собрал эти мемуары из ее записей и множества других источников, включая прочитанную ею литературу, воспоминания Дейзи и мои представления об искалеченной жизни Эвелин. Внутренний мир Эвелин, населенный Ричардом и Рахманиновым и существовавший для них, был настолько богат, что она с легкостью могла сочинить «Дневник сиделки». Ее собственная психология была отмечена тремя трагедиями: несостоявшейся карьерой, смертью Ричарда и смертью Сэма. И только Рахманинов – он сам и его музыка– соединяли их, даже в часы самого черного отчаяния. И в своих последних записях она дала ему лучшее, на что была способна, – сочинила «Дневник сиделки».
Эвелин писала неоформленными предложениями, полными пропусков. Немногие можно привести здесь в первозданном виде, потому что большинство из них слишком непонятны. Только соотнеся с остальными записями и расшифровав ее почерк, я смог реконструировать эту повесть сиделки. Но я взял на себя вольность закончить ее, поэтому теперь я такой же автор «Повести сиделки», как и Эвелин. Реконструируя ее, я задумался, не записывала ли Эвелин слова Дейзи, а потом потеряла свои записи и впоследствии, возможно через несколько лет, воспроизвела их на страницах, которые отослала мне. Или же «Повесть сиделки» была целиком и полностью сочинением Эвелин: Дейзи лишь подкинула ей идею, которая захватила ее, несколько лет занимала все ее мысли, пока она наконец не написала эту повесть, отражавшую ее собственное видение того, каким человеком был Рахманинов.
Повесть сиделки
Нижеприведенный текст – описание последних дней Сергея Васильевича Рахманинова сестрой милосердия О. Г. Мордовской[134]134
Напоминаю читателю, что это та же самая Ольга Мордовская, чьи воспоминания вошли в сборник М.В. Добужинского «Памяти Рахманинова». Однако воспоминания Ольги Мордовской, предоставленные ею Софье Сатиной в 1946 году, отличаются от «Повести сиделки» из этой книги: они сводятся к отчету о ежедневном самочувствии композитора, его диагнозах и симптомах. Эвелин не знала о существовании сборника Добужинского и о том, что в нем есть глава Мордовской. Если – очень большое если – Эвелин каким-то образом нашла рукопись Мордовской, в ней вряд ли бы содержался тот же материал, что и в сборнике Добужинского, и еще менее вероятным было бы предположение, будто Эвелин нашла где-то в Лос-Анджелесе рукопись, на русском или на английском, послужившую основой для рассказа Мордовской из сборника 1946 года. Я почти уверен, что Эвелин выдумала «Повесть сиделки», разочарованная тем, как последние дни Рахманинова представлены в биографии Бертенсона и в рассказах Дейзи. Существует возможность, что та же Ольга Мордовская, опубликовавшая короткий медицинский отчет, написала и более длинный неопубликованный личный рассказ о знаменитом пациенте, который потом нашла Эвелин. Однако это маловероятно. Скорее Эвелин хотела составить свой собственный символический рассказ о последних днях Рахманинова, дополнявший историю ее собственной жизни, основанную на ностальгии и чувстве утраты. Место действия ее «Повести» – дом № 610 на Северной Элм-драйв, вокруг которого она так часто гуляла; этот дом служил средо-точением ее ностальгии, местом, где она могла представить, что встретиться с великим композитором – ее судьба. Я верю, что «Повесть сиделки» – неотъемлемая часть ее погони за Рахманиновым и финальный объект ее ностальгии.
[Закрыть].
Я, Ольга Мордовская, сестра милосердия, родилась в Петровском в 1881 году. В тринадцать лет я стала кормилицей у князей Голицыных и освоила мастерство повитухи. В 1898 году юный князь Голицын, Александр, второй сын великого Владимира Михайловича – тот был еще полон сил, хоть и в возрасте, – предложил мне пройти обучение и подняться до настоящей сестры милосердия. Я поступила к опытным наставницам в школу медсестер в Иванове, рядом с Петровским, и они обучили меня приемам своего ремесла. Я оставалась с ними до 1901 года. Потом вернулась в усадьбу Голицыных и до мятежей 1905 года жила там. После всех этих политических волнений мои дорогие Голицыны перебрались в московское укрытие, где в страхе стали задумывать бегство, а когда началось кровопролитие, я бежала вместе с ними.
Князь Александр относился ко мне как к дочери, хотя был не настолько старше, чтобы годиться в отцы; так же относилась ко мне и его жена Любовь, звавшаяся Любовью Глебовой до того, как вышла замуж за князя на рубеже веков. У них было четверо детей – я нянчила их всех. В первые годы XX века все было так запутанно: рождение трех детей (четвертый появился прямо перед революцией 1917 года), ужас политических волнений. Покровское изменилось и после 1905-го никогда уже не вернулось к прежней безмятежности моих детских лет там.
В 1917-м, в год красной революции, через три года после 1914-го, когда разразилась война с Германией, князь бежал на восток и взял меня с собой в Маньчжурию. Любовь держалась храбро, никогда не плакала. Путешествие на поезде через арктический холод и льды длилось два года. Мы спали на холодном полу вагона, как животные, питались цветами и сорной травой, которые собирали на остановках. В Харбине было полно белых, таких же, как мы. Мы могли бы остаться там навсегда, в этом оазисе, ждавшем нас в конце пути через Сибирь и Маньчжурию. Через некоторое время мы поездом добрались до Тихого океана и, переплыв его на большом американском корабле Красного Креста, очутились в Сиэтле. После поезда корабль показался отелем. Вкусная еда, элегантные официанты, удобные кровати. Харбин мы покинули в 1922 году. Мы прибыли в штат Вашингтон, где Александр устроился врачом. Они с семьей были счастливы, нашли славный дом, правда культура тамошнего населения была невысокой. Американцы – очень добрый и дружелюбный народ, но совсем не понимают нашего старого русского мира.
В 1922 году мне было сорок. Я стала брать уроки английского и поступила в колледж для медсестер. Через два года у меня появился диплом, несмотря на плохой английский. Через три года Александр сказал нам, что русским эмигрантам в Сан-Франциско нужны сиделки. И спросил, не хочу ли я поехать туда. Я ответила согласием: ни мужа, ни детей у меня не было, меня ничто не останавливало, и в Сан-Франциско было больше русских, чем в Сиэтле. Вот только я знала, что буду скучать по Голицыным. И где я буду жить? Александр сказал, что все устроит.
Меня пригласили в богатую семью, живущую на Русской горке; они были ревностными православными и водили меня в кафедральный собор на каждую литургию – такая красота! Они были уже стары, дети от них съехали, внуков не было, и, когда Раин муж умер, я перешла в другую семью на Ломбард-стрит. В Сан-Франциско русские были повсюду и многие хотели иметь сиделок, которые могли бы бегло говорить на их родном языке и были знакомы со старыми обычаями.
В Калифорнии мы жили так, словно все еще находились в прежней России: готовили ту же еду и так же ели, говорили так, как было принято, молились, исполняли ежедневные религиозные ритуалы, пили чай из самовара, ели черный хлеб, засиживались за ужином с русскими друзьями.
Примерно в 1925 году от Александра пришло письмо, извещающее, что они с Любовью тоже перебираются в Сан-Франциско. Я возликовала. Для меня это было как возвращение домой! Мой русский князь стал в Америке уважаемым врачом, и его приглашали в Сан-Франциско. После прибытия они с Любовью купили большой деревянный дом рядом с Русской горкой, чтобы быть поближе к пациентам. Александр ходил в больницу, чтобы осмотреть своих русских пациентов, но не занимался лабораторными исследованиями инфекционных болезней, о которых и так много знал.
Я спросила Александра, можно ли мне жить с ними, и он согласился. Им с Любовью было под пятьдесят, их дети почти выросли. С ними я могла значительно улучшить свой английский. Любовь часто страдала от мигреней, поэтому я ухаживала за ней и молилась о ее здоровье. Но Александр часто отправлял меня частной сиделкой к своим хворым русским пациентам.
Так прожили мы лет пять, пока однажды Александр не сказал, что мы переезжаем в Лос-Анджелес, в шестистах километрах от нас. Я забеспокоилась, ведь я так привыкла к Русской горке и чувствовала себя как дома со своими русскими: мы разговаривали по-русски, вместе ели русскую еду, молились, и я представляла, что умру рядом с ними. Однако Судьба распорядилась иначе.
После стольких скитаний, прошедших с тех пор, как мы покинули Москву, переезд в Южную Калифорнию показался несложным. У Голицыных было не так много вещей в Сан-Франциско, и двое старших детей остались там в колледже. Но из-за того, что я жила во многих домах, мои воспоминания стали обрывочными. Я думала о Петровском, Иванове, снова Петровском, Москве, Харбине, Владивостоке, Сиэтле, Сан-Франциско и об этом новом городе, который все еще был для меня чужим.
Лос-Анджелес у океана был теплее и красивее, чем Сан-Франциско. Мы поселились в квартале под названием Пасифик-палисэйдс у самого океана. Климат был просто райским, но атмосфера не могла сравниться с европеизированным Сан-Франциско. Здесь тоже жили русские, особенно в окрестностях бульвара Санта-Моника, однако здесь не было Русской горки и кафедрального собора.
В центре города было почти столько же людей, сколько в Сан-Франциско, и здесь тоже происходили землетрясения. Прямо перед нашим приездом случилось маленькое землетрясение в Санта-Барбаре. Но люди здесь казались куда богаче. Многие ездили на больших машинах, некоторые – на позолоченных, с огромными окнами. Александр сказал, что я буду пользоваться у русских большим спросом.
Он оказался прав. Я могла выбрать любую семью, даже самых русских из русских. Я становилась уже старой, мне перевалило за пятьдесят. Я выбирала семьи, где почти не было детей. К тому же старики нуждались во мне сильнее всего. Те, кто, как и я, эмигрировал из старой России, однако хранил верность прежним обычаям и образу жизни.
Но этот период не был счастливым. Остальная Америка страдала от экономических невзгод, в меньшей степени затронувших Голливуд, богатый район кинобизнеса. Но и здесь безработных с каждым годом становилось больше. До нас доходили слухи о том, что в Европе к власти пришли нацисты, что Сталин до сих пор угнетает и мучает наш народ и уже миллионы там погибли от голода. Назревали новые войны. Нам повезло, что мы находились за океаном, далеко-далеко от Европы. Подумать страшно, что было бы, останься мы в старой России – после революции нам пришлось бы иметь дело со Сталиным.
В 1937 году ситуация ухудшилась. Александр, все время слушавший радио, рассказал нам о репрессиях и голодных бунтах. Тысячи людей гибли на огромных просторах Советского Союза. Особенно люди вроде меня, привязанные к одному месту, однако военных тоже сажали в тюрьмы, были убиты и тысячи коммунистических чиновников. Полиция была всюду, в стране царили страх и террор.
В 1939 году мы услышали о начале войны, хотя она шла далеко и мы в Калифорнии были в безопасности. Но когда японцы напали на Перл-Харбор, Америке тоже пришлось вступить в войну. Я молилась, чтобы нас не постигла еще одна катастрофа, как та, с революционерами. Иначе куда нам бежать на сей раз?
Но я все еще работала профессиональной сиделкой и пользовалась большим спросом. Несколько месяцев провела в доме на бульваре Санта-Моника с умирающим пациентом Александра, сколотившим состояние на торговле автомобилями, потом перешла к богатому кинопродюсеру в Голливуд-Хиллс. Стояло лето 1941 года, с нападения на Перл-Харбор прошло несколько месяцев, и я отмечала шестидесятый день рожденья.
Вскоре после того я объяснила Александру, что больше не могу работать. Я постарела и устала. Мне нравилась комнатка в Пасифик-палисэйдс с видом на сад, которую Александр оставил за мной, и мне хотелось коротать там свои дни, что я и делала, пока однажды в марте он не пригласил меня в свой кабинет.
Самовар уже вскипел, рядом с ним стояла тарелка сырников с вареньем и сметаной. Я не представляла, что у него за срочное дело ко мне, и вообразила, что мы снова переезжаем, вынуждены бежать, как из Москвы много лет назад. Мудрый добрый Александр усадил меня.
– Ольга, у меня к тебе очень важная просьба.
– Какая?
– У меня есть пациент, Сергей Васильевич Рахманинов, величайший пианист нашего времени.
– Рахманинов!
Я хорошо знала это имя, множество раз слышала его в богатых домах Лос-Анджелеса. Он был легендой.
– Что с ним случилось?
– Мы не знаем, но он очень болен.
– Умирает?
Александр был оптимистом, поэтому ответил отрицательно, но я чувствовала правду.
Я сказала, что на все готова ради Сергея Васильевича. Ему нужна сиделка и компаньонка?
– Да, – ответил Александр. – Ты должна отправиться к нему немедленно и стать для него всем. Я не нашел следов рака, но он угасает. Страдает от хронической усталости и подавленности.
– Какой диагноз?
– Может быть, сердечная недостаточность, а может, что-то еще, но в любом случае для Сергея Васильевича будет величайшим счастьем умереть у тебя на руках.
Помню, как прижала руки к груди, и сама чувствуя смертный холод. Я поняла пророческие слова Александра.
– Ты будешь моим даром этой страдающей семье. Ты должна оградить Сергея Васильевича от назойливых посетителей; ты знаешь, почему он таится света дня и избегает посторонних.
Я поняла свою роль. Александр продолжал:
– Ты успокоишь его в самом конце жизни даже лучше, чем Наталья Александровна. Ты будешь не просто сиделкой. Разве няня Пушкина не была для него самым важным человеком в его изгнании?
Наутро Александр отвез меня с одним чемоданом из дома в Пасифик-палисэйдс в большой дом на Элм-драйв в Беверли-Хиллз. Это была широкая улица с высокими пальмами по обеим сторонам. Дом был укромный, с огромными окнами, но он казался темным внутри, несмотря на яркий солнечный свет на улице. Мне говорили, что Наталья Александровна, любящая жена, как-то приходила в гости к Голицыным, но я ее не застала. Теперь она ждала меня у окна, выглядывая, будто принцесса.
Она любезно приветствовала меня и показала мою комнату на нижнем этаже у выхода в сад. Я видела, что она очень расстроена, едва держится. Она не могла представить себе жизни без Сергея Васильевича, на край света бы отправилась, чтобы ему помочь – по ее словам, – но он был очень болен, и его жизнь приближалась к концу.
Моей задачей было создать для него такую атмосферу, чтобы, вернувшись из больницы, он чувствовал себя как в детстве, в усадьбе Онег.
– В конце должно быть начало, – прошептала Наталья, после того как закончила объяснять, что от меня требуется. Я прошла за ней в комнату больного. Ей было страшно, но она все еще надеялась, что он поправится. С Восточного побережья к ним направлялась Софья Александровна. Путешествие на поезде должно было занять три дня. Как только Сергей Васильевич увидит ее, ему сразу станет легче.
Она особенно настаивала, чтобы я не упоминала о том, как близко мы к Тихому океану. Я должна была притворяться, что мы все еще в старой России за тридцать лет до революции. Должна была делать для него все. Мыть, кормить, поправлять постель, давать лекарство и никогда не отходить от него.
До этого я никогда не встречала этого великого человека и была изумлена его обаянием, любезностью и даже шутками. Он выглядел больным, обессиленным, изможденным, но без устали говорил о своей любви к России и к русскому образу жизни.
Кроме меня, никто не мог просто так зайти в комнату больного, но и мне нельзя было задерживаться там дольше необходимого. Если он говорил или пускался в воспоминания, я должна была слушать и коротко отвечать, но мне нельзя было говорить что-то такое, что могло привести его в возбужденное состояние. Самое главное – нельзя было его утомлять. Софья Александровна будет читать ему, когда приедет. Я должна была только слушать.
Софья Александровна приехала через несколько дней после меня и сразу же прошла к нему. Было еще начало марта. Она бросила чемодан и направилась в комнату больного. Он обнял ее и сказал, что теперь они воссоединились: «Мы вместе, как были в России». Несколько дней спустя она читала ему Пушкина.
В первую неделю дома он был оживлен, всем интересовался – новостями, войной, русской музыкой, своим садом, – даже разминал пальцы и упражнялся на макете фортепиано в кровати.
Но я пишу не для того, чтобы перечислить медицинские подробности, описать, как быстро угас великий человек. Слишком печально вспоминать об этом. Через неделю у него пропал аппетит, на теле появились шишки. Они были повсюду, особенно на торсе. Бледно-красные и гладкие, но выпирающие. Я горевала, оттого что не могла ему ничем помочь, даже с моим медицинским образованием. Дважды в день приезжал Александр, но даже и он ничего не мог поделать с этим чудовищем среди болезней. Шаляпин навещал каждый день – но Сергей Васильевич чувствовал себя слишком утомленным, чтобы разговаривать со старым другом. Он говорил только со мной.
Дни теперь текли медленнее, чем прежде. К середине марта он изменился. Опухолей стало больше, сил в нем – меньше, и он почти ничего не ел. Дальше я привожу только то, что Сергей Васильевич сказал мне в самом конце, перед тем как погрузился в кому последних трех дней. Ибо Сергей Васильевич сказал многое, что захотят узнать грядущие поколения, и прошептал мне слова, которые могли понять лишь двое старых людей из одной и той же старой России, двое людей, смотревших друг другу в глубокие глаза и знавших, что не нужно бояться, если память жива. Я записала все, что он сказал, в тетрадь, прежде чем лечь в постель.
Во-первых, Сергей Васильевич повторил, как счастлив он тому, что может умереть дома. Сказал, что умер бы гораздо раньше, если бы остался в больнице. Едва он вернулся домой, как боль в боку стихла.
Во-вторых, даже в болезни он был самостоятельным. Ему не нравилось, когда кто-нибудь над ним суетился, даже я. Умолял меня не заставлять его есть, потому как у него часто не было аппетита. Он устал от кровати и попросил меня отвести его в сад, где сидел в кресле под теплыми лучами солнца. Он смотрел на солнце часами сквозь колышущиеся ветви деревьев.
Третье – родина. Когда Софья Александровна каждый день читала ему Пушкина, он сжимал ее руку и спрашивал только об одном – о войне в России[135]135
В «Повести сиделки» Рахманинов никогда не называет Россию Советским Союзом, хотя именно так она стала называться; по версии Эвелин, он всегда называл ее только Россией, а ее жителей – русскими. Время как будто остановилось.
[Закрыть]. Я всегда оставалась в комнате больного, когда она была там, и все слышала. С какой жадностью он слушал о победах русских над немцами! Софья Александровна рассказала ему о яростных сражениях в Харькове на Украине. Немцы вернули себе город и убили тысячи русских. Каждый день он спрашивал про Харьков. Когда Софья Александровна сообщила, что немцы снова взяли город, ему стало хуже. А когда казалось, что русские вот-вот отвоюют Харьков у немцев, Сергей Васильевич вздыхал и говорил: «Слава Господу! Боже, дай им сил».
Я часто сжимала его руку, легендарные пальцы, принесшие ему славу. Как-то раз он прошептал, указывая на своего покровителя, святого Сергия, среди окружающих кровать икон, что хотел бы, чтобы все русские в Америке не спали и молились о спасении России. Его голос опустился, задрожал, словно он говорил о чем-то самом святом из всего святого.
Четвертое – болезнь. Все-таки я медицинская сестра. Множество раз, когда Наталья выходила из комнаты, он кричал: «Я тоскую по дому! Я скучаю по родине!» Вспоминал и о других болезнях. Даже до бегства из России, когда он был знаменитым, он тяжело болел. Его милая Re – Мариэтта Шагинян – знала. Он сказал, что любил ее и других молодых женщин тоже. Он называл их: «Милая Re, Нина, поэтесса, леди в белом, как лилии». Я не помню всех имен. Они были и его детьми, сказал он. Я погладила его по голове и сказала: «Успокойтесь, Сергей Васильевич, не утомляйте себя». Но он все повторял: «Тоскую по родине, тоскую по родине», – и, словно в отчаянии, хватался за голову. «Вот моя болезнь. Меня убивает ностальгия». Он все повторял нараспев, чуть не плача: «Ностальгия, ностальгия, ностальгия». Я полчаса его успокаивала.
Пятое – семья. Он всегда говорил о ней тихо и медленно, словно смотрел на далекую звезду. Сказал, что его любовь к России передалась девочкам. И пусть они живут в Париже и Швейцарии, но оттого не менее русские, чем если бы остались на родине. Он сказал, что любовь к своей стране не знает границ между старыми и молодыми. Эта любовь, как кровь, передается от матери к ребенку, а от ребенка – к внукам, и так через поколения. Только русские это поймут.
Но теперь он больше не мог сидеть в кресле в саду: опухоли причиняли ему слишком сильную боль. Однако он говорил о будущем: его главным наследием будет не музыка, а дети. Часто вспоминал свою старшенькую, Ириночку (княгиню Ирину Волконскую): в детстве она часто болела, но выкарабкалась и стала женщиной, испытавшей собственную трагедию, когда ее муж свел счеты с жизнью прямо перед рождением их ребенка. Я молчала. Понимала, почему молодой человек спускает курок, когда не может рассказать жене свою тайну…
Он сказал, что Татьяне, младшей дочери, повезло больше. Им с мужем удалось сбежать от нацистской оккупации в Швейцарию. Мой хрупкий пациент смотрел в никуда и изрекал казавшиеся пророческими слова о своих дочерях. Он называл их «двумя якорями» во время каждого переезда из страны в страну, говорил, что во время каждого приступа болезни представлял, как они бегают с ним по полям вокруг Онега.
Доктор Голицын навещал пациента, по меньшей мере, раз в день и делал ему уколы. Потом стал заходить дважды и делать два укола в день. Наталья чаще бывала у него в комнате, но Софья перестала читать больному Пушкина: Сергей Васильевич не мог сосредоточиться на ее словах. Вскоре Наталья больше не отходила от его постели, но конец еще не наступил.
Уколы облегчили боль, но от них он сильнее уставал. Много спал и бормотал во сне. Иногда его бормотания звучали, как плач ребенка, потерявшего мать: «Россия, мать моя, родина-мать, моя родина». Я подумала, что он бредит. У него уже несколько раз начинался бред.
Иногда он не заканчивал предложений, и они повисали в воздухе. Я возвращалась в комнату, гадая, какое предложение он закончит, потому что иногда он про них забывал. Он больше не был рассказчиком, вспоминающим перед смертью свою жизнь. Теперь он мог произнести всего несколько слов. Моей обязанностью было слушать и записывать.
За день до смерти, 27 марта, он внезапно умолк на середине фразы, словно внутри уже достиг какого-то места, из которого не мог больше видеть никого, кроме себя. Словно был на острове, населенном лишь мертвыми. Неужели это конец, подумалось мне. Наталья вышла из комнаты, сказав, что скоро вернется.
Он продолжил неразборчиво шептать с закрытыми глазами, все медленнее. Его слова путались. Но я знала своего пациента, я могла их распутать. Он спросил: почему мы уезжаем из России? Я ответила, что мы давно уехали, но он меня не слышал. Повторил свой вопрос еще два или три раза, словно снова оживляясь, каждый раз все тише. И когда я опять ответила, что мы давным-давно уехали, он почти засмеялся во внезапном приливе энергии.
– А-а-а, – протянул он, – дразнишь меня, Олюшка, расскажу тебе то, что никому не рассказывал. Мы не уезжали из России, мы никогда не уедем из России, уехать из России было бы самой большой ошибкой, какую я мог совершить.
И он умер, но его слова все звучали у меня в ушах. Повторялись, словно испорченная пластинка. «Мы никогда не уедем из России». Лежа при смерти, он понял ошибку, которая привела к величайшей трагедии его жизни. Я все думала о его секрете. Он никому не рассказывал, это было его тайное знание, которое он хранил всю жизнь. То, что он любил Россию больше жизни. Только мне он это сказал. Но Сергей Васильевич отличался от других русских. Они любили Америку, как я, они могли взять Россию с собой в Америку. Даже доктор Голицын с семьей приспособился к новой стране, и другие русские, у которых я работала. Но только не мой последний пациент, Сергей Васильевич, который умер с разбитым сердцем, потому что слишком долго странствовал, но так и не нашел утраченного дома.
В этом была его загадка. В том, что он был таким великим человеком, писал такую красивую музыку, так замечательно играл на фортепиано и при этом думал, что никогда не сможет вернуться домой. Почему Сергей Васильевич не мог вернуться в своем воображении? Он мог бы снова оказаться в России через свою музыку. Но он говорил, что инструмент внутри него сломан. Я посмотрела на икону своей святой. Моим собственным возвращением домой будет возвращение к Богу. Неужели Сергей Васильевич не доверял Богу? Если бы только в конце я сумела помочь ему вспомнить начало своей жизни.
Упокоился ли он с миром под холмистыми полями кладбища в Вальгалле, где его похоронили несколько недель спустя?







