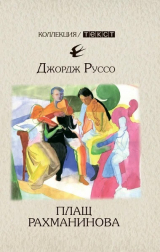
Текст книги "Плащ Рахманинова"
Автор книги: Джордж Руссо
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 18 страниц)
В то лето 1894-го, когда Рахманинов уже пять лет принимал участие в семейной жизни Сатиных в городе и в Ивановке, он втиснул еще и визит к своей бабушке по отцу, матери Василия, отправившись к ней в имение, лежавшее в десяти часах езды на поезде от Ивановки. Там его накрыл неожиданный прилив вдохновения. Он сочинил начальную тему Второго концерта для фортепиано, гуляя по лесам и плавая в озере. В конце августа он в последний раз искупался прямо перед тем, как уехать, побросал в чемодан одежду с нотами и сел на ночной поезд до Москвы.
Вернувшись в город, он слег с перемежающейся лихорадкой. Все разъехались на лето, о нем некому было позаботиться. Его сосед по квартире в «Америке» Слонов распереживался, побежал к однокласснику Юрию Сахновскому, который заявил, что без помощи их друг умрет[51]51
Не стоит недооценивать роль Юрия Сахновского в формировании ранней карьеры Рахманинова: великодушие его семьи по отношению к молодому композитору сопоставимо только с великодушием Сатиных. У самого Сахновского были благие намерения, но не было таланта. Уроки музыкальной гармонии давались ему тяжело, и он предложил русскому преподавателю Ричарду Глиэру бесплатно жить у него в обмен на обучение. Далеко не обеспеченный Глиэр сразу же согласился. У Сахновского была великолепная нотная библиотека в их с матерью элегантном особняке у Тверских ворот, он знал многих в московском музыкальном мире и собирал у себя на вечерах самых разных музыкантов и артистов, включая Рахманинова, который обычно играл собственные сочинения. Стоит отметить, что у Сахновского были партитуры опер Вагнера: «Гибель богов», «Золото Рейна», «Парсифаль», «Зигфрид» – композитора, которого он считал «чудом современной музыки» и чьи партитуры приобрел в Германии в то время, когда их было сложно достать. На вечерах у Сахновского всегда было много алкоголя, и гости, воодушевленные примером хозяина, пили, напевая мелодии Вагнера. Рахманинов покинул их кружок в начале 1897-го, когда провалилась его Первая симфония и он впал в депрессию.
[Закрыть]. Вместе они пошли к Зилоти, тот предложил найти врача и представил им профессора Николая Митропольского, который потребовал за свои услуги целое состояние и объявил, что пациент, скорее всего, умрет. Сахновскнй был из богатой купеческой семьи, его родители согласились принять лучшего друга сына и ухаживать за ним. Таков был сложившийся алгоритм: временный дом, уход по какой-то причине, спасение, предложение поселиться в новом (обычно более пышном) доме и последующее принятие в новую семью. Эта схема повторилась несколько раз, особенно с участием Сатиных, которые выдали за Рахманинова свою дочь Наталью, но также и с другими, как в этом случае[52]52
Этот алгоритм вызывает закономерные вопросы о том, не вызвана ли эта потребность Рахманинова в заботе его нарциссизмом, а также проблемами с матерью, которая наблюдала за ним издалека, из Петербурга. Судя по всему, у него развивался нарциссический тип личности, хотя и в умеренном проявлении, укрепленный различными способами защиты: ипохондрией и скрытностью, к которым после 1900 года прибавилась забота жены Натальи, успешно ограждавшей его от мира. Американский психоаналитик австрийского происхождения Хайнц Кохут объясняет, как нарциссическая травма ведет к симптомам ипохондрии, гипоманиакальному возбуждению, холодно-властному поведению, скрытности и недоверию к окружающим – все эти черты прослеживаются у Рахманинова. См. Кохут, «Анализ самости: Систематический подход к лечению нарциссических нарушений личности», М.: Когито-Центр, 2003.
[Закрыть]. Между тем ужасные головные боли и озноб Рахманинова все никак не проходили, и Сахновские по-прежнему щедро платили Митропольскому, диагностировавшему «воспаление мозга». Состояние Рахманинова ухудшилось, он впал в кому. Когда неделю спустя он пришел в сознание, диагноз изменили на малярию, но профессор предупредил, что больному еще нельзя вставать с постели.
Рахманинов окончательно поправился и смог вернуться в комнату, которую делил со Слоновым, не раньше ноября, и к тому времени у него снова почти не осталось денег. Но, что более удивительно, Рахманинов сказал Оскару фон Риземану, который занес эту информацию в записную книжку, что «потерял легкость в сочинении»[53]53
«Воспоминания, записанные Оскаром фон Риземаном», М.: ACT, 2016.
[Закрыть].
Он набрался сил, чтобы давать уроки игры на фортепиано, но настоящее избавление пришло только перед Рождеством 1894 года, когда Сатины – возможно, по наущению своей младшей дочери Софьи, сестры Натальи, – пригласили его вернуться жить к ним. Их непрекращающийся альтруизм вызвал у него второй творческий подъем того года[54]54
Софья Сатина (1879–1975) была на два года младше сестры Натальи (1877–1951) и на шесть лет – Рахманинова. Она игриво упрашивала родителей вернуть задумчивого импозантного кузена. Много лет спустя она вспоминала семейное совещание по поводу гомосексуализма Зверева, происходившее в гостиной их дома, куда ее, десятилетнюю девочку конечно же не пустили. См. «Записку о С.В. Рахманинове» С.А. Сатиной в уже упомянутых «Воспоминаниях о Рахманинове» (прим. 53) под ред. З.А. Апетян (1988). Впервые этот двухтомный сборник был опубликован в Москве в 1957 году. В предисловии редактор Апетян объясняет, что «воспоминания Сатиной были присланы ею в Советский Союз еще в середине сороковых годов» и помещены в Российском национальном музее музыки им. М.И. Глинки, ранее называвшемся Всероссийским музейным объединением музыкальной культуры им. М.И. Глинки. Идентичный экземпляр рукописи был тогда же отправлен в Библиотеку Конгресса и стал основой их рахманиновского архива. Бертенсон использует ее воспоминания в своей биографии Рахманинова, изданной в 1956 году, и цитирует целые фрагменты из них, указывая источником Сатину.
Сама Софья так и не вышла замуж и прожила почти сто лет.
После революции она последовала за Рахманиновым и своей сестрой Натальей, теперь женой Рахманинова, сначала в Дрезден, где работала в Высшей технической школе, потом в Америку, где получила исследовательскую должность в Институте Карнеги, а после смерти Рахманинова устроилась генетиком в колледж Смит в Нортгемптоне, штат Массачусетс, где получила докторскую степень и оставила свои записи. Через три года после смерти Рахманинова она собрала воспоминания его друзей и почитателей, в основном написанные по-русски, частным образом издала их, стала продавать из своей квартиры в Нортгемптоне и обратилась к М.В. Добужинскому, чтобы тот составил сборник: см. «Памяти Рахманинова», Нью-Йорк: С.А. Сатина [издатель], 1946. Среди тех, кто поделился воспоминаниями, были менеджер Рахманинова Чарльз Фоли, пианист Иосиф Гофман, Шаляпин и племянник писателя Чехова Михаил Чехов, к тому времени уже разработавший свою знаменитую актерскую технику, которой пользовались такие звезды Голливуда, как Мэрилин Монро, Клинт Иствуд и Юл Бриннер (знал ли Михаил о том, что его дядя восхищался игрой Рахманинова?). Однако наибольший интерес для этой книги представляет глава в семь страниц, написанная просторечным русским языком некой «О.Г. Мордовской», где рассказывается о конце жизни композитора. Это была русская сиделка Ольга Мордовская 1881 года рождения, одна из последних, кто видел Рахманинова перед его смертью. Причина, по которой я сейчас обращаю внимание на ее невнятные воспоминания в сборнике Добужинского, раскроется в третьей части книги. Они важна для нового жизнеописания, рассматривающего Рахманинова как человека, а не только как композитора.
[Закрыть].
Осенью 1894-го произошло еще одно судьбоносное событие, хотя поначалу оно не было связано с сексуальными мотивами. Пока Рахманинов выздоравливал в московском доме Юрия Сахновского, он познакомился с Петром Лодыженским, профессиональным виолончелистом и бывшим композитором, который когда-то учил Сахновского. Рахманинов с Петром сошлись на почве общих увлечений сочинительством и виолончелью, вторым любимым инструментом Рахманинова после фортепиано: впоследствии он написал для нее знаменитую сонату и другие произведения. Петр привел домой к Сахновскому свою свояченицу, прославленную цыганскую певицу Надежду Александровну. Та пела на званых вечерах в своих пестрых шалях перед завороженными слушателями.
Рахманинов был очарован знакомством со столь экзотическими людьми[55]55
Биографические данные Лодыженских почти неизвестны, однако у Тома Емельянова говорится о сексуальном влечений между Анной и Рахманиновым (прим. (42) на с. 172).
[Закрыть].
Куда более обольстительной была жена Лодыженского, цыганка Анна Александровна, поспособствовавшая его выздоровлению. Оказала ли целебное воздействие ее экзотическая внешность, выраженная в колоритной походке? Животный магнетизм? Не могло быть никакого расчета со стороны Рахманинова в том, что она вдохновит его на написание цыганской музыки, которая к концу XIX века уже имела почтенную родословную в русской культуре. Все Сахновские заметили увлечение юного Рахманинова, но не могли объяснить, чем оно вызвано. Он явно был околдован.
Глупо сравнивать Анну со смешливыми сестрами Скалой, даже с юной, обворожительной, озорной Верой (несмотря на проблемы с сердцем, из-за которых она, возможно, казалась Рахманинову еще милее), или с более сдержанными девочками Сатиных; Анна была взрослой дамой с грудью, формами, ореолом сексуальности – полная противоположность отзывчивой и сострадательной Натальи при всем ее великодушии и заботе о благополучии кузена. Анна была темной, загадочной, соблазнительной – зрелая женщина под сорок, позволявшая себе флиртовать с высоким бледным молодым композитором, который как раз выздоравливал после тяжкой болезни. Она завлекла его. Двадцатиоднолетний Рахманинов стал воображать, как будет дарить ей цветы, писать для нее песни, пить чай из ее самовара. Ее игривая сексуальность воспламеняла его, ее аромат истязал его обоняние – он впервые познал соблазн этого мира неистовой раскованности. Он будет посвящать ей свои произведения, притворяясь, будто посвящает их Петру, чтобы не фраппировать московскую буржуазную среду. И хранить настоящее посвящение в секрете. Только Анна будет знать правду.
Преисполненный воодушевления, Рахманинов хотел поскорее поправиться, чтобы последовать за своей безумной мечтой, куда бы та ни привела. Еще выздоравливая в доме Сахновских, он уже задумывал произведение для Анны, «каприччио на цыганские темы», которое отличалось бы от всего, что он писал прежде, жизнеутверждающую рапсодию, передающую дух Анны. Вернувшись в дом к Сатиным и уединившись в своей комнате на верхнем этаже, он принялся творить – в те часы, когда не грезил об Анне. Здесь, в тиши и одиночестве, в конце 1894 года, он начал и закончил свою Первую симфонию, написав своему дорогому соседу по квартире Слонову: «Я сочиняю по десять часов в день». Это было пространное произведение на пятьдесят минут, но Рахманинов и не подозревал, до какой степени жестокие отзывы повлияют на его fin de siècle[56]56
Конец века (фр.), термин, означающий характерные явления в европейской культуре на рубеже XIX и XX веков. (Прим. переводчика.)
[Закрыть] временно заморозив дальнейшее развитие его карьеры. Он был совершенно не готов к нападкам критиков.
Пока же он еще не покончил с Анной, чье появление в его жизни стало валом, накрывшим его два года спустя после создания им одноактной оперы «Алеко» (1892 год). Либретто оперы, написанное Владимиром Немировичем-Данченко по мотивам поэмы Пушкина «Цыганы», повествует об Алеко, страннике, который присоединяется к цыганскому табору и становится возлюбленным Земфиры, однако, когда та охладевает к нему и обращает свою благосклонность на другого, Алеко раскрывает ее измену и убивает любовников. После этого цыгане изгоняют его, и он остается, одинокий и покинутый, посреди русской степи. Опера имела скромный успех, и через два года, к тому времени, как он встретил Анну, о ней все забыли, однако его интерес к цыганам, сформировавшийся еще до встречи с ней и витавший, так сказать, в московском воздухе, не угас. Воспоминания об «Алеко» придавали возвышенности его чувствам к Анне, и он верил, что выбор либретто был продиктован самой судьбой: он получил его от своего учителя Аренского, весьма высоко оценившего это либретто, однако два года спустя Рахманинов оказался у ног настоящей цыганской певицы, дарил ей цветы, добивался ее и собирался посвятить ей свои будущие произведения, даже Первую симфонию. Неужели як эта любовь не была предопределена?
Анна была полной противоположностью Любом Петровны. Она стала силой, подпитывающей его эго, воображение, ментальную вселенную. Ануш разрешала ему ухаживать за собой, делать попытки увести от Петра, но в то же время следила, чтобы он не терял головы и сосредоточился на достижении своих целей в музыке. Смерть переставала существовать в ее присутствии, изгнанная ее обаянием и харизмой. Рядом с ней он мог бы добиться чего угодно. Она была самой природой, противостоящей вечной ночи. Зашел ли он слишком далеко, нарушил ли слишком много границ, ухаживая за ней, предаваясь фантазиям о ней, посвящая ей свои произведения, поднося свою жизнь на блюдечке? Возможно… но он не мог умереть, когда она рядом. Если бы только он мог завоевать ее, мечтал Рахманинов, его унесли бы на другой край жизни валькирии, успокоив его воображаемые вагнерианские раны.
Недавняя болезнь усилила в нем религиозность. Он сделался более благочестивым, стал соблюдать православные ритуалы. Его воображение композитора будоражили два противоположных фактора: религиозное чувство (нечто большее, чем просто система верований) и эротическое влечение к Анне – оба они, что неудивительно, играли важную роль в создании его новой симфонии. Религиозное влияние отразилось в повторяющихся церковных напевах, составляющих структуру симфонии, а эротическое влечение – в чрезмерно мелодичном, медлительном изображении обожаемой музы. Без тени стеснения он посвятил свое произведение «А.Л.», даже не изменив инициалы и не скрыв истинное посвящение за именем Петра. Посоветовался ли он с Сатиными перед таким шагом? Вряд ли.
Стоит отступить в сторону и перенестись вперед, чтобы оценить романтические отношения Рахманинова с женщинами на протяжении всей его жизни. Отчасти он мечтал об иной матери, непохожей на тираническую Любовь Петровну с ее приверженностью к суровой дисциплине, отчасти – о младшей сестре, которую потерял из-за анемии, и эта потребность, несомненно, выразилась в том, что среди сестер Скалой он предпочитал Веру. Анна взывала к третьей грани – возможно, самой маскулинной и самой плодотворной для его музыки. Никогда больше в его жизни не появится женщина с такой мощной сексуальностью. Он был немногим старше двадцати, и Анна позволила ему испытать дионисийский сексуальный порыв, который он смог преобразовать в аполлонический творческий выплеск. Но ему еще предстояло узнать, что все может рухнуть так же быстро, как и возникнуть.
Спустя два десятилетия после влюбленности в Анну, в 1916 году, незадолго до бегства из России, когда Рахманинов приближался уже к середине своего жизненного пути, вспыхнул еще один романтический эпизод. Он оставил след на его внутреннем ощущении уязвимости, хотя, возможно, не такой значительный, как «цыганская любовь» к Анне. На сей раз он влюбился в русскую певицу, сопрано, годившуюся ему в дочери. Нина Павловна Кошиц родилась на Украине в 1891 году, когда восемнадцатилетний Рахманинов фантазировал о будущих встречах с экзотическими женщинами. К двадцати пяти годам она приобрела репутацию восходящей оперной звезды, выступавшей в лучших оперных театрах Европы. Рахманинов был ослеплен ее внешностью и талантом и преисполнился решимости выступать вместе с ней на концертах, возможно обосновывая это желанием поспособствовать своей карьере, хотя карьера его в этом не нуждалась.
Здесь важен контекст: к 1916 году Рахманинов был одним из самых прославленных пианистов России, отцом двух дочерей и вот уже двадцать лет провел в браке с Натальей. Почему же он увлекся Ниной? Догадывалась ли Наталья? Когда дуэт выступал на Кавказе, некоторые слушатели заметили проскочившую между ними искру чувственного влечения. В Москве они принимали участие в камерных концертах Зилоти, и слухи усилились. Рахманинов писал Нине восторженные послания, непохожие ни на его отеческие письма к поклонницам и другим женщинам, с которыми он сотрудничал, ни на гораздо более ранние письма к ветреной Вере Скалой, которая ненадолго завладела его воображением двадцать лет назад.
Он также сочинил шесть песен для Нины, шесть посвященных ей романсов, составивших его знаменитый опус 38. Эта музыка, написанная на стихи русских поэтов-модернистов, пронизана интимной романтикой. «Маргаритки», ставшие одним из самых популярных его произведений, он вскоре переделал в соло для фортепиано и, как будто этого было недостаточно, приступил к написанию «Этюдов-картин» в духе Листа, которые тоже посвятил Нине, хотя она и не была пианисткой[57]57
Том Емельянов (прим. (42) на с. 172) говорит, что «шесть романсов, посвященных Нине Кошиц, были лебединой песней Рахманинова, и он вместе с ней исполнял их в России. То были последние шесть романсов в его жизни. И как оказалось, в этой лебединой песне Рахманинов прощается со своей последней любовью. На прощание он подарил Нине тетрадь с текстом романсов. Собирался преподнести ей еще один бесценный дар – его изящные «Этюды-картины» для фортепиано, но вспомнил о разгорающемся скандальчике (наша интеллигенция жива не хлебом единым, а еще и всевозможными сплетнями): Рахманинов так часто выказывал в обществе знаки того, что влюблен в Нину Кошиц, что поползли разные преувеличенные слухи, которые даже оставили след в письмах, дневниках и мемуарах некоторых современников. Другие так называемые мемуаристы отзывались об этих эпистолярных отголосках тех событий как о чем-то мифическом, как будто пытаясь оправдать определенную «слабость Рахманинова»».
[Закрыть]. Современные Рахманинову композиторы, в противоположность ему, черпали вдохновение в мистических фантазиях (Скрябин), яростном стремлении модернизма к обновлению (Стравинский) и социальном ужасе перед тем, во что превратилась жизнь в России (Прокофьев и Шостакович), но муза Рахманинова обитала в другом месте. В 1916 году он оставался наследником Шопена и Шумана, которых вдохновляли Жорж Санд и Клара Вик, а также – безусловно – своего учителя, такого же романтика Чайковского, который не мог посвятить свои произведения своим пассиям, ибо был болен «любовью, что о себе молчит»[58]58
Из стихотворения «Две любви» Альфреда Дугласа, перевод А. Лукьянова. (Прим. переводчика.)
[Закрыть].
Новости о дуэте Рахманинова – Кошиц не встретили такую же негативную реакцию, как его Первая симфония. Критики наперебой восхваляли их дуэт, заявляя, что он открывает еще одну грань в образе Рахманинова. Если Второй концерт для фортепиано два десятилетия назад (1900 год) вывел его из хандры, вызванной отрицательными отзывами на Первую симфонию, то новые интимные песни о любви (1916 год) еще больше подняли его дух. Но вмешалась революция и разрушила их будущее: как и Рахманиновы, Нина Павловна бежала из России и эмигрировала в Америку. Она пела в ведущих оперных труппах Америки в 1920-х и Парижа – в 1930-х, и ее карьеру оперной дивы прервало только возникновение нацистской угрозы. Тогда она поспешно вернулась в Америку, поселившись, как Рахманинов, в Голливуде. В краю кино она снялась в нескольких эпизодических ролях, но к 1940 году голос ее покинул. Бывшая дива Нина жила в Голливуде не по средствам: ее, закутанную в меха и благоухающую духами «Шанель», часто видели проезжающей по обрамленным пальмами бульварам в новеньком «шевроле делюкс». Она умерла в 1965 году, через много лет после Рахманинова, завещав своей дочери Марине Шуберт (1912–2001) поведать миру о романе матери с Сергеем Рахманиновым[59]59
Дочь Марина Кошиц-Шуберт описывает этот роман в книге и фильме под одинаковым названием «Песня последней любви», высказывая предположение, что мать с композитором были не просто друзьями. В Голливуде Марина была почти так же знаменита, как ее звездная мать, хотя в отличие от матери не могла похвастаться международной известностью. И все же настоящие отношения в дуэте Рахманинов – Кошиц остаются загадкой, несмотря на то что влечение композитора к блестящим экзотическим и харизматичным женщинам очевидно. Предположение, что Нина отвергла композитора на Кавказе, кажется неправдоподобным, и еще более странно то обстоятельство, что никаких свидетельств их воссоединения в Голливуде в 1940 годах не сохранилось. Главным вопросом остается: почему Рахманинов написал для нее эти шесть необычайно романтических и интимных романсов и потом подарил их рукописи (которые Марина передала Библиотеке Конгресса)? Одну подсказку можно найти во втором романсе цикла («Крысолов»), чья дудочка играет о ветрености и непостоянстве женщин. Но истина раскрывается только при сравнении Нины с цыганкой Анной.
[Закрыть].
Несмотря на все различия в их проявлениях, любовь к Анне Лодыженской и любовь к Нине Кошиц, как их ни объясняй и ни осмысливай, сводились к эротическому увлечению. Но привязанность Зверева, о которой биографы Рахманинова говорят с пуританской застенчивостью, нанесла серьезный удар молодому композитору, особенно в свете того, что Зверев служил символической заменой изгнанному горячо любимому отцу Василию. Четырнадцатилетний мальчик доверил Звереву свою душу, взамен получив маниакальную дисциплину и замаскированную похоть[60]60
Много позже, в 1920-х годах, Рахманинову во второй раз довелось столкнуться с гомосексуальностью, на этот раз, когда его зять, муж Ирины, князь Волконский покончил жизнь самоубийством как раз перед рождением сына. Волконский женился на Ирине в надежде, что сможет преодолеть страсть к мужчинам, но у него ничего не вышло, и за несколько недель до рождения первенца он понял, что больше не может лицемерить. Это подтверждают русские историки Н.В. Бажанов и Б.С. Никитин, основываясь на русских источниках; см. книгу «Рахманинов» Н.В. Бажанова (Москва: Радуга, 1983), с. 272, и книгу «Сергей Рахманинов: Две жизни» Никитина (Москва, 1989), с. 175. Ни Бажанов, ни Никитин не раскрывают свои источники, так что, возможно, они были устными. Но в их исследованиях перед нами предстает образ распущенного князя Волконского: возможно, он был вовлечен в скандальную сексуальную связь или его шантажировали, и это могло отразиться на беременной жене. Никто никогда не исследовал, какой эффект на семейство Рахманиновых произвели его распущенный образ жизни и самоубийство, и Бертенсон полвека спустя, в 1956-м, обходит эту тему молчанием. Нельзя ожидать от биографа-эмигранта, каким был Бертенсон, что он в разгар маккартизма будет подробно писать о делах князя Волконского, даже если бы эта тема не оскорбляла живых родственников Рахманинова. Возможно, конечно, что Бертенсон знал гораздо больше того, что рассказал в биографиях, но он не стал бы упоминать о том, что могло оскорбить Наталью с Софьей, которые так любезно предоставили ему все документы.
[Закрыть].
* * *
Отношение Рахманинова к любви – настоящей любви, а не преходящей влюбленности и сексуальному влечению – было совсем иным. В этом отношении он следовал голосу разума и логики, даровав свою любовь всего единожды – двоюродной сестре Наталье Сатиной, которая, без сомнения, была его второй половинкой вне зависимости от великодушия ее семьи. Как я уже подчеркнул, они приняли его к себе, успокоили зарождающуюся в нем лихорадочную ностальгию, оплатили большую часть его музыкального образования, а впоследствии, когда у него развилась депрессия, и психологическую терапию. Не будет преувеличением сказать, что без Сатиных его карьера развивалась бы куда медленнее, а может быть, и вовсе не сложилась бы. Когда они поженились, Наталья всю свою энергию посвящала тому, чтобы заботиться о нем и руководить его делами. Жены великих художников часто опекают мужей, как в случае со всем известными Жаклин Рок (женой Пабло Пикассо), Вандой Тосканини-Горовиц (женой Владимира Горовица), Фридой Кало (женой Диего Риверы) и даже Альмы Малер, хотя у Альмы были и другие таланты, помимо таланта опекать супруга. С течением времени Наталья все больше контролировала дела мужа, особенно когда они устроились в Америке и его концертная карьера взмыла вверх: она часто ездила с ним на гастроли и следила, чтобы все шло по плану. В свою очередь, Рахманинов редко покидал ее, если не считать мимолетной страсти к Нине Кошиц, но она вряд ли вылилась в нечто серьезное. С Натальей у него родились две дочери, которым он был горячо предан, ставя их благополучие превыше всего.
Однако любовь к конкретным людям не единственный вид любви, и у пылких романтиков вроде Рахманинова с ней соперничает «любовь к местам», особенно если эти места в их воображении связаны с домами: домом в деревне, домом, окруженном садами и озерами, где так легко творить, домом с воспоминаниями о прошлом и настоящем, где тело и разум могут дать волю ощущениям, упиваясь лесами и холмами[61]61
В теории привязанности классического психоанализа рассматривается исключительно привязанность к людям: например, классическая теория привязанности британского психоаналитика Джона Боулби сосредоточена на фигуре матери, в особенности материнской груди, которая первая питает ребенка, но, если правильно скорректировать эту теорию, ее можно распространить не только на людей, но и на места – как те, что играли такую важную роль в подсознании Рахманинова.
[Закрыть]. Здесь опять-таки важен контекст: мировоззрение романтизма было настолько развенчано в 1920-х модернистами, что его ценности перестали считаться возвышенными, чему поспособствовали – особенно в России – две войны. Однако в течение значительной части XIX века эстетика романтизма привлекала самых разных любителей искусства, что было хорошо известно Рахманинову. Сегодня, когда модернизм и уж тем более романтизм подверглись нападкам постмодернизма с его информационными технологиями, любая искренняя защита романтизма воспринимается большинством из нас как нелепый жест и сам романтизм кажется нашим современникам, за исключением специализирующихся на нем профессоров, таким далеким от реальности, неестественным и непонятным, что приходится объяснять его базовые положения.
В его подходе к любви эмоции чрезвычайно важны, так же как настроение и атмосфера, но главное – это окружающая обстановка во всех ее проявлениях. Посреди природных ландшафтов – в лесах, горах, на берегах озер – тело и разум взаимодействуют со всеми пятью чувствами и воображаемым шестым. Кажется, будто каждое чувство здесь достигает предела или скоро достигнет, и глаз воспринимает больше, чем когда-либо мнилось возможным. Осязание с обонянием упиваются барашками и лужайками под прохладной сенью листвы. Все тело наэлектризовано, и кажется, будто оно существует в другом, высшем измерении, где память и воображение высвобождаются. В процессе заряженное тело становится порабощенным сосудом не для одного, а для двух господ: памяти и воображения. Вместе или по раздельности они облетают весь земной шар, и в итоге, как в случае Рахманинова, рождается музыка.
Для Рахманинова средоточием правильной обстановки был дом посреди природы: в этом заключается почти классическое русское мировоззрение, при котором пять чувств служат памяти. Для Рахманинова был важен дом, особенно деревенский. В этом он был схож с другим поздним романтическим композитором, Малером: тот писал музыку в своих любимых австрийских хижинах в потрясающем горно-озерном краю Зальцкаммергут, а потом в Тоблахе (теперь это Доббиако в североитальянской области Альто-Адидже).
Но для Рахманинова такими «творческими домиками» были те, где он жил в течение многих лет: Онег и Ивановка, а также вилла Сенар, построенная им на замену Ивановке, которую он утратил из-за войны и ассоциации с которой вдохновили его на написание своих лучших мелодий, хотя и усилили стократно его ипохондрию. Его воображение пробуждалось в таких домах по психологическим причинам, сокрытым в его раннем детстве, проведенном близ Новгорода. Первым домом был Онег, родительское имение в новгородских лесах, где Рахманинов жил до изгнания отца Василия, и с тех пор оно всегда ассоциировалось у него с полноценной семьей. Затем шла противоположная обстановка: общая спальня в тюрьме зверевского «гарема», откуда он сбежал в московский дом Сатиных, где получил относительную свободу – собственную комнату на верхнем этаже особняка с выходящими на церковные купола окнами, через которые ему был слышен колокольный звон[62]62
Даже в свой первый гастрольный тур в двадцать два года с юной виолончелисткой Терезиной Туа (1876–1936) он больше внимания уделяет «комнатам», чем ей. Они должны были совершить трехмесячное путешествие на восток от Москвы, покрыв расстояние в 3000 км, но Рахманинов отказался играть, более жалуясь на неудобные кровати и мебель на постоялых дворах, чем на вонь в экипаже и плохое состояние дорог. Разочарованный агент испытал облегчение, когда узнал, что ему не нужно платить им за оставшиеся концерты: они теряли деньги.
[Закрыть].
Далее следовала Ивановка, деревенская усадьба Сатиных в противоположном по отношению к Онегу направлении от Москвы, и с ее появлением в географическом восприятии Рахманинова сложилась ось с севера на юг, на обоих концах которой он испытал радость, подчеркивающую окружающий ландшафт, особенно плоскую степь и бескрайние поля Ивановки. Наконец, после бегства на Запад, появились вилла Сенар на берегу Фирвальдштетского озера, которая должна была стать швейцарской Ивановкой, и совсем непохожий на них, как обнаружила моя подруга Эвелин в 1975 году, дом № 610 на Элм-драйв в Беверли-Хиллз. Эти шесть символических мест (плюс дома в Дрездене, Париже и Нью-Йорке, где они жили) не менее значимы для его творчества, чем чувства, которые он испытывал к тем или иным людям.
Он узнал, что эта привязанность к домам с окружающими их ландшафтами – тоже любовь, любовь к месту, которая зиждется на свободной игре чувств в конкретной обстановке. Она ни в коем случае не умаляет его любви к Наталье и дочерям, но в некотором роде объясняет, откуда взялся поздний романтизм Рахманинова и почему он не мог писать такую же музыку, как мистик Скрябин, новатор Стравинский и политически ангажированные Прокофьев с Шостаковичем[63]63
Эти размышления неспособны изменить мнение таких критиков, как Ричард Тарускин и Алекс Росс, которые рассматривают в первую очередь формальный музыкальный продукт, а не обстоятельства жизни композитора и его окружение. Фрэнсис Мейс в A History of Russian Music: From ‘Kamarinskaya’ to ‘BabiYar’ (Berkeley and London: University of California Press, 2002) более подробно говорит о Рахманинове в своей масштабной «истории», но все равно недостаточно подробно, по непонятным причинам. Более сбалансированным мне представляется подход Баренбойма в Beethoven and the Quality of Courage (New York Review of Books, 4.04.2013).
[Закрыть].
Рахманинов сам описал эти места. Вот как он вспоминает Ивановку десятилетиями ранее в одном из десятков похожих писем:
Я полюбил эти просторы и вдали от них стал тосковать, потому что Ивановка лам» а им покой, необходимый для усердной работы… Там не было того, что мы понимаем под красотами природы: гор, ущелий, извилистых берегов. Ее степь была подобна бескрайнему морю, где вместо воды – бесконечные пола пшеницы, овса, простирающиеся от одного горизонта до другого. Часто хвалят морской воздух, но мне куда более люб степной, полный ароматов земли и всего, что растет и цветет на ней[64]64
См. Бертенсон, p. 25.
[Закрыть].
Последними чертами его романтизма были всеобъемлющая мелодичность и болезненность; объединившись, они образовали уникальный тип мечтательной меланхолии, включающей ностальгию. И тем не менее меланхолия Рахманинова находилась в конечной стадии, «русский байронизм» на смертном одре, тоскующий по старым временам. Рахманинов многое взял от своего учителя Чайковского, но если у того музыка была довольно жизнерадостной, то он пошел дальше, сделал мелодию болезненно меланхоличной. Возможно, кого-то заденет такое мнение, но Чайковский служит хорошим примером: его музыка кажется трагическим плачем о судьбе, однако в большинстве своем изображает зачарованный и волшебный мир детской любви. Рахманинов же культивировал взрослую музыкальность (если можно так выразиться), его музыка кажется более зрелой из-за темных и скорбных нот, в ней нет места непринужденному веселью. Романтизм Рахманинова был скорее болезненным, чем новаторским – или экзальтированным, как в случае Скрябина, – и он позволял своей ностальгии по старой России господствовать над собою даже после того, как переселился на Запад. Всегда только умирающая старая Россия: ее земля, люди, религия, вчерашние народные песни – он никогда не пел о новой России, которая могла вырасти из нового социально-политического строя.
До большевистской революции современники отмечали эту его болезненную мелодичность (даже бывший однокашник Юрий Сахновский, ставший ведущим музыкальным критиком Москвы), и в том числе на нее обратил внимание Цезарь Кюи, когда громил его Первую симфонию в 1897 году. Кюи был совершенно безжалостен, даже отвратителен; он говорил об этой первой попытке создать симфонию так, будто описывал какую-то патологию, используя такие фразы, как «больная извращенная гармонизация, отсутствие простоты и естественности». В отзывах на Рахманинова в России рубежа веков часто использовали слово «патологический», словно он был кем-то бессильным, одурманенным, существующим в бреду, от одной перемены настроения к другой.
Особый романтизм Рахманинова определял и его музыку, не только биографию. Как интуитивно отметила Эвелин в своем дневнике за 1964 год, русская музыка всегда отражает русскую душу, единственный вопрос только – по-рахманиновски или как у Прокофьева с Шостаковичем. Рахманинов мелодичен, его последователи ритмичны. Рахманинов довел до совершенства сентиментальную мелодию, в особенности ее вырождающуюся болезненность, за счет отсутствия ритма. Ритм был его слабым местом, в его произведениях он всегда второстепенен. Чайковский был особенным, он довел до совершенства и ритм, и мелодию. Зачем русским Рахманинов, когда у них уже есть Чайковский?[65]65
Зачем тогда русским и Прокофьев с Шостаковичем, два великих композитора, пришедших после него, чья музыка тоже отражает их русскую душу? Затем, что для музыкальной эволюции нужно новаторство, без него великие традиции отмирают и попросту повторяются во вторичных музыкальных формах.
[Закрыть]
* * *
С молодых лет лицо Рахманинова поражало его друзей и родственников своей бледностью. Ему не хватало здорового юношеского румянца. Как написал Ките в своем стихотворении La Belle Dame sans Merci: «Зачем здесь, рыцарь, бродишь ты один, угрюм и бледнолиц?» Это было симптомом квазимедицинской меланхолии и хронической ипохондрии, что преследовали его до конца жизни. Он бывал веселым и беззаботным, но это не было его основным темпераментом, как сказал бы врач эпохи Возрождения. Работая над Третьим концертом для фортепиано в 1909 году, вскоре после премьеры «Острова мертвых», он написал своему верному другу Никите Морозову, которому часто обнажал в письмах душу, о том, что он «ничего не делал, т. е. лечился, гулял, спал… я осознал, что мое здоровье, вернее, силы начали заметно слабнуть…»[66]66
Письмо Рахманинова Н.С. Морозову от 6 июня 1909 г.
[Закрыть].
И это писал человек тридцати шести лет (в 1909-м), а не семидесяти шести, так рано начавший задумываться о старении и смерти, что я мог бы перечислить его приступы ипохондрии в хронологическом порядке. Другим человеком, с которым скрытный Рахманинов часто обменивался откровенными письмами, была Мариэтта Шагинян, его «милая Re», и ей он вскоре поведал о тех же симптомах: «Но болезнь сидит во мне прочно, а с годами и развивается, пожалуй, все глубже»[67]67
Письмо Рахманинова М.С. Шагинян от 8 мая 1912 г.
[Закрыть]. Что это была за болезнь? Он не говорит, только предполагает разрушительное влияние меланхолии (депрессии по-нашему) и утверждает, что он «душевнобольной… и считаю себя безоружным, да уж и достаточно старым».
Ипохондрия так тяжело повлияла на него в последующие годы, что обеспокоенная Шагинян писала в своих воспоминаниях: «Он был одержим страхом смерти… попросил мою мать погадать ему на картах»[68]68
См. Бертенсон, р. 199.
[Закрыть]. Каждое лето приносило новые тревоги: боль в правом виске, отек на ноге, непрестанные проблемы со спиной – даже в блаженной Ивановке. Эти болезни часто были загадочны: не поддавались диагнозу и лечению, иногда проходили сами собой.
Несмотря на свой рост и огромные ручищи, которыми он, вероятно, обязан был синдрому Марфана (генетическое заболевание соединительной ткани, обычно выражающееся в высоком росте, длинных пальцах и конечностях), Рахманинов не дышал здоровьем, как мог бы подумать, глядя на него, сторонний наблюдатель[69]69
Синдром Марфана у Рахманинова был подробно описан биографами и историками медицины. Здесь он упоминается из-за хорошо известного эффекта, оказываемого им на сердечнососудистую систему: этот эффект мог бы объяснить постоянные жалобы композитора на плохое самочувствие и ощущение, будто его тело разваливается.
[Закрыть]. Он часто болел, мучился тем или другим, и эта предрасположенность к тридцати годам усилилась, возможно, под влиянием политических волнений, хотя проявилась еще в юности. Есть доказательства тому, что он редко писал музыку, когда болел или плохо себя чувствовал. В других художниках – можно привести множество примеров – болезнь часто пробуждала вдохновение, даже подвигала их на лучшие произведения, но у Рахманинова все было наоборот, и, похоже, он сам понимал взаимосвязь между своим здоровьем и творчеством.
Когда ему было двадцать с небольшим, он страдал не только от несчастной любви к Анне, но и вдобавок от тоски в целом, от исключительно русской меланхолии, национальные особенности которой невозможно передать на других языках. Разрыв с Анной, по какой бы причине он ни произошел, тяжело повлиял на него, как и депрессивные симптомы, способствовавшие перепадам настроения; и действительно, современный исследователь его жизни помимо хронической ипохондрии найдет у него и симптомы депрессии. Будь он женщиной, в 1895-м или 1900-м ему бы диагностировали истерию, потому что его припадки почти всегда сопровождались ощущаемыми им физическими симптомами. Любой исследователь его жизни без труда замечает уверенность Рахманинова в том, что тело его подводит. Его типичный образ действий был таков: он консультировался с несколькими врачами, которым ему обычно нечем было платить, а потом оставался в некоем состоянии неопределенности до следующего приступа. С возрастом он все более убеждался, как сказал Мариэтте Шагинян, что заперт в теле, которое становится все немощнее[70]70
Современные психоаналитики и психотерапевты сразу же сосредоточатся на этой привычке не платить за себя как на очередном свидетельстве его всеобъемлющего нарциссизма: то есть пациент верил, что он слишком важен, чтобы платить, и платить за него должны другие. Обычно это делали Сатины, даже после того как он женился на их дочери.
[Закрыть].
1898 год был для него тяжелым. Он написал нескольким знакомым и Модесту Чайковскому, брату покойного композитора, с просьбой о помощи, но ни их ответы, ни его самолечение не принесли избавления. В чем выражалась его ипохондрия? Высокий красивый молодой человек двадцати пяти лет вместо того, чтобы завоевывать мир своим полыхающим талантом, казался вялым и высохшим. Когда перепады настроения усилились, он вернулся к врачам. Один послал его в сентябре на юг, полечиться на теплом побережье Крыма. Ему разрешили дать несколько концертов, но предупредили, что он должен больше отдыхать и принимать ванны.
На одном концерте в Ялте присутствовал Антон Чехов, который уже болел туберкулезом и неожиданно умер всего несколько лет спустя, в 1904 году, в возрасте сорока четырех лет. Чехов был наслышан о молодом виртуозном пианисте и пришел посмотреть, из-за чего весь сыр-бор – мы знаем это по его письмам. Сам Рахманинов никогда не увлекался книгами, но читал несколько чеховских рассказов и придерживался общепринятого мнения, что Чехов и Толстой – величайшие из ныне живущих писателей, поэтому пришел в восторг. Он знал, что Чехов еще и врач, доктор-творец, который может исцелять. В рассказах Чехова так явно проступают его медицинские познания, что любой читатель придет к такому же мнению. Соединение врача и писателя в одном лице усилило восхищение Рахманинова и его желание познакомиться с Чеховым.
Тем вечером Чехов приехал в экипаже с окруженной садами виллы, которую он недавно построил на окраине Ялты. После концерта некоторые восторженные слушатели, включая самого Чехова, по одному просочились в так называемую гримерку. Биографы Чехова пишут, что писатель-врач в дрожащих на худом лице щегольских очках и с аккуратно подстриженной бородкой подошел к Рахманинову и, вперив в него взор, предрек: «Все это время я смотрел на вас, молодой человек. У вас замечательное лицо – вы станете великим».
Чем так поразило Чехова это мрачное меланхоличное лицо? Заметил ли он, будучи не только доктором, но и физиономистом, печаль от утраты Анны, утраты, которую Рахманинов воспринимал в Санкт-Петербурге как катастрофу? Или его облик выражал тоску будущего изгнанника по воображаемым, более солнечным местам? Для Рахманинова всегда важна была поздняя романтическая версия Kennst du das Land? – знаешь ли ты место, что помнится мне, прекрасную деревенскую усадьбу, куда я могу вернуться? Или, наоборот, взгляд Чехова проник за черный костюм и узрел внутренний облик пианиста, его сущность русского фаталиста, скрывающегося за черным плащом, который станет отличительным знаком Рахманинова?
Чехов верно кое-что подметил. Ни один великий пианист никогда не играл так отстранение – на это обратил внимание Зилоти много лет назад, когда Рахманинов еще мальчиком играл для него, – словно он не мог установить связь со слушателями. В тот вечер Рахманинов вышел на сцену, такой же сдержанный, как обычно, едва удостоил слушателей взглядом и стал играть так, будто их не существовало. Свой черный костюм он носил, словно броню, доспехи Ахилла. Черный костюм и черное фортепиано были его крепостью. Он никогда не выступал без них, потому что они прекрасно скрывали его психологическую травму.







