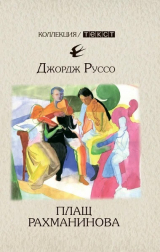
Текст книги "Плащ Рахманинова"
Автор книги: Джордж Руссо
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 18 страниц)
Забегая вперед, скажу, что в революционные годы (1905–1917), уже после лечения Рахманинова, Даль остался в Москве, а потом, в начале 1920-х, по неизвестной причине переехал в Ленинград, где продолжил практиковать гипноз. В 1925 году, в возрасте шестидесяти пяти, он эмигрировал в недавно отошедший к Франции Бейрут, где жил тихой жизнью и скончался в 1939-м, вскоре после нападения немцев на Польшу, почти достигнув восьмидесяти. Четыре десятилетия спустя, летом 1983-го, во время гражданской войны в Ливане, его дом сгорел, и семейный архив, включающий медицинские заметки Даля, пропал[85]85
Ни в России, ни в Бейруте его записей так и не нашли, в том числе ничего, что касалось бы Рахманинова, поэтому нижеследующее описание сеансов гипноза полностью вымышлено. Удивительно, но единственное, что сохранилось от его архива, это гневное письмо Гитлеру. Даль отправил его в конце 1930-х, за несколько лет до смерти фюрера, и просил нацистского лидера «опомниться». Получил ли Гитлер письмо, неизвестно. Причина, по которой Даль покинул Россию, скорее всего, была никак не связана со смертью Ленина в 1924 году, и последовавшей за ней политической нестабильностью. Даль уже пережил крайнюю нестабильность Гражданской войны (1918–1921). Бежать его вынудило давление на психиатрию и попытки сформировать принципы «марксистской психологии», начавшиеся в 1923 году и сделавшие практику гипноза невозможной. Два года спустя он, как и его бывший пациент Рахманинов, уехал из России.
[Закрыть].
«Внушение» в 1880-х было модным словом в континентальных психологических кругах, особенно во Франции и России, а оттуда просочилось в массовое сознание. 1880-е, время отрочества Рахманинова, когда формировалась его личность, в более широком плане было десятилетием психологии, и внушение через гипноз считалось вернейшим способом оказать влияние на другого человека. Как утверждали доктора, внушение могло беспрепятственно проникнуть в психику пациента, в то время как сам он этого даже не осознавал. Это открывало широкий спектр возможностей, особенно в отношении творческого воображения, казавшегося бесконечным.
Такие мастера внушения, как Шарко, Льебо, Бернхейм и Бехтерев, учили своих студентов, что самые загадочные болезни, ментальные и физические, можно вылечить с помощью этих техник. Истерия, ипохондрия, паника, тревога, бессонница, еще не классифицированные патологии в целом – все это поддавалось лечению внушением, и к переживающим творческий кризис художникам применялась гипнотерапия. Для фермера или моряка такая терапия была бы бесполезна, но на образованных дворян, страдающих от творческого застоя, как описали Далю проблему Рахманинова Сатины, лечение гипнозом прекрасно действовало.
Поэтому после восторженных отзывов Грауэрмана они тотчас записались к нему на прием. Договорились платить за ежедневные сеансы, а в случае чего Зилоти или бабушка Бутакова добавят нужную сумму[86]86
Бертенсон утверждает (р. 99), не приводя никаких доказательств, что Даль лечил Рахманинова бесплатно. Возможно, это и правда, учитывая, что Рахманинов уже был известным композитором, но за него могли платить и Сатины.
[Закрыть].
12 января 1900 года. «Один, два, три, четыре, пять», – считает доктор Даль, и так до десяти. Один, два, три, четыре. Пациент сидит в глубоком бордовом кресле. Он в абсолютном сознании, просит позволения пройтись по темной, уставленной книгами комнате. Сюда едва проникает свежий воздух. Доктор сидит в кресле рядом с кушеткой. Он указывает пальцем – говорит он мало.
Пациент обходит комнату, садиться, тяжело вздыхает.
«Один, два, три, четыре, пять».
«Один, два, три, четыре, пять».
«Один, два, три, четыре, пять».
14 января 1900 года. Записи доктора: «Пациент – Сергей Васильевич Рахманинов. Двадцать шесть лет, очень высокий, худой, изможденный, большие руки, замкнутый, мрачный, дворянин, не богат, не титулован, родственники его обожают. Говорит, что потерял вдохновение, стал тенью. Не может писать музыку. Сон то тревожный и прерывистый, то, наоборот, беспробудный. Двигается странно, говорит мало. Опять одет в тот же черный пиджак. Предполагаемое лечение: ежедневное гипнотическое внушение. Необходимо погружать пациента в сои и разговаривать с ним. Направлен своими родственниками Сатиными через Грауэрмана. Оплачивает лечение другой родственник, не кто иной, как верный Зилоти, который учил его игре на фортепиано. Стоимость услуг: четверть обычной».
16 января 1900 года. «Пациент предположительно спит, произносит мало. “Один, два, три, четыре, пять”. Я поймал его в сумеречной зоне, напеваю мелодию его “Элегического трио”, посвященного памяти Чайковского. У него шевелятся веки. “Ты будешь писать музыку ради него, ради великого человека, которому ты был так дорог”».
19 января 1900 года. Посредством гипноза я погрузил его в глубокий сон. Рахманинову что-то снится. Он стонет. Я вхожу в сон, и Рахманинов говорит со мной во сне. «Две вампирши ловят ягненка на лугу. Ягненок нежен и прекрасен, он дрожит, ужас написан у него на лице. Старшая вампирша бросается на ягненка и вонзает в него свои когти». Я шепчу фамилию Скалон: «Скалон, Скалон, Скалон», – словно посылая предупреждение ягненку. Пациент вспоминает мучительные отношения с тремя сестрами несколько лет назад: две старшие – вампирши, а третья, младшая, – ягненок, которого он так любил. Внезапно загипнотизированный пациент вскрикивает, будто в него вонзили нож; его стоны стихают, и он снова засыпает.
21 января 1900 года. Я приношу скрипку и касаюсь струн. Погружаю пациента в сон, затем шепчу: «Оркестр настраивается, появляется большой черный рояль». Снова извлекаю звуки из скрипки. Настраивается флейта, гобой, скрипки. Концерт вот-вот начнется. Пациент дергается в полусне. Я продолжаю играть на скрипке. «Ты напишешь свой великий концерт. Будешь сочинять по восемь часов в день. Ты это сделаешь…»
25 января 1900 года. Пациент в полусне, ему что-то снится. Время идет, тикают часы. Тик-так, тик-так. Произносит одно слово: «Алеко». Я монотонно повторяю: «Ты сильнее, чем Алеко, ты сильнее». Пациент рыдает. О, как он рыдает! Начинает извергать из себя яд – свои секреты.
2 февраля 1900 года. Пациент и гипнотизер спокойно беседуют. Пациент рассказывает, как в детстве читал поэму Пушкина о цыганах, и та вдохновила его написать оперу на ее основе. Он назвал ее «Алеко», как у Пушкина. Пациент рассказывает Далю, как бродил по Москве и в темном переулке наткнулся на книжный магазин, где был экземпляр этой книги. Алеко – странник, который попадает в табор и влюбляется там в самую экзотичную цыганскую девушку, огненную Земфиру. Через два года она охладевает к Алеко и бросает его ради горячего цыгана из своего табора. В гневе Алеко убивает любовников. Теперь пациент крепко спит. Даль начинает свою мантру. Ты сильнее, чем Алеко… сильнее.
8 февраля 1900 года. Все медленнее, медленнее. Очень медленно. «Один, два, три, четыре, пять. Ты снова будешь творить. Ты сочинишь свой великий концерт для фортепиано».
22 февраля 1900 года. [Даль держит в руках нотную тетрадь и ручку. Входит пациент, гипнотизер молча сочиняет музыку, не обращая на него внимания. Пациент жадно наблюдает за ним с кушетки, его веки сами собой опускаются. Преходит время. Тянется время.] «Ты теперь пишешь музыку целыми днями… целыми ночами. Все девушки Москвы влюблены в тебя».
24 февраля 1900 года. Пациент на кушетке не спит Ему хочется говорить. Звучат обрывки воспоминаний о цыганке, которая любила его, потакала его капризам, гладила его эго. Околдовала его, пока мужа не было рядом. Манила все ближе, ближе, и наконец он больше не мог сопротивляться, волна должна была достигнуть своей наивысшей точки.
27 февраля 1900 года. Пациент заснул почти моментально. Чем это вызвано? Гипнотизер говорит: «Ты вышел из своего кризиса, ты творишь, ты снова будешь сочинять музыку, новый век только начался, твой концерт предвещает его появление, он станет известен по всему миру как “концерт XX века”, твой творческий дар и новый век сошлись вместе, две звезды на небосводе».
2 марта 1900 года. Гипнотизер погружает пациента в сон. Описывает летнюю идиллию. Семья с двумя прекрасными дочерьми устраивает в Москве пикник. Имя первой дочери начинается на «Н», она крепенькая, с мужскими руками, вторая – умная и более проворная, ее имя начинается на «С». Это настоящая семья пациента. «Они любят тебя, – монотонно повторяет гипнотизер. – ВНС, ВНС, ВНС, все заканчиваются на «А», Варвара, Наталья, Софья».
3 марта 1900 года. Пациент спит. «Вот Старый Мореход. Из тьмы вонзил он в Гостя взгляд»[87]87
Сэмюэл Тейлор Кольридж, «Сказание о Старом мореходе», перевод В. Левика. (Прим. переводчика)
[Закрыть]. Доктор переходит к акту творения. «Ты один в бескрайнем море, только здесь воображение может творить. Ты закончишь великий концерт. Так завещал тебе из могилы Чайковский».
4 марта 1900 года. Пациент начинает раскрывать секреты, едва его голова касается подушки на кушетке. До его прихода доктор варил кофе. «ВНС, ВНС согреют тебя в кофе».
5 марта. «Ты напишешь концерт для фортепиано, который будет преемником великого Концерта си-бемоль минор мастера. Не Скрябин, не Метнер, не Глазунов. Рахманинов, Рахманинов, Рахманинов».
9 марта. «Ты медленно идешь, отмеряешь шаги, медленно, медленно, адажио, ты в Третьяковской галерее, медленно проходишь, смотришь на классические полотна великих мастеров. Они вдохновят тебя закончить концерт. Их символы успокоят твою душу, их образы пробудят твое воображение. Смотри, смотри, спи, теперь просыпайся… ты станешь писать столь же хорошую музыку, что и картины, которые писали мастера прошлого».
Даль не столько загипнотизировал Рахманинова, сколько заколдовал его. Рахманинов доверился ему до такой степени, что поведал свои нарциссические фантазии о величии. Даль заверил его, что он станет счастливым, сможет вернуться к цыганам и озерам в Онеге и Ивановке, если закончит свой концерт, и к марту Рахманинов принял вызов. Даль встречается с ним в темной комнате, благоухающей духами. Рахманинов гадает, уж не носит ли мастер с собой флакон, но это запах дочери Даля, которую композитор однажды мельком заметил в полумраке. Рахманинов погружается в сон, убаюканный словами, которые медленно повторяет добрый доктор: «Один, два, три, четыре, пять».
Он чувствует себя достаточно комфортно, чтобы подшучивать с Далем над своим влечением к Вере Скалон и цыганке Анне, над Глазуновым и провалившейся симфонией, над своей бывшей идиллической жизнью в Онеге и Ивановке. Однажды Даль глубоко вдыхает аромат духов, его ноздри раздуваются, чтобы вобрать больше запаха. Он дышит все тяжелее. Пациент хватает нотную тетрадь и убегает… Назавтра он возвращается, чувствуя себя лучше.
Как гипнотизер Даль был гораздо хитрее, чем воображал Рахманинов. На его субботних вечерах часто собирались музыканты, игрой которых дирижировал Рахманинов. Даль выспрашивал у них биографическую информацию, которые они охотно ему предоставляли, не подозревая, что доктор гипнотизирует объект расспросов. Один напыщенный скрипач рассказал ему, как видел Рахманинова пьяным на полу в общественном месте. Композитор проводил время в компании своих богемных друзей, таких же пьяных и шумных. Рахманинов пил всю ночь напролет и орал, что он настолько пьян, что не может писать музыку. Даль никогда об этом не упоминал, просто использовал свои тайные знания в ежедневных гипнотических сеансах. Алкоголь был еще одной его специализацией.
К лету 1900 года Рахманинов почувствовал в себе достаточно энергии, чтобы вернуться ко Второму концерту для фортепиано, который он в итоге посвятил Далю. Но гораздо большим благодеянием стало то, что Даль вымостил ему путь к браку. Неизвестно, по какой причине он расхваливал Сатиных: потому ли, что они оплачивали сеансы гипноза, или потому, что их рекомендовал друг Грауэрман. Факт в том, что в течение года Рахманинов с Натальей обручились и поженились – союз, заключенный на небесах, пусть он и не вызывал таких же фейерверков, как отношения с Анной. Гипноз успокоил мятущуюся душу Рахманинова, однако Наталья за четыре десятилетия дала ему гораздо больше, чем просто эмоциональное спокойствие.
Доктор Даль был единственным гипнотизером, лечившим Рахманинова до отъезда того из России, однако на Западе он много раз возвращался на кушетку гипнотизера. Уже в 1929 году его долго лечил французский гипнотизер[88]88
Бертенсон цитирует письмо (р. 179), в котором Рахманинов говорит Мариэтте Шагинян, уже упомянутой «милой Re», в которую он был влюблен, что Даль был его единственным доктором двадцать лет. Однако в письме Сомовым, также процитированном у Бертенсона (р. 259), Рахманинов вспоминает, что ходил к гипнотизерам во Франции после того как уехал из России, вот только были они французами по национальности или русскими? Я склонен считать, что русскими. В первое десятилетие XX века в одно и то же время несколько композиторов Центральной и Восточной Европы страдали от психологических расстройств, не только Рахманинов и романтик Малер, лечившийся у Фрейда, но и другие. Через шесть лет после срыва Рахманинова, в 1906 году, в депрессию погрузился Барток и не мог выйти из нее, пока не встретил Золтана Кодая.
[Закрыть]. Логично предположить, что Рахманинов львиную долю своей взрослой жизни страдал от хронической депрессии и крайней степени тревожности. Возможно, от Даля он получил то, что не могли предоставить ему ни Толстой, ни Чайковский, – идеализированный образ отца, и потому ему требовалось изредка посещать гипнотизеров в Париже, Люцерне, Нью-Йорке, Беверли-Хиллз (там, где он жил), чтобы снова почувствовать себя здоровым. Эти периодические посещения были краеугольными камнями его здоровья.
* * *
Гораздо сложнее измерить скрытность Рахманинова. Она проявилась в ранние годы и присутствовала в нем на протяжении всей его жизни, став настолько неотъемлемой чертой его характера, что было бы упущением ею пренебречь. Он сам о ней говорил, о ней знала его семья, а впоследствии адресаты его писем и его менеджеры, так что со временем его скрытность стала открытым секретом, хотя ее существование не могло переубедить тех, кто отказывался ее признавать. Откуда она взялась?
В своих исследованиях литературовед и семиотик Юрий Лотман сделал вывод, что заимствование русской аристократией европейских норм социального поведения исторически было непредсказуемым и неполным, и я считаю, что в этом кроется отправная точка рахманиновских аристократических масок[89]89
Ю.М. Лотман, «Поэтика бытового поведения в русской культуре XVIII века» в The Semiotics of Russian Cultural History Essays (Ithaca, N.Y.: Cornell UP, 1985), p. 67–94.
[Закрыть]. Лотман описывает «сознательную театральность» в ощущении русским дворянством западноевропейских манер, в особенности их «аутентичных различий» с коренными русскими манерами. Однако если благородные манеры, постепенно заимствованные аристократами в России, превратились в театральный маскарад, как предполагает Лотман, то их аутентичность – то, что скрывается за маской, за фасадом европейских обычаев, – тоже подлежит сомнению.
Дальнейший пример того, как заимствованные на Западе социальные нормы превращаются в мир масок, притворства, секретов, предоставляют два популярных русских литературных произведения, написанных в блистательное творческое десятилетие Рахманинова (1903–1913). Первое – пьеса Леонида Андреева 1907 года «Жизнь человека», тускло освещенная постановка, чьи персонажи-тени скрывают самые разные темные секреты. Критик Марк Д. Стейнберг очень точно сказал, что пьеса Андреева раскрывает самую суть аристократической нервозности русского Серебряного века:
…часто говорят, что описание «темноты», неуверенности, «маскарада» личин характеризует современную урбанистическую жизнь… Символизм рефрена пьесы («Кто они?»), постоянные жалобы на «обман», разговоры о подозрительных «отталкивающих», но в то же время зачастую «завораживающих» масках на лицах «незнакомцев» – все эти приемы и мотивы мы неизменно встречаем в историях о масках и маскараде как в литературе, так и в газетных статьях (как мы увидим далее) о маскараде повседневной жизни[90]90
Марк Д. Стейнберг, Petersburg, Fin de Siècle (New Haven: Yale UP, 2011), p. 89–91.
[Закрыть].
Другой критик, которого также цитирует Стейнберг, замечает, что ложь и маски способствовали нервозности высшего общества: «Повсюду ложь, на всех – маски», – этого состояния не избежал и Рахманинов, если верить его письмам. Роман Андрея Белого «Петербург» (1913), ставший тогда бестселлером – второе его произведение, – еще более ярок в своих призывах заглянуть за фасад и увидеть сокрытую истинную сущность людей, равно как и постановки 1911–1913 годов возрожденной пьесы Михаила Лермонтова «Маскарад» (1835). Один критик в своем отзыве на «Маскарад» написал: «… кажется, жизнь [сегодня] не что иное, как “шарада… обман”»[91]91
Там же, p. 90; обо всем этом говорит Марк Д. Стейнберг в своем многое разъясняющем сочинении Petersburg, Fin de Siècle.
[Закрыть]. Скрытность (как и убежденность в том, что все что-то скрывают) стала нормой, так что это была мрачная реальность русской жизни того периода, а не индивидуальная психологическая черта композитора Рахманинова. В «Петербурге» Белого «маски философски рассуждают о наружной иллюзии и пороге, за которым таятся “скрытое непознанное” человека и психологическая “бездна”». Один из персонажей Белого даже утверждает, что «все то – да не то».
В русской аристократической культуре, пропитанной тревожностью, которую еще усиливали частые политические волнения, скрытность была естественной реакцией, тем более заметной в эмоционально хрупком Рахманинове, недавно прошедшем курс гипнотерапии и оправившемся от психологического расстройства. К 1903 году он уже вышел из творческого кризиса, но все еще находился в тисках эмоциональной уязвимости. В таком случае разве не будет естественной реакцией скрыть настоящего себя и представить миру другое лицо, другую версию событий, когда вокруг все обманчиво и иллюзорно? Такая маска, по крайней мере, дает некоторую защиту от «сложности, странности, загадочности, запутанности, иллюзорности, фантасмогоричностн и невыразимого хаоса, что присутствует в романах вроде “Петербурга” и русской городской жизни тех лет, вплоть до революции 1917 года»[92]92
Там же, р. 92. Стейнберг не упоминает композиторов вроде Рахманинова.
[Закрыть]. Для гиперчувствительного ипохондрика Рахманинова маска выступает и как самолюбие, оберегающее его от непобедимой обманчивости. Тот самый черный концертный костюм – его пресловутый «плащ».
В изображении исторической личности сложно бывает отделить человека от его публичного образа. Однако я считаю, что, возможно, скрытность была заложена в самом темпераменте Рахманинова по причинам, которые мы можем лишь предполагать. Невозможно знать все о человеке, и не стоит даже притворяться, что знаешь. Возможно, в нем проявилась бы тяга к скрытности, даже если бы он родился в иное время, в окружении гораздо меньшего числа масок, ибо создается впечатление, что он наслаждался таинственностью. Например, что характерно, он пишет своему наперснику Морозову летом 1906 года о том, что «начнет с секрета»[93]93
Письмо Н.С. Морозову от 21 августа 1906 г.
[Закрыть]. Он и другим часто писал в том же духе. А потом оказывалось, что секрет – это перечисление грядущих концертов. Или, например, три года спустя, опять к Морозову, строчка: «Еще вот что, по секрету», – предваряет новость о том, что он не поедет в американское турне, чему не дает никакого объяснения[94]94
Письмо Н.С. Морозову от 6 июня 1909 г.
[Закрыть]. Десятки писем начинаются с «секретов», однако при прочтении выясняется, что секрет интересен только самому отправителю, а никак не адресату письма или будущим биографам. Почему Рахманинов так маниакально стремится скрыть себя? Может быть, вышеупомянутые маски убедили его, что весь мир пронизан таинственностью и он должен соответствовать?
Как известно было Сатиным, Рахманинов вырос в семье, полной скелетов в шкафу: изгнание отца, всевозможные запреты со стороны тиранической матери, ее собственные внутренние демоны, ограниченность в средствах, ненавязчивое спасение его Сатиными и принятие в семью. И все это происходило в контексте расколотой социополитической среды, породившей восстания и в конечном итоге революцию. В таких обстоятельствах скрытной личности легче пережить бурю, чем открытой. Но и этим все не исчерпывается.
Скрытность Рахманинова отягощалась его пожизненной ностальгией. Две эти черты необязательно предполагают друг друга (можно быть замкнутым, но при этом не испытывать ностальгии), однако в его случае они объединились в результате раннего нарциссизма и отчаяния, вызванного утратой. В его глазах история собственной жизни представала чередой лишений: сначала потеря семьи (папа Василий) и дома (Онег), потом карьеры (резкие критические отзывы на его первые серьезные произведения и крепнущее после революции 1905 года осознание, что он не сможет достичь в России того, к чему стремится), за ней – родины (бегство на Запад) и, наконец, после эмиграции, творческого вдохновения. После 1917 года он написал мало, и его способность сочинять романтические музыкальные произведения вроде тех, что он одно за другим сочинял в России, улетучилась – по причинам, которые я пытаюсь разъяснить в этой книге. Абсолютно все произведения, за которые мы его сегодня так любим, созданы в России до 1917 года.
Список потерь Рахманинова был длинным, и его еще преувеличивал пессимистический характер композитора, подверженный беспокойству и депрессии. Чувство утраты всегда тянуло его настроение вниз. И ощущение того, что утрата – основная черта его жизни, не покинувшее его даже в Америке, когда он стал богачом, способствовало скрытности в отношении самой этой утраты[95]95
Сведений о банковских счетах Рахманинова нет в публичном доступе, поэтому невозможно определить, насколько он разбогател. Тем не менее показательно, что после отъезда из России основной его годовой доход шел от концертов и записей, и только небольшую долю приносили роялти за его произведения (нотные записи). И все это были произведения, написанные до 1917 года.
[Закрыть].
Причина и следствие сошлись в замкнутом круге: скрытность усиливала его ностальгию, отчего та раздулась настолько, что он чувствовал, что ее необходимо скрывать. Эта черта была вполне типичной для русских эмигрантов в Америке, встречалась она и у других национальностей. Однако Рахманинов следовал ей с прилежанием, которого требовали глубокие психологические мотивы.
Эта цепочка находила свое отражение и в крайней закрытости повседневной жизни Рахманинова в Америке: он держался чуть ли не отшельником, когда не давал концертов. В конце концов, он был знаменитым пианистом, чью биографию можно было узнать хотя бы из концертных программок, в которых печатались основные факты с тех пор, как он попал в Америку. Поддерживая эту чрезвычайную скрытность, он мог спокойно предаваться ритуалам, ассоциировавшимся с его утраченной родиной: ограничивать круг друзей исключительно русскими, говорить и писать по-русски, есть русскую еду, пользоваться русским фарфором и самоваром, ходить только к русским врачам и дантистам, ограждая себя таким образом от своей новой страны. Возможно, он тешился мыслью когда-нибудь вернуться в Россию, но после сталинских репрессий 1937–1938 годов и возникновения нацистской угрозы это стало невозможно.
На протяжении веков приводились разные психологические теории относительно скрытности. Древнегреческий врач Гален считал ее одним из четырех основных типов личности. Фрейд и Юнг оба ассоциировали ее с нарциссизмом (хотя бы слабым), однако оценивали по-разному: Фрейд классически приписывал ее контролирующему «супер-эго», а по версии Юнга она могла выступать «психическим ядом», отчуждающим человека от общества[96]96
Карл Густав Юнг, Modern Man in Search of a Soul (New York: Harcourt, 1933). Более общее культурное исследование скрытности проводит Сиссела Бок в своей книге Secrets: on the ethics of concealment and revelation («Секреты. Этика скрытности и откровенности», Oxford: Oxford University Press, 1982).
[Закрыть].
Многое зависит от образа идеального родителя и развития «супер-эго», поэтому мы не можем не включить «супер-эго», как бы ни устарела эта концепция, в нашу дискуссию (мою и читателя). Многое проясняется, особенно скрытность Рахманинова, при условии, что мы не подвергаем сомнению «реальность» внутреннего мира. Здоровый ребенок передает свое чувство собственного величия идеализированному взрослому, который своей силой постепенно преображает его хрупкое «супер-эго» в хорошее, надежное и не слишком суровое. Даже если мы считаем «супер-эго» искусственной психологической моделью, нам приходится обратится к нему, чтобы определить источник современной скрытности. Более того, хорошее воспитание со стороны родителей способствует формированию скорее мягкого, чем сурового «супер-эго». Творческим людям (вроде Рахманинова), которые стремятся вести обеспеченную жизнь, это мягкое «супер-это» идет на пользу. Но властная и амбициозная Любовь Петровна действовала совершенно противоположно: непрестанно пилила сына и требовала от него величия.
Новейшие теоретики психоанализа подчеркнули связь скрытности с нарциссизмом и показали ее роль в жизненном цикле нарцисса с точки зрения обмана. Иными словами, ложь нарцисса состоит в подсознательных трансформациях представлений о собственном величии, сформировавшихся в детстве в его неустойчивом – даже искаженном – «супер-эго». «Но поведение Рахманинова было скромным, даже смиренным», – возражаю я. И дальше смею заявлять, что он «никогда не врал, не восхвалял себя, не был о себе слишком высокого мнения». Допустим, это правда, однако он тем не менее был чрезмерно к себе требователен (контролирующее «супер-эго»): 1) в игре на фортепиано; 2) в своей убежденности, что он должен быть великим композитором и в то же время виртуозным пианистом; 3) в непреклонной решимости во что бы то ни стало вести русский образ жизни своего детства.
Последний пункт был «белой ложью», тогда как первые два – непомерными требованиями. Его «супер-эго» орало:
– ты должен стать величайшим из современных исполнителей;
– ты должен писать музыку, достойную русского Шопена;
– ты должен жить в точности так же, как жил в Онеге и Ивановке.
Такова была подмена понятий со стороны его «супер-эго»; психоаналитик Хайнц Кохут, виднейший исследователь нарциссизма нашего поколения, называет это вымыслом, объясняя в своей «фантастической псевдологии», откуда берется ложь[97]97
Хайнц Кохут (прим. (52) на с. 184).
[Закрыть]. Не «сознательная ложь»: притворство Рахманинова состояло не в том, что он делал вид, будто он богаче, чем на самом деле, будто у него больше роялей «Стейнвей», автомобилей «порш» и арабских скакунов, а в том, что он изображал из себя старосветского русского аристократа, живущего и дышащего до-большевистским прошлым.
Доктор Даль оказался спасением для непомерно жесткого «супер-эго» Рахманинова: с помощью гипноза он успокоил его «супер-эго», вывел из творческого застоя, уменьшил остававшийся в молодом человеке нарциссизм, что позволило ему жениться на кузине Наталье. Это была задача не из легких, и заслуги доброго гипнотизера заслуживают большего признания, чем они получают. Можно спросить, насколько нарциссическим оставался Рахманинов после Даля, но, похоже, в нем исчезла склонность к самокалечению, повлекшая эмоциональный срыв 1897–1900 годов.
Зачастую мы называем «нарциссом» любого, кто нам не нравится, но это слишком вольное словоупотребление, и, если бы мы не оперировали точными критериями, мир кишел бы клиническими нарциссами. Возможно, их и так слишком много, однако каждой знаменитости – не просто успешному исполнителю – нужна толика нарциссизма, чтобы обрести уверенность в себе, необходимую для международной карьеры. Вполне предсказуемо, что в 1920-х, когда Рахманинов добился мировой славы как пианист, он стал еще более скрытным, чем прежде. Так и случилось, но в то же время его «супер-эго» смягчилось, стало более умеренным, здоровым, он стал позволять себе удовольствия, покупать машины. Он все еще вздыхал по русскому прошлому, но лишь в ущерб своей креативности.
Его способность сочинять пострадала после 1917 года. Каким-то образом его суровое «супер-эго» времен до Даля вдохновляло его на великие произведения (до 1917-го), пока чуть ни уничтожило своей психологической силой. Даль вызвал период творческого бума 1900–1912 годов. Но когда Россия оказалась под угрозой и позже, когда он окончательно лишился родины, вспыхнула старая искра. Он не бросал попыток, однако никогда больше не создал ничего подобного Первому, Второму и Третьему концертам для фортепиано, только противоречивый Четвертый, написанный в Америке, о котором с пренебрежением отзываются столь многие музыканты и ценители.
Видный американский психоаналитик Джеймс Гротштейн пишет о «великолепии в траве, которое испытывает зародыш в утробе матери» и, описывая последующую способность пациента к восприятию, утверждает, что умение воспринимать красоту и создавать ее возникает в этом «влажном, воздушном вместилище прекрасной симметрии»[98]98
Доктор Джеймс Гротштейн, The Appréhension ofBeauty and lis Relation to «O» (The International Journal of Melanie Klein and Object Relations 16(2) (1998): 273–284). «Великолепие в траве» Гротштейна не просто отсылает к одноименному фильму 1961 года, главными мотивами которого были сексуальные желание и фрустрация, но также исследует влияние этих желания и фрустрации на последующие эстетические способности ребенка. Основная его мысль в том, что способность ребенка создавать прекрасное взаимосвязана с его воспоминаниями о жизни внутри матери.
[Закрыть]. Далекие ностальгические воспоминания, к которым постоянно прибегает Рахманинов, соединяются с нарциссическими воспоминаниями о прошлом блаженстве. Конечным итогом, по Гротштейну, выступает зарождающееся представление об идеализированной матери – прекрасной, как само воспоминание, даже если в действительности она (Любовь) была матерью жесткой и калечащей.
Возможно, это слишком теоретический подход, хотя Рахманинов и мог подсознательно видеть мать «влажной, воздушной», но на самом деле она была совсем другой – ужасной родительницей, с ранних лет требовавшей от сына величия и помешавшей формированию его здорового, мягкого «супер-эго». Любовь Петровна внушала сыну то же, что и Даль много лет спустя: «Ты станешь величайшим пианистом в мире, ты напишешь великий концерт». Однако она отдавала приказ, тогда как Даль говорил с ним как снисходительный друг, что приобрело в сознании Рахманинова символическое значение.
Неудивительно, что потери казались Рахманинову неоднозначными и всепоглощающими: потеря зрелости и здорового «супер-эго» помогла ему, затем последовали утрата вдохновения, открытости и общения с друзьями, даже утрата тайной комнаты, о которой он мечтал и которую позволил себе. Неудивительно, что в жизни его интриговали те, кто так же скрывал свою личность. Его биография изобилует примерами, в ней присутствуют не только молодые певицы и поэтессы, но и загадочная европейская леди – он звал ее «Белые лилии», – которая анонимно слала ему цветы после каждого концерта, данного в России до 1917 года.
Позже, в Америке, его замкнутость помешала ему преподавать. Он мог бы брать огромную, чуть ли не королевскую плату и объяснял свой отказ нехваткой времени. Настоящей причиной была его всепроникающая скрытность, которая отразилась бы на преподавании. Слишком сдержанный учитель никогда не захватит внимание учеников, даже если он прославленный пианист. У тех. чья манере обучения слишком скованна и формальна, ученики ничего не усваивают.
Своих возможных учеников Рахманинов держал в секрете, совсем как произведения, над которыми работал, и тех, кому они были посвящены. Признанная пианистка Джина Бахауэр (1910–1976) писала, что брала у него уроки, – то же указывается и в ее концертных программках. Однако после смерти Рахманинова и его вдова Наталья, и его постоянный американский менеджер Чарльз Фоли это отрицали и даже устроили публичный скандал. Фоли категорически заявил, что Рахманинов никого не учил игре на фортепиано с 1893 года до самой своей смерти пятьдесят лет спустя. Вряд ли, однако, Бахауэр все сочинила или вообразила себе, даже если уроков было меньше, чем она утверждала[99]99
Доказательства обеих точек зрения содержатся у Грэма Уэйда в Gina Bachauer: A Pianist’s Odyssey (Leeds: GRM Publications, 1999), p. 10–14. Печально читать письмо Бахауэр в свою защиту: «Мне остается лишь добавить, как удивило и ранило меня то, что миссис Рахманинова по необъяснимым причинам решила отрицать все, что я рассказывала о своих уроках с Рахманиновым, но сначала дождалась, когда мои слова появятся в печати, чтобы опровергнуть их уже после того, как полностью их приняла…» (Уэйд, р. 13). Какова бы ни была правда, эта ситуация возникла во многом благодаря тяге Рахманиновых к скрытности.
[Закрыть].
Нежелание Рахманинова брать учеников было вызвано не воспоминаниями об отвратительной тирании Зверева, а чем-то более глубоким по отношению к его скрытности: уже выдвигалось предположение, что как учитель он держал студентов на расстоянии и слишком боялся открыться им. Однако сегодняшний общепринятый образ Рахманинова не отражает всю его скрытность, не собирает ее слитые друг с другом характеристики в понятную оболочку.
К тому же большинство любителей его музыки обычно забывают, что те вещи, которые им у него нравятся, написаны до отъезда из России. Его лучшие произведения: концерты, сонаты и прелюдии, Вторая симфония и «Остров мертвых» – все передают ощущение длительной меланхолии и утраты, отчего слушателю кажется, будто композитор испытал все эти эмоции, что, конечно, так и было. Но на этом психологическая специфика заканчивается. Скрытность, попытки поддерживать в быту образ жизни, который он вел в старой России до 1917 года, суровые требования к себе, вина за то, что ему было предназначено вечно оставаться в рамках позднего романтизма, – все это лишь фрагменты единого целого.
Обычно Рахманинов открывал свои самые темные секреты в письмах к доверенным друзьям, вроде Морозова. С возрастом он несколько перестал цепляться за прошлое, возможно, потому, что слишком свыкся с внутренним голосом, убеждающим его в неспособности двигаться дальше. За два года до смерти он сделал публичное заявление. Раскрыл свой секрет неизвестному репортеру из «Мьюзикал курьер»:
Я чувствую себя призраком в мире, который стал чужим. Я не могу перестать писать по-старому и научиться писать по-новому. Я прилагал колоссальнейшие усилия, чтобы проникнуться современной музыкальной манерой, но она никак во мне не отзывается… Несмотря на то что мне довелось пережить катастрофу, случившуюся с Россией, где я провел счастливейшие годы жизни, я всегда чувствую, что моя музыка и мое восприятие музыки остаются неизменными по духу, бесконечно покорными в попытках создать красоту..»[100]100
См. Бертенсон, p. 351.
[Закрыть]
* * *
Сказать, что Рахманинов не участвовал в политике, будет очень сильным преуменьшением. Вся политика, в которую он был вовлечен до 1917 года, сводилась к эмоциональной политической ностальгии: он гораздо острее, чем другие, чувствовал, что старая Россия ускользает, уступает место революционной новой, и сильнее переживал эту утрату. Возможно, поэтому в конце жизни он так нелогично, все время повторяясь, описывал, каким композитором был:







