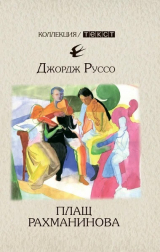
Текст книги "Плащ Рахманинова"
Автор книги: Джордж Руссо
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 18 страниц)
Хелен не отступала:
– Так откуда ваялась эта одержимость? Она думала, что встретит великого человека в Беверли-Хиллз восставшим из мертвых?
– Нет, Хелен, она была не маньячкой, но ты же прекрасно знаешь, как начинается одержимость. Рахманинов служил связующим звеном между разными частями ее мятущейся души. Она похоронила его вместе со своей неудавшейся карьерой, Ричардом и Сэмом. А потом, когда она наконец освободилась и набралась смелости покинуть Нью-Йорк, ее подсознание стало требовать, чтобы она примирилась наконец с окружающими ее могилами, кладбищем ее мечтаний.
– Ясно, – протянула Хелен более мягким тоном. – Но ты рискуешь выбить читателя из колеи – он решит, что ты предлагаешь ему посетить его собственное ментальное кладбище.
– Хорошо, я признаю наличие этой опасности, но я хочу, чтобы читатель проникся к Эвелин сочувствием, а не начал растравлять себе душу, сравнивая себя с ней.
– Конечно, но Эвелин возвела давно умершего человека в воображаемый идеал. По мне, так это самая настоящая мания – и к тому же то, что она считала себя единственным человеком в мире, способным его понять и последовать по его стопам, отдает крайним нарциссизмом. Ее нарциссизм ничуть не меньше его ностальгии.
От ее последних слов я остолбенел: она все увидела, увидела параллельные вселенные двух протагонистов даже более ясно, чем параллель между нарциссизмом и ностальгией. Я спросил себя, не пытается ли она сказать, что все читатели в итоге будут вынуждены столкнуться с собственным нарциссизмом, как бы они этому ни сопротивлялись.
Я потянулся к джину, чтобы скрыть свое состояние, но не успел сделать два глотка, как Хелен продолжила:
– К тому же чья это история, твоя или ее?
Мне не нужно было думать над ответом.
– «Плащ Рахманинова» – моя история, хотя Эвелин тоже приложила к ней руку. Разве ты не видишь, Хелен, между историей и воспоминаниями большая разница, даже если одно органично переходит в другое? Я бы никогда не стал другом Эвелин, если бы не сломал виолончель Ричарда. Эвелин привела меня к Рахманинову. С ее помощью он оказался в центре моего исследования ностальгии. Я знаю, звучит безумно, но это правда. Это необыкновенная история, которая случается раз в жизни, и потом ты всю жизнь пытаешься понять, что она означала.
Хелен перебила:
– Это в том случае, если ты еще сможешь правильно соединить все линии.
– Хочешь сказать, они подумают, что это слишком высоколобо?
Хелен заерзала. Она знала издательский бизнес.
– Они не идиоты. Чтобы все получилось, ты должен написать гениально.
– Композиция правильная, и я рассказываю ее своим собственным голосом.
Моя подруга была боевой журналисткой.
– Ты должен попробовать.
– Да, – ответил я, решившись.
Хелен поджала губы; внезапно она показалась мне зловредной кошкой. Конечно, она иногда высказывала рискованные утверждения, но не начались ли у меня галлюцинации?
– А может, стоить все бросить? – спросил я.
– Джордж, не глупи.
– Я уверен, что прав: Рахманинов перестал творить, потому что страдал, а не потому, что не мог дождаться, когда положит себе на счет очередные пять тысяч долларов и станет миллионером.
146
– Отчего именно он страдал?
– Хелен, мы это уже обсуждали. Ты знаешь. Он тосковал по России, по озерам, по своему детству. Он был болен ностальгией…
Хелен перебила, не успел я договорить;
– До черта людей желает вернуться в детство. Все романтики. Половина модернистов. Большинство литературных и киношных изгнанников. Что такого особенного в твоем Сергее?
Я мог бы ее опровергнуть. Я целое состояние потратил на междугородние звонки, два года анализируя с ней ситуацию Рахманинова, пытаясь убедить ее в том, что русские не такие, как все. Русская ностальгия – недуг совсем иного сорта
– Но, Хелен, он был русским. Не немцем, не французом, он был болезненным запоздавшим русским романтиком, а русские другие. Как ты не понимаешь?
– В чем же они другие?
– Они невообразимо, беспросветно мрачные и думают, будто все предрешено.
Хелен знала о русской мрачности – она знала обо всем, – но решила, что сможет лучше все уяснить, если заставит изложить ей все заново, шаг за шагом.
Я сдался и начал сначала:
– Я знаю, что в этом все дело. Рахманинов, которого мы все любим, умер как творец в 1917 году, когда бежал из России. После этого он больше не мог творить. То, что он сочинял, никуда не годилось. В нем что-то сломалось. Навсегда.
– Так в чем же дело: в сексе, несчастной жене, любовницах?
– Нет, – настаивал я, – в чем-то более глубоком, что сложно объяснить, не прибегая к биографии, психоанализу, русской истории.
Я погружался все глубже и знал это, но сложность предмета не могла отпугнуть боевую Хелен.
– То есть Рихард Штраус сказал бы, что Рахманинов потерял свою тень?
– Нет, Хелен, это была не символическая тень, – она бы оскорбилась, если бы я стал читать ей лекцию о Die Frau ohne Schatten[24]24
«Женшина без тени» (нем.), опера Рихарда Штрауса. (Прим. переводчика.)
[Закрыть] которая не может производить на свет потомство, но проблема Рахманинова была не в этом.
– Так почему же так важно продемонстрировать эту творческую смерть через ностальгию, Джордж?
– Потому что, – огрызнулся я, прекрасно зная о ее стратегии выуживать информацию шаг за шагом, – потому что он был одним из талантливейших творцов, когда-либо явленных миру Россией, а его биографы все профукали. Необязательно изучать каждого пианиста, кто завораживает публику, но канонические композиторы – они творцы, волшебники, боги…
Хелен снова перебила:
– Разве недостаточно просто определить ностальгию в его музыке? Как это делают музыковеды – в мелодии, гармонии, ритме?
– Нет! Мы должны рассмотреть ее с психологической и исторической точек зрения. Иначе мы никогда не поймем, почему русский Рахманинов сочиняет гениальные произведения, а американский Рахманинов – произведения без души.
– Без души, да ладно тебе, кто сможет устоять перед презренным металлом!
– Да, без души, жалкие, вторичные, бледная тень произведений его русского периода. Только Стравинский и его биограф музыкальный критик Роберт Крафт называли вещи своими именами и кое-кто из музыковедов вроде Ричарда Тарускина. Остальные, особенно биографы Рахманинова, об этом умалчивают. Слишком боятся.
– Даже академики?
– Даже они. Молятся на его виртуозность, потому что он собирал полные залы. Представь, как они станут поносить мою книгу.
– Да, наверное, в качестве рецензентов пригласят именно Рахмафию, – язвительно обозвала их Хелен.
– Неподходящие рецензенты для этой книги.
– Ну, дорогой мой, ты не можешь сам выбирать себе рецензентов.
– Конечно, но у меня тоже есть принципы.
Хелен стала уставать от разговора. Ей нравилась классическая музыка, но Рахманинов как человек ее совершенно не интересовал, и ничто из того, что я сказал ей по телефону за эти два года, не могло изменить ее отношение. Как и многие любители музыки, она часто слушала его концерты, но даже не осознавала, что все, что ей нравилось, было написано до того, как он уехал из России.
Я продолжал:
– Каждая деталь в жизни Моцарта, Бетховена Шопена и им подобным уже обмусолена. Историю Шумана с Кларой сто раз пересказывали – то, как он бросался в Рейн. Клара – любовь всей его жизни. Клара еще и ключ к понимаю Брамса. Бла-бла-бла Но Рахманинов остается загадкой, он окутан тайной, о нем все молчат.
– Джордж, успокойся, ты говоришь бессвязно, – бесстрастно заметила Хелен и подлила мне джина.
– А ты как хотела? Ты же меня напоила.
Хелен подняла брови, как будто отвергая обвинения в злом умысле.
– Хелен, ты права Рахмафия действительно существует в Европе и в США. Я мог бы противостоять ей, если бы расхваливал Рахманинова иди поносил, но я не хочу делать ни того, ни другого. Я хочу создать совершенно новый тип биографии.
– Хочешь сказать, все настолько черно-белое?
– Либо боготвори его, как традиционные биографы, либо ругай, как некоторые музыковеды.
– Но ты не хочешь делать ни того ни другого, – подытожила Хален.
– Да, – робко сказал я.
– Тогда какую биографию ты хочешь написать?
– Я вообще не хочу писать биографию. Я хочу обрисовать, какой могла бы быть совершенно новая биография, но не писать ее. Мемуары ностальгии – вот что я хочу написать.
Я не стал развивать свою мысль. Я лишь мельком упоминал об Эвелин и не хотел пересказывать ее длинную и сложную печальную историю. Хелен прекрасно знала, что такое параллельные вселенные, и согласилась с существованием параллельных вселенных Рахманинова и моей, без Эвелин. Но она оживилась:
– Мемуары ностальгии – это интересно. Я охотно взялась бы их рецензировать, если бы мне предложили. Если подумать, никогда о таком не слышала.
– Вот то-то и оно, но еще я хочу рассказать правду о том, что с ним случилось, честно, нейтрально и по возможности беспристрастно. И чтобы это сделать, мне нужно соединить в одном смешанном жанре несколько параллельных вселенных.
Хелен заметила, что чего-то не хватает:
– На чем же эта правда будет держаться?
– На его ностальгии, – ответил я, – но в его ностальгии кроется загадка. Тоска по дому важна для его творчества как в первой, так и во второй половине жизни. В первой половине ностальгия служит вдохновением, во второй – убивает вдохновение. Проблема только в том, что книга о ностальгии обречена на провал.
– И как же, дорогой мой, – несколько снисходительно спросила Хелен, – ты собираешься представить миру эту метафизическую ностальгию?
– Хелен, тебе никогда не нравилась ностальгия!
– Ну, это же не парень, с которым я могла бы встречаться.
– Ты знаешь, о чем я: ты никогда не считала ностальгию серьезным психологическим состоянием, которое может и парализовать нас, и наполнить энергией, точно так же, как депрессия, или астерия, или…
– Тогда почему мы не принимаем от нее успокоительное?
– Когда-нибудь станем принимать. В медицинской классификации ностальгия когда-то считалась болезнью людей, которые эмигрировали и не смогли приспособиться в новой стране. Как все выходцы из Восточной Европы, оказавшиеся в Америке.
– Я пишу рецензии на книги и никогда не читала об истории ностальгии.
– Ее нет: когда-то ностальгия была широко описана, особенно ностальгия солдат на войне, но потом ее выпустили из виду.
Хелен стала внимательнее слушать своего подвыпившего друга.
– Долбаный Фрейд исключил ее. Если бы только он вписал ее в свой психоанализ, дал ей равный статус с истерией, ты бы понимала, о чем я говорю.
– О’кей, ты меня убедил, – отвернувшись, она понюхала гардению и стала смотреть на сосны.
Но я вошел в раж и уже не мог замолчать, как волчок, который не остановится, пока не завершит оборот.
– Карл Ясперс, философ, пытался убедить Фрейда, но тот не слушал. Был глух к слову на букву «н».
Точно как Хелен, которая всегда желала мне самого лучшего, особенно до того, как мы расстались миллион лет назад. Тогда она говорила, что я – любовь всей ее жизни, но смирилась перед лицом «сексуального реализма», как она это называла. Она не понимала, почему я поднимаю такой шум из-за этих параллельных вселенных, но уступила:
– Ты хороший писатель, Джордж, у тебя все получится.
Неожиданно я притих. Что-то в высказываниях Хелен ранило. Она знала, что я собрал уйму материала для «культурной истории ностальгии», но в ту наполненную ароматом гардений ночь я описывал ей мемуары под названием «Плащ Рахманинова».
* * *
Наши «Катскильские беседы», как я стал называть их впоследствии, оказались более полезны мне, чем моей собеседнице. Обратно на Западное побережье я вернулся полным энергии и готовым к экспериментам с изложением своих идей или, по крайней мере, к попыткам вписать жизнь Рахманинова, от начала до конца, в логичную модель человека, страдающего от ностальгии по потерянной России. Сколько я себя помню, я всегда считал, что жизнь – это связная история, и люди редко отказываются от такого представления о ней до момента смерти. Люди отвергают идею органической связности собственной истории только в самом конце своего жизненного пути: когда тонет корабль, когда они неизлечимо больны, лежат при смерти – да и тогда редко. В противном случае, если бы мы отказывались от этой идеи гораздо раньше, если бы соглашались, что жизнь развивается беспорядочно и состоит из разрозненных эпизодов, мы бы неизбежно предавали себя в руки Смерти и становились ее трагической жертвой. Представьте, какую боль причиняет осознание, особенно в конце жизни, того, что она бестолкова, нелогична и бессвязна. На такое осмеливаются только запутавшиеся, мятущиеся люди или люди с душевным расстройством.
В последующие дни, проведенные вместе с Хелен, мы с ней оттачивали наш интеллект, рассматривая добродетели и пороки различных форм повествования, по очереди осуждая их и защищая. Модель связного повествования кажется менее трагичной, чем ее противоположность; кто станет отрицать ее достоинства? Большинство людей хотят, чтобы искусство, особенно художественная литература и драма, придавало их жизни дополнительное значение, соотнося их собственные беспорядочные нарративы с законченными теориями, о которых они читают в трудах по истории, философии, теологии – всем так называемым наукам жизни, – где жизнь предстает цельной с первого своего дня. Но представьте себе, что реальная проживаемая нами жизнь разворачивается безо всякой логики, отдельными, никак не связанными друг с другом эпизодами. Или так тесно переплетена с жизнью других, что сложно представить жизнь конкретного индивида как самостоятельную.
Я верил, что жизнь Рахманинова, как и большинство жизненных историй, была связной и логичной, пусть и неровной, что я мог бы придать форму этой истории – его биографии, – если бы только узнал «правду» о его внутреннем мире и о том, что им двигало. Все это время я надеялся, что смогу вместить мое ощущение его личности в базовые рамки связного повествования. Однако «Катскильские беседы» помогли мне понять, что у Рахманинова может быть «множество личностей», что его отраженная в биографии личность может оказаться менее ностальгической, чем я себе представлял, и что, возможно, мне придется включить также не связанные с ностальгией аспекты его жизни. В результате может получиться менее связное повествование о персонаже – более рыхлый «Плащ Рахманинова», так сказать, – но зато мне удастся изобразить его полнее.
Поэтому-то прощальный дар Эвелин – ее сундук – стал для меня благословением. Ее миссией было спасти себя через композитора, который одновременно зачаровывал и раздражал ее, – безумная погоня, полная интуитивных проблесков и видений. Биографы Рахманинова – особенно Бертенсон, которого она, как мы увидим, читала, – погрешили и в отношении связности, и в отношении бессвязности, изобразив жизненный путь протагониста без основной линии (что я называю «связным повествованием»), которая тем не менее развивается хронологически и проходит через очевидные начало, середину и конец. Записки Эвелин открыли окно в загадки ностальгии. По ее версии ностальгической жизни, которую она испытала на себе, люди через ностальгию одновременно страдают и возвышаются; доступ к ее защитной маске, иллюзорному щиту передается не через культурную связь эпох, а от одной ностальгической личности к другой. Если гипотетически представить Эвелин биографом Рахманинова, то получится, что ностальгическая Эвелин пишет о жизни своего собрата по духу. Эта крайняя степень взаимопонимания проявилась в том, что повествование становится менее связным. Оно состоит из заметок, обрывков, воспоминаний, наблюдений, мечтаний, шуток. Нетрадиционное жизнеописание, предложенное в ее дневниках, представляет гораздо более широкий и гибкий, хотя, возможно, и трагичный образ Рахманинова как человека, нежели тот, что предлагают радикальные сторонники связного повествования.
Даже записи, сделанные до ее переезда в Калифорнию, изобилуют крупицами откровений:
1961: Почему люди так любят Прелюдию до-диез минор, почему этот фальшивый китч так зачаровал массового слушателя?
1962: В первый раз читаю Бертенсона, ужасно, сухо, одни факты. Он собирает гору фактов и вываливает их, но Р. он не чувствует.
1963: Любить играть музыку Р. и знать о нем хоть что-то – далеко не одно и то же.
1963: Хотелось бы мне сидеть рядом с Р. за обедом? Еще как!
1964: Русская музыка всегда отражает русскую душу, единственный вопрос – как у Р. или как у Прокофьева?
1964: Я возвращаюсь к Берте неону почти еженедельно, но он совсем не понимает Рахманинова, просто сваливает в кучу факты.
1965: Хотелось бы мне встретить кого-нибудь, кто знал Р.
1965: Только что слышала по радио Симфонию Нового Света Дворжака, и мне кажется, что она о тоске по дому (по Богемии?). Сколько еще композиторов (Малер) и писателей (Диккенс), находясь в Америке, страдали от ужасной тоски по дому? Р. был другим: тоска по дому преследовала его всю жизнь.
1966: Моя погоня за Р. не безумна, я нормальный человек.
1966: Каково это – любить свою страну сильнее ребенка? Я не такая, но Р. таков. Он нежно любил двух своих дочерей, но еще сильнее любил Россию. Я никогда не читала хороших книг о ностальгии.
1967: Мое увлечение музыкой Р. в юности было оправданно, но я никогда не осмелилась бы при нем играть.
1968: «В Париже в мае очередная революция… как та, что пережил Р.
1969: Август, пляжные деньки, все так ново для меня, смотрю на качков на Венис-бич. Вырезала рецензию на молодого русского пианиста, который играл Первый концерт Рахманинова в Голливуд-боул. В интервью по радио он звучал истерически, его английский совершенно невразумителен. Искушенный интервьюер: «Хотели бы вы встретиться с Рахманиновым?» Русский пианист: «Да, конечно». «Почему?» Пианист: «Он был таким загадочным». Интервьюер: «Что же в нем было загадочного?» Русский: «Я хочу спросить у него, каково было написать концерт, – ведь ему тогда было всего семнадцать; хочу опросить, о чем он думал, когда сочинял». Интервьюер: «Но мы обычно представляем Рахманинова старым: двухметровый великан в черном костюме, волосы ежиком, вечно одетый так, даже в жару». Пианист, напирая на слово «русский»: «Это был русский черный костюм, русский полу-плащ, полу-брюки, он был не старый, не динозавр».
В дневниках Эвелин также отмечены конкретные даты, когда она читала: «10 сентября 1972, жара невыносима, весь день сижу у окна, впитывая морской ветерок, с Бертенсоном в руке, он ничуть не лучше, чем в прошлый раз. 5 января 1973, дождь хлещет с самого Нового года, не могу выйти на улицу, сижу за столиком с биографией Р. Виктора Серова – по крайней мере, он не перегрузил ее фактами, как Бертенсон. 10 мая 1975, встреча с Дейзи Бернхайм навеяла мне желание почитать о Р., поэтому я вернулась к Бертенсону, который не употребляет слово “ностальгия” и не понимает его. Неужели Бертенсон сам не страдал от ностальгии, когда эмигрировал в Америку?»
Представление Эвелин об идеальном портрете, который она искала, но не нашла у Бертенсона, можно реконструировать по заметкам, сделанным ею во время чтения. Примечательно, что она пишет, что ей нужен «плащ» как условный символ ее видения Рахманинова и, возможно, некий покров, окутывающий его жизнь. В ее записках говорится о защищающем плаще и о воображаемой книге под заголовком «Плащ Рахманинова», в которой рассказывалось бы о параллельных вселенных, соединенных тремя трагедиями: ее самой, Ричарда и Рахманинова. «Черный плащ» символизировал для нее ограждение от руин, оставленных ностальгией, и ее представление о постоянно играющем Рахманинове, неспособной остановиться марионетке, оказавшейся в плену собственного легендарного образа.
Надевал ли Рахманинов черный плащ на те два выступления, которые Эвелин посетила в Нью-Йорке? В дневнике об этом ни слова, но ока ясно дает понять, что не представляет его выступающим на сцене без этого русского, наглухо застегнутого, черного одеяния.
Интересно, догадывалась ли Эвелин о том, что одной из главных помех для воображаемого жизнеописания были музыковеды? Большинство из них отмечают, что после отъезда из России Рахманинова покинуло вдохновение, но никак это не комментируют, словно существовало два, а то и три Рахманинова, словно он, неустойчивый биографический персонаж, раздвоился или расстроился, и совершенно выпускают из виду влияющие на вдохновение факторы: его романы, ипохондрию и эмоциональный срыв, его замкнутость, потерю России и статус эмигранта – всему этому не придается значения. Новая, более полная биография показала бы, как чувство утраты нарастало в течение шести десятилетий и какая сила умерла в нем, когда он покинул Россию. В противном случае писать очередную вторичную биографию, где говорить, что слабые композиторские способности Рахманинова не позволили ему прийти к чему-то новому, будет то же, что изобретать колесо[25]25
Пример – биография Рахманинова Майкла Скотта Rachmaninoff (Stroud: History Press, 2008), но есть и другие.
[Закрыть].
Но все это воображаемый «Плащ Рахманинова» Эвелин, а не мой. В мой «Плащ» входит и ее история, которой в ее воображаемой книге, конечно, не было. Эвелин никогда не представляла себя персонажем. Параллельные вселенные, которые создал я, когда прочитал ее записи, были совсем другим «Плащом Рахманинова»: это была странная двойная история ее одержимости Рахманиновым и Рахманинова – Россией, как будто они были двойниками.
Исторически Рахманинов был поздним – очень поздним – романтиком, захваченным ностальгией по России, которую потеряло его поколение аристократов. Сводить его ностальгию к интуитивно ощущаемому сожалению об исчезнувшей иерархии и патриархальности значило бы преуменьшать ее, какой бы подлинной ни была утрата родной земли, семьи и всего, что с ними связано. Когда поздние романтики становятся изгнанниками (многочисленное сборище от Генри Джеймса и Джеймса Джойса до немецких и австрийских беженцев), они переживают потерю родины гораздо более мучительно, чем ранние романтики (круг Байрона – Шелли, Уильям Бекфорд), жаждущие идти вперед. То, что их всепоглощающая ностальгия могла быть признаком упадка, неспособности двигаться в ногу со временем, волновало их меньше, чем острое ощущение утраты.
Вряд ли Рахманинов думал, что его тоска по всему русскому признак упадка. Музыка, которую он писал еще в России, пропитана ностальгией в гораздо большей степени, чем музыка таких же поздних романтиков Густава Малера и Рихарда Штрауса. К тому же они оба внесли гораздо больше нового в музыкальные формы, нежели Рахманинов. После 1918 года, когда Рахманинов уже бежал из России, в своих сочинениях он стал уделять больше внимания стилистике, отмечают музыковеды[26]26
См. важную книгу Дэвида Каинаты Rachmaninoff and the Symphony (Innsbruck and Lucca: Studien Verlag: UM Editrice, 1999).
[Закрыть]. И когда формальное сходство возобладало, Рахманинов стал полагаться на уже укоренившиеся привычки из добольшевистских времен – устоявшиеся стилистические приемы, от которых он уже не мог избавиться.
Моя воображаемая биография показала бы живого человека за этими утратами и объяснила, какой урон они нанесли композитору. Я жаждал биографии, которая объединила бы с десяток категорий, но дневники Эвелин убедили меня – до их прочтения я не ожидал, что это возможно, – что новый взгляд на Рахманинова будет иметь важное значение и без этого десятка.
Много месяцев я представлял себе книгу из четырнадцати глав со ссылками на множество источников и примечаниями. Ее писала бы группа ученых, а не один биограф-сверхчеловек, обладающий познаниями во всех необходимых областях. Команда состояла бы из экспертов по русской истории и литературе, истории медицины и психоанализа, истории и теории музыки, социологии эстетики, преподаванию фортепиано, теории музыкального исполнения, а еще туда должен входить воображаемый историк ностальгии – науки, столь важной для понимания Рахманинова как человека, которая находится еще в развитии, в поисках своего виднейшего ученого. Сам я написал бы главу об ипохондрии, ипохондрии души, а не физических органов. Конечно, такой команды не существует, она воображаемая, и такая книга никогда не была написана. Полная версия вышла бы гораздо длиннее, чем тот набросок, что последует ниже[27]27
Все даты из биографии Рахманинова до конца 1917 года даются по юлианскому календарю, а с 1918-го – по западному григорианскому календарю. Разница важна в 1917–1918 годах, когда Рахманиновы бегут из России.
[Закрыть].







