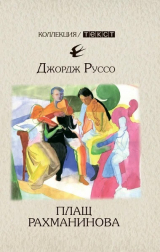
Текст книги "Плащ Рахманинова"
Автор книги: Джордж Руссо
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 18 страниц)
В высочайших, равно как и самых агрессивных проявлениях великого музыкального произведения, как, например, первая часть Девятой симфонии [Бетховена], эта интенция [великая музыка «такая, какая есть»] достигает красноречия через чистую обоснованность. В более посредственных произведения она появляется как слабое подобие, например, Прелюдия до-диез минор Рахманинова, которая бубнит «все таково, как есть» на протяжении всего произведения, от первого до последнего такта, при том что в ней отсутствует элемент становления, необходимый для того, чтобы достичь состояния, о существовании которого она заявляет, абстрактно и безрезультатно[111]111
Essays on Music: Adorno (University of California Press, 2002), p. 292. Ранее в этом параграфе Адорно объясняет, что и великая музыка, и кич равно выражают интенцию и суждения. Также он рассматривает кич в The Culture lndustry (London: Routledge, 2001).
[Закрыть].
Иными словами, Прелюдии Рахманинова не хватает формальной обоснованности, чтобы стать «великой»; она бездумно повторяет от начала до конца эти три ноты: ля, соль-диез, до – бесконечно бубнящие, по мнению Адорно, обреченное «все таково, как есть», и это превращает ее в кич. С точки зрения Адорно, в ней нет аутентичности и она не заявляет ничего стоящего, потому что в ней нет «элемента становления». Тот факт, что исторически это самое популярное произведение Рахманинова для фортепиано, служит дальнейшим доказательством: это четырехминутное произведение (слава Богу, не дольше) его просили сыграть по всему земному шару, и на этом он заработал миллионы, а само произведение в глазах массового слушателя прошлого века стало самым любимым в классическом репертуаре. Это доказывает, напирает Адорно, что Прелюдия до-диез минор не искусство, а пошлая безвкусная вульгарщина, существующая лишь для того, чтобы доставлять мгновенное наслаждение. Кажется, что ее сложно играть, но на самом деле легко, как он демонстрирует. Она добивается этого мгновенного наслаждения тем, что стирает дистанцию между объектом (Прелюдией) и зрителем (слушателем)[112]112
Справедливости ради нужно отметить, что Рахманинов и сам, еще до негативных отзывов Адорно, удивлялся всеобщему восхищению Прелюдией и отказывался играть ее повсюду, как цирковая обезьянка. Или же это возмущение было лишь частью публичного образа?
[Закрыть].
В других работах Адорно более подробно говорит о Прелюдии, особенно в «Анализе музыки для широкого потребления» (.Commodity Music Analysed), который он написал в Лос-Анджелесе в годы войны[113]113
Переиздано в Quasi Una Fantasia: Essays on Modern Music, Теодор Адорно (New York: Verso, 1998), p. 37–55. Самый полный анализ взглядов Адорно на музыку Рахманинова из всех, что я знаю, представила Карен Ботдж в Reading Adorno’s Reading of the Rachmaninov [sic] Prelude in С-Sharp Minor: Metaphors of Destruction, Gestures of Power; Music Theory Online 17:4 (Dec. 2011); http://www/mtosmt.org/issues/mto.11.17.4.bottge.
[Закрыть].
Здесь он рассматривает Прелюдию вместе с тремя другими кичами (Гуно, Дворжака и Чайковского) как «товар массового потребления» из-за их поразительной коммерческой популярности. Доказывая свою точку зрения, он прибегает к психоанализу, социоэкономике и политической теории. Император Нерон «пиликал» на крыше, когда по его приказу горел Рим; те, кто тратит свое время, играя Прелюдию Рахманинова, точно так же «пиликают», по мнению Адорно. Нерон был известным нарциссом, жаждавшим преклонения; Адорно намекает, что это касается и Рахманинова. Композитор, исполнители и почитатели Прелюдии – все «дилетанты, мегаломаны, завоеватели», пишет Адорно; такие ярлыки нельзя просто взять и повесить на великого пианиста.
Однако в его намеках на нарциссизм («мегаломан») есть правда. Никто из тех, кто знаком со всем творчеством Рахманинова, в здравом уме не припишет его произведения до 1917 года комплексу Нерона, однако большинство его американских произведений подходят под это описание. Его аудитория, особенно в США, но не только, считала Прелюдию вершиной его творчества и платила баснословные деньги, чтобы послушать, как он четыре минуты играет эту мрачную мелодию. Такое неправильное отношение к Прелюдии может послужить знаком ретроспективной славы, оставившей отпечаток на всей его карьере: ему было всего восемнадцать в 1892 году, когда он сочинил ее, задолго до того, как бежал из России – в его крови уже был заложен ген кича.
Адорно посвящает большую часть своего анализа основному мотиву из трех нот: он называет его «тяжелым базисом» и главным проявлением «ширпотребности» произведения. Читатели могут сами познакомиться с этой работой Адорно, чтобы посмотреть, как он развенчивает Прелюдию и доказывает, что это кич. Необходимо отметить, что один из главных компонентов теории широкого потребления Адорно – фетишизация, и он утверждает, что повторяющийся мотив из трех нот, выступающий мрачным предзнаменованием, вызывает «сверхпривязанность» у слушателя. Суть его формалистического анализа такова:

Единственный «внушительный» аспект Прелюдии – это рост ее композитора-исполнителя[114]114
Другие композиторы последовали примеру Рахманинова, даже если он и первым стал писать кич в музыке. «Болеро» Мориса Равеля, созданное в 1928 году, со временем оказалось самым популярным его произведением и демонстрирует те же элементы кича: простоту структуры, повторы, фетишизацию, привязчивость и нацеленность на массовое потребление. Были и другие кичевые болеро, например, пятый Испанский танец, болеро, еврейского виртуоза Морица Мошковского, использованный Дэвидом Лином в фильме «Короткая встреча».
[Закрыть].
Рахманинов оправдывался, обращаясь к эффекту колокольного звона Прелюдии: «Всю свою жизнь я находил удовольствие в различных мелодиях и настроениях колокольного звона, праздничных и скорбных. Любовь к колоколам свойственна каждому русскому…»[115]115
См. Бертенсон, р. 184
[Закрыть] Может, и так, но в его колоколах нет ничего жизнерадостного или забавного. Они звонят как раз «скорбно», как в Dies Irae, «Дне гнева», который он так любит использовать в своих произведениях, – звон сожжения, разграбления и разрушения, предвещающий гибель его любимой России. Подсказкой служит «гибель», особенно гибель как повторяющийся мотив. Он бесконечно воспроизводится, потому что дарит нарциссическое удовольствие всем трем участникам процесса: композитору, исполнителю, слушателю. Нарциссический элемент кича подсознательно привлекает психологически эгоцентричного Рахманинова – словно его супер-эго скомандовало ему выстукивать эти три громогласные ноты: ля, соль-диез, до-диез.
Бренд Рахманинова стал узнаваемым в Америке до Второй мировой. Он был близок кинематографическому нарративу, пронизан джазовыми элементами, его основным настроением был романтический лиризм, доносимый бурной мелодией, легко понятной слушателям. Новая индустрия развлечений вовсю использовала крикливые эмоции, поданные в классической обертке, и в бурной мелодике Рахманинова было как раз то, что им нужно. К тому времени, как он поселился в Беверли-Хиллз, в голливудских студиях снималось чуть ли не по фильму в неделю; каждую картину отмечал собственный, хорошо проработанный саундтрек, который во многом состоял из фортепианной музыки, напоминавшей концертную. Линия между высокой концертной музыкой и саундтреком стала размытой, практически невидимой. Заключались астрономические контракты с известными композиторами, крупными именами в обеих областях. Почему же такому почитаемому классическому композитору, как Рахманинов, не польститься на солидное вознаграждение и не предоставить свой бренд новой культурной сфере?
Или другими словами: не был ли этот новый Рахманинов, заново родившийся после 1917 года, интереснее западному слушателю, особенно американцам, пытавшимся добавить европейского лоска своему основному культурному портфолио, чем старый Рахманинов, который, может, и отточил свой ретроспективный музыкальный язык позднего романтика, но, в сущности, не сказал нового слова? Добавьте к этому его «русскость» и то, с чем она ассоциировалась у американцев начала XX века, и вы получите образ – бренд, – особенно не менявшийся среди тех, кто слушает музыку и ходит на концерты, до наших дней. Все зависит от точки зрения: в своей североамериканской версии после 1917 года Рахманинов смотрится вполне неплохо (при всем уважении к Адорно с его кичем и нашим лучшим музыковедам).
После смерти Рахманинова в годы Второй мировой его «русскость» стала вызывать еще больший интерес (все-таки Америка и Советский Союз большую часть войны были на одной стороне), как и его сложившийся статус американизированного эмигранта. Этот бренд укрепила его музыка, особенно Второй концерт для фортепиано, который он написал благодаря доктору Далю, смягчившему его чувство вины. Слушатели мгновенно ассоциируют его с самыми возвышенными романтическими чувствами, как Лора Джессон и Алек Харви в фильме «Краткая встреча» (1945), где концерт используется в качестве саундтрека. Два персонажа, оба состоящие в браке, который пришел в упадок, понимают, что их связывает «нечто»: не вечная любовь, а стремление к эскапизму мгновенного наслаждения.
Но в остальном мире, особенно в Европе, этот бренд Рахманинова не нашел отклика у экспертов и ценителей музыки. Надя Буланже (1887 – 1979), знаменитый французский дирижер и заслуженный педагог, обучившая множество великих музыкантов прошлого века, наставляла своих учеников избегать этого «бренда», как чумы, потому что он состоит исключительно из бесконечной жалости к себе[116]116
Интервью, в котором Буланже говорит о Рахманинове, цитируется в биографии «Аарон Копленд» Говарда Полака (New York; Henry Holt, 1999), p. 83.
[Закрыть]. Она полагала, что эта жалость вытекает из психологических страданий Рахманинова в детские годы, однако это вызывало в ней не больше сочувствия, чем если бы он страдал от ностальгии по виски и сексу. Учитывала ли она его ужас перед эмиграцией? Вместо этого она предлагала в качестве возможного источника отсутствие отца (Василия), мать-тирана (Любовь) и учителя-педераста (Зверева), но так и не остановилась на одном. У самой Буланже было счастливое детство, и ее не трогали мучения современника.
Критика в духе Буланже продолжалась всю вторую половину XX века, особенно среди ученых-музыкове-дов, что никак не могли оставить Второй концерт для фортепиано в покое. Но доставалось даже Третьему, хоть он и не так походит на кич. Один только внушительный список имен от 1950 года до наших дней ужаснет страстных любителей концертов, которые ходят на Рахманинова, чтобы изойти слезами и заглянуть себе в душу во время эмоционального катарсиса. Даже счастливые слушатели, в прошлом которых нет черной меланхолии, так реагируют на его музыку. Но только не ценители: такое ощущение, что чем выше уровень музыковеда, тем яростнее его нападки на Рахманинова. Например, покойный Джозеф Керман, преподаватель Калифорнийского университета в Беркли, почитаемый светилом американского музыковедения, так описывал Третий концерт для фортепиано в конце прошлого века: «В наши дни ожидаемая продолжительность жизни почти столетнего Третьего концерта Рахманинова с каждым годом все выше, так что, учитывая чудеса науки, произведение, скорее всего, закончит свое существование в каком-нибудь ужасном доме престарелых XXII века, беззубое, скрипучее, едва ли способное на экстаз, но все еще готовое играть и прежде всего болтливое»[117]117
Джозеф Керман, Concerto Conversations (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999), p. 124.
[Закрыть]. Представьте, что бы сказал Керман о Втором концерте, куда более гламурном, обряженном в голливудские одежды.
В Америке фирменный бренд Рахманинова не ограничивался фильмами, уводящими от реальности, и сентиментальными романсами в духе Адорно, своим примером он вдохновлял других на подражание себе: скажем так, породил третье поколение кича, подражающее второму. Британскому композитору Ричарду Эддинселлу заказали Варшавский концерт в подражание Второму концерту Рахманинова для фильма «Опасный лунный свет» о том, как поляки встретили нацистское вторжение в 1941 году. Цель фильма – изобразить битву за Варшаву и романтические чувства главных героев. К 1950 году Второй концерт Рахманинова породил целую серию коротких концертов для фортепиано в подражающем ему романтическом стиле, а со временем и оригинальный концерт стал использоваться как саундтрек к фильмам о войне в жанре «Битвы за Англию», где поверх музыки идет речь Черчилля.
Предсказуемо было и то, что пианист Дэвид Хельфготт, страдавший от нервного срыва задолго до 1996 года, когда о нем вышел фильм «Блеск», проведший несколько лет в психиатрических лечебницах, будет играть в этом фильме и Третий концерт Рахманинова, и Прелюдию до-диез минор, кич и не кич, чтобы подчеркнуть разницу. Во второй половине XX века эти фильмы были крайне популярны, однако, как объяснял Рахманинов американскому музыкальному критику Олину Даунсу, он не придерживался мнения, что популярное произведение не может быть серьезным[118]118
См. Бертенсон, p. 220. У кича в музыке длинные щупальца, и он тянется в XIX век, в его вторую половину, когда стали появляться волшебники-виртуозы вроде Листа, и дальше, к христианскому кичу Мендельсона, для которого это было важно, потому что он родился в одной из самых просвещенных еврейских семей Европы, но крестился и стал немецким христианином.
[Закрыть].
И был прав. Величайшие живописцы: Вермеер, Рембрандт, Тернер и другие – тоже оказались среди самых популярных. В любых видах искусства есть подходящие примеры. «Серьезность» и «популярность» скорее находятся на разных полюсах, чем являются антиподами, однако утверждение о том, что кич у Рахманинова в крови и всегда там был, в корне обоснованно. Причины его позднего появления в карьере Рахманинова могут быть обманчивы. Можно лишь пожалеть, что Адорно не рассмотрел их глубинные источники. Все-таки Адорно жил в Лос-Анджелесе гораздо дольше Рахманинова и был открыт самым разным видам американской музыки (серьезной, классической, популярной, джазу, блюзу и так далее). Но он не желал отказаться от идеи, что развивающаяся культурная индустрия Америки манипулирует населением, что производство массовой культуры неизбежно приведет к появлению пассивных последователей. Такова была его атака «слева», по выражению не одного критика Франкфуртской школы, и это выражение отлично ему подходит, даже если его позиция, как и других музыкальных критиков, противоречит вкусу народных масс.
В своей концепции высокого искусства Адорно отвергал мнение масс о ценности популярного искусства – кича. Высокое искусство выражает «истину», в отличие от искусства популярного, стандартизированного, нацеленного на широкое потребление и подражание, не имеющего созданной тяжелым трудом формальной структуры, тонких оттенков, абстрактных значений и попыток создать что-то новое. Они взывают к разным типам эмоций и предполагают разное «слушание» (по выражению Адорно, кич предполагает «регрессивное слушание»). Слушание ради познания противостоит слушанию ради удовольствия, и возвышенные эмоции страдающего голоса отдельной личности далеки от изнеженных масс, не понимающих трагедию. Тот факт, что Второй концерт Рахманинова в 1950-е или 1960-е все еще собирал полные концертные залы, не служил доказательством его величия. Он всего лишь свидетельствовал о пристрастии масс к кичу[119]119
Наиболее прозорливо пишет об этой разнице Питер Франклин, который к тому же защищает Рахманинова от некоторых из этих обвинений; см. Seeing through Music: Gender and Modernism in Classic Hollywood Film Scores (New York: Oxford University Press, 2011). Несмотря на глубокие идеи Франклина, американская аудитория Рахманинова до сих пор как следует не изучена. Слушая Рахманинова, американцы, несомненно, были очарованы сольным выступлением волшебного пианиста – подобного Листу романтического сверхчеловека, заворожившего концертный зал. Гораздо менее понятно, почему они так восприняли сами произведения, почему далеко не самой меланхоличной аудитории благополучных американцев с надежными домами и любящими семьями столь пришлась по душе его меланхоличная музыка. Возможно, чтобы отыскать причину, аудиторию стоит разделить на детскую и взрослую: дети демонстрируют сильное влечение к жизнерадостным мелодиям и ритмам Чайковского («Щелкунчик», «Спящая красавица»), а взрослые откликаются на романтический кич Рахманинова.
[Закрыть].
Отчасти это противоречие – опять-таки мы видим неполную картину – было вызвано противоречивой личностью нашего композитора, его двумя половинами. Не вся его музыка окрашена в цвета кича. Его произведения для фортепиано: прелюдии, концерты (кроме Второго), сонаты, Вариации на тему Корелли, Соната для виолончели и фортепиано, Вторая симфония, многие из романсов – не такие. Элементы кича проявляются во многих его программных произведениях: «Колоколах» (на основе стихотворения Эдгара Аллана По), «Острове мертвых» (утверждается, что оно написано под вдохновением от картины швейцарского художника Арнольда Беклина) и вульгарной Рапсодии на тему Паганини (подражающей этюду итальянского скрипача, однако в то же время сентиментально размышляющей над собственной жизнью через аллегоричность вариаций) – и из-за них классификация стала размытой. Однако с их степенью подражания, типом эмоций, к которым они взывают, и видом слушания, требуемого от аудитории, все далеко не так однозначно, как с произведениями вроде Прелюдии до-диез минор. Может быть, было бы лучше, если бы Рахманинов не сочинил ее?
Это неправильный вопрос. Еще до приезда в Америку, уже в 1924 году, когда он услышал покорившую его Рапсодию в стиле блюз Гершвина, он – как я уже сказал – обладал геном кича; и когда его бренд стал успешным, наполнил его карманы золотом, он не смог устоять и начал писать то, чего от него ждали. Это «двойное я», как я за неимением лучшего термина называю двусторонний характер его карьеры, придает его признанию в утрате России новый оттенок: «Я чувствую себя призраком в мире, который стал чужим». В размытой классификации его произведений как раз отражается эта призрачность. Однако факт есть факт: на родной русской земле он успешно подавлял тягу к кичу.
И в довершение темы кича Рахманинова необходимо, как это ни парадоксально, рассмотреть разницу в эмигрантском статусе его и Адорно. Немецкий еврей, Адорно был на поколение младше Рахманинова и оказался в изгнании в середине 1930-х, когда бежал от нацистов. Он последовал за Максом Хоркхаймером, другим членом Франкфуртской школы (немецких теоретиков неомарксизма), и, как Рахманинов, несколько лет прожил экспатриантом в Лос-Анджелесе. Но Адорно почти десятилетие счастливо провел в «Веймаре на Тихом океане», как метко назвал Лос-Анджелес в годы войны Эрхарт Бар[120]120
Эрхард Бар, Weimar on the Pacific: German Exile Culture in Los Angeles and the Crisis of Modernism (Berkeley and London: University of California Press, 2007).
[Закрыть], в этом оазисе эмигрантской культуры, где он не переставал творить и написал некоторые лучшие свои работы, включая «Философию новой музыки».
Рахманинов, наоборот, так и не привык, продолжал жить, словно все еще находился в «старой России», и до конца мечтал о возвращении. Он был не просто «призраком в мире, который стал чужим», по его собственному описанию, а оказался эмоционально неспособен адаптироваться к Америке. «Я не могу перестать писать по-старому и научиться писать по-новому».
* * *
Кич был, в некотором смысле, роковым проклятьем, довлеющим над его жизнью; эти три ноты знаменитой Прелюдии, нашедшей своего слушателя в Америке, словно предвещали гибель, несмотря на нарциссическое удовольствие, которое его подсознание находило в этой ожидаемой судьбе. То же самое касалось и его кичевых религиозных воззрений в духе викингов. Как-то воскресным днем он проезжал мимо кладбища в городе Вальгалле на блестящем «Бьюике 8», когда вез дочерей в округ Уэстчестер, штат Нью-Йорк, и влюбился в образ вечности в вагнерианском раю, но так и не удосужился узнать, что же это за рай. В скандинавской мифологии Вальгалла – это место бесконечной череды битв, кровавых смертей и гротескного поедания кровавых внутренностей; какой практичный человек захочет провести так вечность? Уж точно не Эвелин, но Рахманинов хотел – в этом его двойная ирония. В своем творчестве он тоже не мог порвать со старым и изобрести новое. Что ему оставалось делать? Сдаться – умереть – или молиться. И пусть Господь рассудит его в Dies Irae.
В действительности Рахманинов молился – и своей православной версии Бога, и своему святому покровителю Сергию. Когда он был ребенком, Любовь Петровна рассказала, что его назвали в честь святого Сергия, одного из трех монахов, убитых в монастыре преподобного Саввы Освященного в Иерусалиме VIII века. Дважды сарацины пытались разграбить лавру, но Господь защитил монастырь.
Любовь Петровна так же требовательно относилась к молитве, как и к игре на фортепиано, и ежедневная молитва стала еще одним источником его скрытности. Мы уже касались теории нарциссизма виднейшего психоаналитика Хайнца Кохута, но не его взглядов на непредсказуемую роль религии в жизни даже пограничного нарцисса. В своей теории Кохут не оценивает нарциссизм как хорошее или плохое качество, а показывает его динамичный рост в юном травмированном «супер-эго». Кохут считает нарциссизм естественной, неотъемлемой частью человеческого развития; в своем экстремальном проявлении нарциссизм может испортить жизнь или же, наоборот, как в случае с Рахманиновым, стать побудительным импульсом к творчеству. Какой бы ни была доля Рахманинова, его нарциссизм принес ему как благо, так и вред.
Считается, что Рахманинов был православным, но он редко ходил в церковь и никогда не принимал участия в таинстве исповеди, к которому русские православные относятся с таким же жаром, как и представители других христианских конфессий. Его личная «вера» переняла эмоциональные символы православия, но не внешнее благочестие и ритуалы, над которыми он иногда насмехался и порой даже извращал. Он не задумываясь подкупил московского священника, чтобы жениться на Наталье Сатиной, своей двоюродной сестре, хотя церковь запрещала браки между двоюродными братьями и сестрами. В 1902 году, когда он женился на Наталье, двоюродные братья и сестры должны были подавать прошение царю, чтобы тот сделал для них исключение прямо во время церемонии. Сатины подали прошение за него, но если бы ему пришлось заплатить царю, чтобы жениться на Наталье, он бы это сделал.
Его религия основывалась на чувстве вины за бегство и неудачи, и на закате жизни он руководствовался ею во всех своих действиях, во всех решениях, какую музыку писать, и даже в своем странном навязчивом желании быть похороненным в городке Вальгалле, округ Уэстчестер штата Нью-Йорк, на кладбище, мимо которого он однажды проезжал с дочерьми в дорогой машине и заразился мечтой провести вечность среди скандинавских полубогов, погибших в битве. Причиной, как и у Вагнера, служила глубокая неприязнь к современной жизни в целом. Оба композитора предпочитали унылой современности статичную ретроспективную национальную атмосферу без эволюции и движения, даже упадок. Вагнер помещал события своих драматичных опер в мир средневековой скандинавской мифологии – временное бегство, обладавшее притягательностью и для отвергающего современность, ностальгирующего Рахманинова: свои произведения для фортепиано он писал в манере предыдущего поколения, тем самым пытаясь как бы остановить течение времени. Неудивительно, что этот русский композитор мечтал отдохнуть от тягот жизни в великом средневековом зале, где чтят героев прошлого.
Острое чувство вины Рахманинова пронизывает и его произведения, написанные до и после бегства из России, за исключением интимных романсов и концертов для фортепиано. Мало что из остальной музыки избежало этого чувства: оно присутствует во всех трех симфониях, в «Колоколах», «Острове мертвых». Ни один другой композитор-романтик, ни в одной стране, не использовал столько «судных дней» в своих произведениях. Dies irae, dies illa: «День гнева, тот день, повергнет мир во прах».
Уберите эту апокалиптическую мелодраму, которой так полны его произведения, и пропадет вся аутентичность Рахманинова. Можно с таким же успехом вырезать из ткани его музыки мелодию. И то и другое относится к религиозному кичу: сначала массовому слушателю демонстрируют страх и трепет, а потом изливают душераздирающую мелодию, чтобы приманить его обратно. Личное чувство вины Рахманинова рождало и то и другое (и религиозное содержание, и бурлящую мелодию), даже если они терзали его изнутри. Да, это наносило большой эмоциональный урон его душе, однако его Dies Irae был, выражаясь метафорически, еще одним реквизитом в мешке фокусника (как называл это Адорно). Поэтому Рахманинов никогда от него не отказывался, даже в очень поздних Рапсодии и Симфонических танцах, где Dies Irae звучит особенно мстительно[121]121
Даже сам Паганини, этот непревзойденный итальянский трикстер, не включил в свои произведения ни одного Dies Irae, но Рахманинов не смог удержаться; Гайдн использовал его всего однажды, в комедийно-пародийной манере, а Чайковский – дважды; он часто появляется у тех композиторов, которые подходят под идеи Адорно о киче в музыке и теорию нарциссизма Кохута: Бизе, Листа, Сен-Санса, Мясковского и Малера (дважды во Второй симфонии) – все они в той или иной форме испытали религиозный кризис.
[Закрыть].
Для глубоко верующего религия всегда остается личным делом, внутренней борьбой души со смертностью и смертью. Кичевый верующий делает из своей веры спектакль, драматизирует эту борьбу, рекламирует ее обесцененные внутренние ценности и выставляет напоказ – неудивительно, что Рахманинов отказывался исповедоваться и считал это таинство фокусом православия, от чьих ритуалов он отрекался. Это наглядно демонстрирует его религиозная музыка: уверенный, что ниша религиозного композитора закреплена за ним, он пишет огромное количество религиозных произведений для массового потребления: литургии, всенощные бдения, Литургию святого Иоанна Златоуста – все они призваны подчеркнуть еще и его русское происхождение.
Если писатель Милан Кундера прав, говоря, что «кич исключает из своего поля зрения все, что в человеческом существовании по сути своей неприемлемо… кич – это ширма, прикрывающая смерть», то его идея проясняет кич Рахманинова[122]122
Милан Кундера. «Невыносимая легкость бытия» (1984).
[Закрыть]. Сверхнарцисс, изнывающий от ностальгии по былой России, Рахманинов раз за разом использует свой апокалиптический реквизит, чтобы отгородиться от смерти и защититься от ее ужасающей бесповоротности.
Однако смерть была не единственным препятствием в его религии: ту же роль играло и любовное влечение. В юности Рахманинов страстно предавался этому чувству – вспомним его похождения с сестрами Скалой, цыганкой Анной, возможно, в меньшей степени, даже с обольстительной певицей Ниной – в результате его нарциссическое либидо привело к гипоманиакальной активности[123]123
В «Анализе самости» (прим. (52) на с. 184), с. 151, Кохут объясняет, почему эти термины, которые здесь кажутся тарабарщиной, важны для понимания невероятно сложных психодинамических процессов.
[Закрыть]. Три года он творил блестящие произведения. Но когда эти отношения развалились, он сломался. Терапия доктора Даля вернула романтические настроения в его музыку, как мы видим по романсам в опусах 21 и 26 (1902 и 1906 годы), но после эмиграции и погружения в американскую жизнь Рахманинов уже не мог воспроизвести чудесные качества его произведений, написанных в долгий период (1902–1916) перед бегством. После Америка породила нового Рахманинова – он не стал ни новатором стиля, ни полноценным сочинителем музыки для кино. Однако, даже если он не писал музыку для фильмов специально, его произведения обладали всеми необходимыми для этой индустрии качествами. Впрочем, и десятилетие назад в них уже заметны были черты кича – не в высокоинтеллектуальном абстрактном Эросе в духе Второй, Третьей, Четвертой и Пятой симфоний Малера, а в произведениях вроде Второго концерта, рассчитанных на массового слушателя и, с точки зрения Адорно, слишком сентиментально надрывных, чтобы стать самобытными. По большому счету чудо законченной фортепианной музыки Рахманинова кроется в серии прелюдий (опусы 23 и 32) и Третьем концерте для фортепиано – все эти произведения были написаны до 1917 года, все они смогли избежать этих подводных камней и скатывания в противоположную крайность, сохранив его узнаваемый «бренд».
В своих романсах Рахманинову тоже удалось удержаться от кича, и по сей день они остаются высокими произведениями, не опускающимися до нежного описания закатов, искусственно расставленных цветов и покрытых снегом гор в духе «Звуков музыки», снятых Голливудом для широкого потребителя. Рахманинов был одержим смертью, как часто бывает с нарциссами его категории, и это обстоятельство никак не умаляет его огромный музыкальный талант. Но суть дела не в том, как он сам воспринимал свои религиозные воззрения, – это не так уж важно. Важно то, как накладывались друг на друга биография и ее творческое выражение, как уникальный узор, получившийся от их наложения, проявился в его произведениях. Возвращаясь к словам Баренбойма в эпиграфе этой части, можно сказать, что вот он, композитор, о жизни которого важно, даже необходимо, иметь доскональное представление.
Можно ли сказать, что было несколько Рахманиновых? Рахманинов, писавший кич, и Рахманинов, писавший не кич, а также другие Рахманиновы?
Каждого из них характеризует склонность к тоске, несбыточным мечтам, рыданию, и, когда все эти разные Рахманиновы оказываются в тисках чудовищной ностальгии, он с головой бросается в киче-вое благочестие, кичевую веру.
* * *
И наконец, Судьба, великий русский тиран. Отношения Рахманинова с Судьбой были связаны скорее не с философским фатализмом или идеей предназначения, а с русским национальным характером. Всю свою жизнь он пытался управлять судьбой и не слишком задумывался как над метафизическими роком Шопенгаэура и Ницше, так и над более недавними идеями, высказанными Верди в опере «Сила судьбы» (к тому же Рахманинов не был почитателем музыки Верди). Нет, нужно четко разграничить его понимание судьбы с нашим.
Для образованного русского того периода, каким был Рахманинов в 1890 годах, принятие Судьбы считалось непременным атрибутом крестьянского мировоззрения, не земельного дворянства, не даже городских рабочих, а именно русского крестьянства, которое, по словам выдающегося современного историка, было «истинным носителем национального характера»[124]124
Морин Перри, Narodnost’: Notions of National Identity в Constructing Russian Culture in the Age of Revolution, 1881–1940 (Oxford: Oxford University Press, 1998), p. 29.
[Закрыть]. Судьба, в глазах крестьян, была по самой своей природе связана с их принадлежностью к русской нации. Они не существовали в отрыве друг от друга, идея Судьбы была чертой исключительно русского представления о мире, и быть русским означало приспосабливаться к Судьбе.
Но для современников Рахманинова Судьба заключала в себе и набор противоречивых воззрений. Крестьянский фатализм был парадоксальным образом признаком иррационализма и невежества, но в то же время и духовной чистоты, не оскверненной рационализмом западной культуры, как проповедовал Толстой. Зачастую этот фатализм воспринимается как пассивная покорность власти православной церкви, но в то же время он связан с еретическими («суеверными») элементами народных верований. Возможно, интеллектуалы вроде Рахманинова зачастую оплакивали эту покорность перед лицом трудностей и угнетения и находили ее парадоксальной, однако видели в подобном благочестивом принятии судьбы завидный стоицизм. Та же самая Судьба, или «фатализм», определяла взгляд образованных русских на самих себя: их миссией было научить простых людей рациональности, активности, нести им просвещение. Тем не менее интеллектуалов и политических активистов очень часто одолевали сомнения, и они спрашивали себя: выполнима ли эта задача и не слишком ли сами они подвержены жадности, праздности и другим порокам (все они были связаны с пропастью западного индивидуализма), чтобы им по силам было ее осуществить?
Судьба в ментальности Рахманинова была неразрывно связана со смертью. Большую часть жизни Рахманинова его переполняло ощущение безнадежности, бессмысленности того, что Судьба есть Случай. По душевному складу он был схож с русской поэтессой Мариной Цветаевой (1892–1941): она в детстве, на рубеже веков, училась играть на фортепиано и слышала, как Рахманинов исполняет свой Второй концерт[125]125
Алисса В. Динега, A Russian Psyche: The Poetic Mind of Marina Tsvetaeva (Madison, Wis., 2001), p. 186.
[Закрыть]. Его музыка имперских времен наполнила ее воображение уже сформированными представлениями о Судьбе и Смерти – она почувствовала страдания в душе композитора. В 1905 году любой из них мог сказать: «Прыгай, прыгай». Суицидальные идеи тогда буквально носились в воздухе.
В личном мировоззрении Рахманинова также подчеркивалась связь Судьбы с «русскостью». Снова, как с amour propre[126]126
Самолюбие, эгоцентризм (фр.). (Прим. переводчика.)
[Закрыть] его скрытности, главную роль играло его местонахождение относительно географической родины. Так, 27 апреля 1906 года, когда еще слышны были отзвуки волнений 1905 года, он обнажил душу своему давнему наперснику и доверенному другу Морозову, чьи советы по поводу музыки он очень ценил, потому что тот хорошо в ней разбирался: «Если я останусь “при журавле”, я могу жить хотя бы за границей, если слажу со своей тоской по России»[127]127
Письмо Рахманинова Н.С. Морозову от 27 апреля 1906 г.
[Закрыть]. Всегда на первом месте Россия – тоска по родине. Проблема, о которой говорится в письме, кроется в том, чтобы принять решение: стоит ли ему уехать работать в Америку – но даже до принятия окончательного решения, до отъезда, одна только возможность этого низвергает его в пучину «тоски по России». Он любит ее больше, чем перспективу уехать.
В письме есть и постскриптум, предвосхищающий неизбежное. Пока он писал письмо, позвонили в дверь: это почтальон принес контракт, его приглашали дирижировать на будущий сезон в Санкт-Петербурге. Облегчение – расплакался ли он? Крестьянин бы понял: его спасла Судьба. Он закончил письмо словами: «Судьба стучит в окно! Тук! Тук! Тук! Милый друг, брось за счастьем гоняться!» – потому что все решает Судьба.
Те же слова есть и в его романсе «Судьба», том самом, который он спел Толстому во время второго визита, в самый разгар депрессии. Проблема Рахманинова, крывшаяся за его иррациональностью и суеверностью, равно как и за amour propre, себялюбие, которое он сделал своей броней, заключалась в том, что он не мог существовать не на русской земле. Тог* да, в 1906-м, практические соображения диктовали необходимость контракта либо с русскими, либо с американцами, чтобы обеспечить средства к существованию. Но американцы с ним еще не связывались – отсюда паника. Он ожидал, что американский контракт, если только придет, будет более перспективным, однако боялся, что его «там надуют» (в Америке) и он «ничего не напишет». Его опасения быть обманутым и ничего не сочинить не были продиктованы логикой, скорее суеверием и крестьянским представлением о Судьбе, но интуитивно он предвидел, что его ждет.







