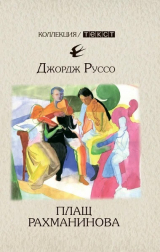
Текст книги "Плащ Рахманинова"
Автор книги: Джордж Руссо
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 18 страниц)
Год спустя, летом 1899-го, Шаляпин лично лицезрел окутывающую Рахманинова черноту. Он вспоминает, что Рахманинов провел большую часть лета в имении Крейцеров[71]71
Оперный певец Шаляпин – не самый надежный источник информации о характере и психологии Рахманинова. Они были друзьями, родились в одном и том же году, 1873-м, и Шаляпин, несомненно сочувствовавший отчаявшемуся и больному Рахманинову, не сознавал, до какой степени его друг полагается на него. Шаляпин был веселым открытым человеком с душой нараспашку – полной противоположностью мрачному Рахманинову. В своих мемуарах, которые он писал в Париже в начале 1930-х и которые потом вышли под названием «Страницы из моей жизни», он едва упоминает композитора, хотя тот, несомненно, многому научил его в музыке. Неужели после революции он совсем забыл об их прежней дружбе?
[Закрыть]. Они были мелкими дворянами, не имевшими никакого отношения к повести Толстого «Крейцерова соната», и Рахманинов надеялся, что природа поможет ему восстановиться, что утренняя роса и звон коровьих колокольчиков разожгут в нем пламя. Весна и лето всегда были его любимыми временами года. Однако той весной он не чувствовал никакого желания сочинять, и колокольчики не помогли. Творческий кризис препятствовал работе над задуманной оперой «Франческа да Римини», он никак не мог толком приступить ко Второму концерту для фортепиано, а теперь – у Крейцеров – его стали мучить озноб и головные боли.
Творческий кризис часто сопровождался физическими симптомами, и Рахманинову казалось, будто он болен, даже если в действительности с ним все было в порядке. Это была мощная защита и в хорошие, и в плохие времена для композитора, чей стиль расходился с его поколением – насколько легче ему было бы жить в шкуре позднего романтика, родись он на поколение раньше! (Когда его поражала загадочная болезнь, как в коттедже в Марина-ди-Пиза на берегу Средиземного моря в Италии, где они провели весну и лето 1906-го, он неплохо справлялся сам. Тогда же заболели Наталья и старшая дочь Ирина, но на этот случай были приглашены итальянские доктора, и в конце концов обе выздоровели.) Эти случаи противоположны симптомам его всеобъемлющей ипохондрии и страху, что он каким-то образом стареет раньше положенного. Это была не психологическая прогерия в духе сына Эвелин Ричарда, а ощущение того, что творческий огонь вот-вот потухнет.
* * *
На рубеже веков из поля зрения Рахманинова выпали два наставника, оказавших на него значительное влияние: Чайковский и Толстой – Чайковский из-за смерти (1893), Толстой из-за обиды (1900), хотя и он умер десять лет спустя. Вместе они подчеркивают хрупкость вселенной Рахманинова в конце XIX века и помогают понять его ипохондрию. Даже без монументальных потерь – провала Первой симфонии, уничижительных отзывов, утраты Анны – Рахманинов мог бы сломаться.
Гомосексуальность Зверева явно потревожила душевное спокойствие Рахманинова, особенно когда учитель ударил или попытался ударить ученика (Как я уже писал, несмотря на слухи об агрессивности Адели, Эвелин никогда и намека не давала на такое поведение.) Но гомосексуальность Чайковского, даже если Рахманинов и знал о ней, не играла никакой роли. Их взаимоотношения лежали совсем в иной плоскости: Рахманинов был привержен ему как своему учителю, наставнику, образцовому композитору, вместилищу того романтизма, который он сам пытался выразить. Наверное, до Рахманинова доходили слухи о связях Чайковского с педерастами – как могли не дойти? – и он читал в газетах о том, что Чайковский был завсегдатаем петербуржского ресторана «Шотан», логова содомитов[72]72
Дан Хили (прим. на с. 173), с. 95, предоставляет газетные источники.
[Закрыть]. Но Чайковский совершенно не походил на Зверева; в отличие от того жестокого тирана, скрывающего свои истинные наклонности, он был добрым наставником, пусть когда-то и допустившим ошибку, поддавшись маленькой человеческой слабости (с точки зрения Рахманинова). Нет, Чайковский был самим воплощением деликатности и осмотрительности, и это послужило еще одной причиной того, что Рахманинов и другие ученики так горестно оплакивали его, когда он скончался «при подозрительных обстоятельствах» в возрасте пятидесяти трех лет. Специально ли он в ноябре 1893 года выпил зараженную воду у Лейнера на Невском проспекте?[73]73
До сих пор не утихают споры о настоящей причине смерти Чайковского, обострившиеся после 1979 года, когда возникла теория о том, что к самоубийству его приговорили бывшие однокашники по Училищу правоведения в качестве наказания за гомосексуализм. Однако биографы Чайковского, бывшие его современниками, особенно Александра Орлова, Александр Познанский и Дэвид Браун, это отрицают.
[Закрыть] Неизвестно, какой версии придерживался Рахманинов: самоубийство или несчастный случай – однако его глубокое почтение к Чайковскому и чувство утраты неоспоримы.
Нужно осознать всю глубину этой утраты, чтобы понять последующий срыв юного Рахманинова. Он, мягко говоря, разрывался между любовью к Чайковскому, своему наставнику в музыке, и неприязнью к греху, который тот исповедовал, между тем, что вдохновляло его в этом человеке, и тем, что вызывало тревогу. Любовь между мужчинами порицалась православной церковью, считалась чуть ли не проклятием для тех семей, в которых возникала. Много лет спустя Рахманинов вспоминал на смертном одре, какой удар все это нанесло ему в двадцать лет и как он, закрывшись от мира, сочинил «Элегическое трио» в память о наставнике. Еще он вспоминал, как обсуждали поведение Чайковского в газетах.
Влияние смерти Чайковского на Рахманинова простиралось еще дальше, по мнению доктора Эмануэля Э. Гарсиа, американского психоаналитика, который работал консультантом в Кертисовском институте музыки в Филадельфии и не понаслышке был знаком с эпохой Рахманинова в истории музыки. Доктор Гарсиа написал несколько статей о психологическом облике композиторов начала XX века, в которых особое внимание уделил Рахманинову, Скрябину и Малеру[74]74
См. Э. Гарсиа, Rachmaninoff’s First Symphony: Emotional Crisis and Genius Interred (Journal of the Conductor’s Guild 23: 1–2(2002): 17–29).
[Закрыть]. Он объясняет «эмоциональный срыв» Рахманинова провалом Первой симфонии и предвосхищающими его особыми биографическими обстоятельствами середины 1890-х годов. Главными обстоятельствами были (расположены в порядке убывания их значимости) смерть Чайковского, несчастная любовь к цыганке Анне (я вынужден подчеркнуть, что характер их романа был неясен, как и значение этой утраты для Рахманинова), душевные волнения, мешающие повседневным делам в самый уязвимый период его жизни, когда ему было около двадцати пяти, и, наконец, две катастрофические встречи с Толстым. Все четыре обстоятельства повлияли на эмоционально хрупкий темперамент Рахманинова, и он легко сломался под их давлением.
Доктор Гарсиа приходит к убеждению, что Рахманинов был гением и мог бы достичь большего, если бы не эти четыре обстоятельства. Гениальность Рахманинова Гарсиа принимает за данность. Под этим он подразумевает творческий дар композитора, благодаря которому тот создал не менее великие произведения искусства, чем Моцарт, Бетховен и Шопен. Он не включает в понятие гениальности игру Рахманинова на фортепиано, но, вероятно, согласился бы, что мало кто из пианистов последних двух столетий выступал столь блистательно[75]75
Легко забыть, что в Америке Рахманинова восприняли в первую очередь как гениального пианиста, с которым могли бы соперничать только Лист да несколько европейцев, например Иосиф Гофман, Мориц Розенталь, Владимир Горовиц и Артур Рубинштейн. Значительная часть его успеха основывается на настроениях американской аудитории в 1920-е и 1930-е годы, предрасположенной к тому, чтобы ее очаровал русский эмигрант под два метра ростом, виртуозный пианист и любитель машин, на сцене сидевший неподвижно, как некое божество из Вальгаллы. Этот образ принес ему золотые горы, но не мог вернуть вдохновения.
[Закрыть].
Смерть Чайковского доктор Гарсиа рассматривает скорее как символическое событие, чем реальное, и утверждает, что именно в такой ипостаси она повлияла на подсознание Рахманинова. По его убеждению, Рахманинов на самом деле пытался отдалиться от мастера и достиг желаемого разрыва, написав противоречащую всем традициям Первую симфонию, но ее провал и негативные отзывы внушили ему ощущение того, что он неспособен идти собственным путем. Из всех этих размышлений Гарсиа делает следующий вывод.
Перед написанием Первой симфонии умирает кумир Рахманинова, Чайковский, оставляя его без наставника и покровителя. После смерти дорогого человека часто происходит внутренний мятеж. Проявляется подсознательная ненависть к любимому объекту (Чайковскому), и субъект (Рахманинов) испытывает головокружительное ощущение свободы, которое можно охарактеризовать как маниакальный выброс; этот процесс начинается, когда заканчивается острая фаза оплакивания умершего. Следует подчеркнуть, что двойственное отношение к покойному носит подсознательный характер[76]76
См. Гарсиа (прим. на с. 208), р. 24
[Закрыть].
Такая интерпретация вполне обоснована, особенно в вопросе подсознательных импульсов Рахманинова, при условии, что предоставляет контекст для этой утраты, то есть показывает, как она соотносится с другими его потерями, случившимися в то же время: Анны и Толстого. Возможно, описанный доктором Гарсиа подсознательный мятеж не универсален, характерен не для всех художников, но вполне вероятно, что его механизмы воздействовали на подсознание юного Рахманинова. С Толстым все совсем иначе: мы знаем об их встрече из разных источников и, сопоставляя их, можем получить целостную картину.
Гарсиа пишет, что Рахманинов посетил великого писателя, стареющего и почитаемого, в 1897 году в надежде получить совет, как выйти из творческого кризиса. Что такого мог сказать Толстой, что излечило бы его от депрессии?
Нижеследующее описание их первого разговора составлено на основании фактов, изложенных Альфредом Своном (о нем далее); между тем Гарсиа упускает из виду то, что случилось на самом деле – причем дважды, в двух отдельных случаях. Первый раз на помощь Рахманинову пришла княжна Александра Ливен. Писаная красавица, она происходила из родовитой семьи, ее бабушка представляла царя Николая при Сент-Джеймсском дворе в Лондоне, и сама она впоследствии вышла замуж за британского аристократа. У Ливен была репутация девицы, способной подчинить своей воле даже самых влиятельных мужчин.
Рахманинов периодически выступал на ее вечерах и так очаровал хозяйку, что она сделала его своим наперсником, но не возлюбленным, как Анна. Ничего не сказав талантливому юноше, она написала своему другу Толстому, упрашивая его поговорить с молодым композитором, страдающим от депрессии. Она описала его как «молодого человека, утратившего веру в свои силы». Меткое описание, даже если не раскрывает причин. Толстой пригласил Рахманинова к себе домой в Хамовники близ Новодевичьего монастыря. Далее следует описание того, что произошло.
Рахманинов, отчаянно желая облегчить свое душевное состояние, приехал один и устало поднялся по деревянной лестнице старинного дома. Она привела его в библиотеку со стенами в массивных деревянных панелях, полную книг в кожаных переплетах. Встретившие его жена Толстого Софья Андреевна и два сына пригласили присоединиться к графу в гостиной. Там уже находился такой же молодой Александр Гольденвейзер, еще один блестящий ученик Зверева: он желал послушать игру виртуоза. В то время он учился в Московской консерватории, где впоследствии стал преподавателем игры на фортепиано; он тоже оставил воспоминания о той встрече с Толстым.
Слуга внес большой самовар, но Рахманинов был слишком подавлен, чтобы пить чай. Потом в комнату вошел Толстой, наполнив ее ощущением величия. Он напоминал бородатое божество, выглядевшее еще более внушительно, чем на известных фотографиях. Во плоти, стоя всего в нескольких метрах от молодого композитора, он казался недосягаемым.
Собравшиеся обменялись положенными любезностями, потом все, кроме Рахманинова, выпили чаю. Княжна Александра уже ввела отца в курс дела, да он и сам видел, что далеко не все в порядке с этим нервным молодым человеком, все плотнее запахивающим пиджак и раз за разом отказывающимся от чая.
Толстой жестом указал, чтобы их оставили одних. Присутствующие гуськом вышли из комнаты. Толстой поманил Рахманинова сесть поближе. Его слова зазвучали так ровно, будто он заранее репетировал.
Он принялся поучать.
– Думаешь, в моей жизни все гладко? Думаешь, у меня нет забот, сомнений, я не теряю уверенности в себе?
Он все говорил этим покровительственным тоном, чуть ли не распекая Рахманинова. У композитора задрожали колени. Закончив свою речь, Толстой минуту помолчал – и начал растирать Рахманинову ноги. Вверх, вниз, от голеней почти до самых бедер, все сильнее и сильнее вдавливая ладони в плоть, словно массируя больного. От неожиданности Рахманинов потерял дар речи, и на несколько минут воцарилась тишина.
Молодой человек напрягся, Толстой это заметил и сжалился.
Что это было, гадал композитор. Какой-то старинный русский ритуал, незнакомый ему? В голове пронеслись противоречащие друг другу объяснения, даже скорбные воспоминания о юности, проведенной в «гареме» Зверева. Он что угодно ожидал от этого воплощения русской мудрости, но только не физического посягательства на его и без того нервное тело. Только Толстой мог провести такой ритуал над своим собратом по странствиям в недосягаемом мире творческого воображения.
В тот момент Рахманинов задался и другим вопросом: сообщила ли княжна Толстому об Анне? «Конечно, княжна знает», – заверил он себя. Он сам рассказал ей перед балом, когда привел с собой Шаляпина, чтобы тот выступил вместе с ним на ее вечере.
Пытался ли Толстой таким образом намекнуть, думал Рахманинов, что знает о существовании Анны? Затем, когда он все еще сидел, прикованный к креслу, его осенило, в чем была логика Толстого, крывшаяся за этими разминаниями. Возможно, Толстой хотел таким образом донести сообщение: вернись к Анне, поддайся Венере и Бахусу, и в тебе снова вспыхнет творческий огонь. Возможно, это действительно подействует, хотелось думать Рахманинову. Оставив его колени в покое, Толстой посоветовал продолжать писать музыку, даже если произведения будут не слишком хороши. Молодой композитор пришел в замешательство.
Выше представлена литературная версия их первого «диалога», и стоит указать, что ее источником послужило описание, предоставленное Альфредом Своном (1890–1970). Свои был выдающимся сыном английского семейства, несколько поколений прожившего в Санкт-Петербурге. Он и его жена Кэтрин знали Рахманиновых, часто общались с ними в 1930-е годы. Своны не стали бы сами придумывать такую мелодраматичную историю, а значит, знали о ней со слов Рахманинова. И тем не менее ее странные детали поражают, особенно физические поглаживания со стороны Толстого и его словесные выпады.
Следующая встреча, упомянутая доктором Гарсиа, произошла почти три года спустя, 9 января 1900 года, когда дух Рахманинова был окончательное подорван и он чувствовал, что дошел до края, как признавался княжне Ливен. Та объединилась с матушкой Варварой Сатиной, и вместе они убедили Толстого еще раз «дать совет» их юному гению. На этот раз Рахманинов взял с собой своего друга Шаляпина, благодаря которому мы знаем, как прошла вторая встреча. По воспоминаниям Шаляпина, Рахманинов боялся, что его попросят сыграть и он не сможет: его пальцы были ледяными. Они пили чай, пели романс Рахманинова «Судьба», и Толстой не пытался трогать его или растирать колени. Вместо этого он стал ругать «современную музыку», которой его развлекали, и добавил, что Бетховен с Пушкиным были посредственностями (знал ли он, что четырьмя годами ранее, в 1896-м, Генри Джеймс выразил мнение многих, назвав его самого «монстром, впрягшимся в великую тему – человеческую жизнь! – как слон, впряженный не в карету, а в дом на колесах»). Жена Толстого стала умолять молодых людей не обращать внимания, и они ушли в разочаровании от того, что день закончился таким образом. По словам Шаляпина, они так стремились унести оттуда ноги, что Рахманинов никогда больше не испытывал желания снова наведаться к Толстому, даже когда Софья Андреевна пригласила его в гости в Ясную Поляну, их деревенскую усадьбу, где он мог творить в полном уединении.
О многом говорит само настроение музыки Рахманинова: он самый скорбный из композиторов своего времени, и его музыка пропитана сильной меланхолией, с готовностью принимающей страдания, невзгоды и все то, чего набралась его художественная среда от belle époque[77]77
Прекрасная эпоха (фр.), период с конца XIX в. до Первой мировой войны. (Прим. переводчика.)
[Закрыть] французских романтиков: malaise, ennui, anomie, désespoir, morosité и – конечно же – mélancolie[78]78
Болезненность, тоска, беззаконие, безысходность, угрюмость, меланхолия (фр.). (Прим. переводчика.)
[Закрыть]. В его мушке практически нет того настроения праздника, сказки, что присуще музыке Чайковского, нет той доверчивой простоты[79]79
Разница между Рахманиновым и Чайковским связана в основном с характером ностальгии Рахманинова, отличающейся от меланхолии Чайковского. Ностальгия Рахманинова выросла из глубокого чувства утраты дома и родины в прошлом – детства, к которому он не мог вернуться. Чайковский, с другой стороны, оплакивал запрещенную и недоступную любовь – будущее, ассоциируемое со взрослым состоянием, а не с детством. Его гений проявился в том, что он преобразовывал взрослые желания в детские музыкальные повествования, заключенные в его операх и балетах.
[Закрыть].
Многое нужно сказать о меланхолии Рахманинова: как она преобразует старую романтическую печаль, как соотносится с другими видами искусства, существовавшими в то время, особенно с русской живописью, литературой и кинематографом начала XX века. То, что Рахманинов ощущал себя «русским Шопеном» даже во время депрессии и последующей гипнотерапии, дает подсказку к его пониманию. Как и у Шопена, его меланхолия была пронизана ностальгией, вызванной двойственностью национальной и культурной утраты: утраты дворянства и дворянских земель, прежних русских ценностей и духовности, потери себя в связи с этими более масштабными культурными потерями. Еще многое нужно прояснить в нашем «русском Шопене», который творил и переживал творческий кризис в славянской социальной среде через семьдесят лет после «парижского ностальгирующего поляка», как назвал Шопена его современник, и превратил его прелюдии и ноктюрны в собственный меланхолический славянский мир. Если мы посмотрим на Рахманинова под таким углом, то увидим, что он был не только ипохондриком, но и нарциссом, и эти две черты как разрушали его, так и наполняли энергией. Доводы доктора Гарсиа звучат убедительно, когда он заявляет о важности цыганки Анны и утверждает, что в своем романе любовники дошли до конца. Иначе почему Рахманинов посвятил ей столько произведений? И когда Анна его бросила (если она его бросила), это стало для Рахманинова таким тяжелым ударом, что он не мог творить, не мог писать музыку, не мог ни о чем думать. В нем соединились меланхолия, пессимизм и умеренный нарциссизм, одновременно уничтожавшие его и помогавшие создавать великие концерты для фортепиано.
* * *
Большинство современных любителей классической музыки в начале XXI века знают о творческом кризисе Рахманинова, ведь об этом упомянуто в каждой концертной программке, описывающей его музыку. Обычно этот кризис подают как творческий тупик, не принимая во внимание детали.
Его проблема уходит корнями в 1890-е. Подстрекаемый страстью к цыганке Анне и недавно познанным Эросом в качестве музы, он весь 1895 год неустанно творит. Его мечта о славе неотделима от этого новообретенного стимула. Эрос в роли музы искушал многих поздних композиторов-романтиков, здесь Рахманинов едва ли уникален. Но он совершенно растворился в эротическом влечении и ожидании поцелуя возлюбленной: Анна, искусительница и спасительница, стала его манией, вызванный ею прилив вдохновения воодушевлял его, и он поверил, что с ней как опорой сможет добиться чего угодно[80]80
Музыковед Стивен Даунс исследует Эрос в качестве музы в своей книге The Muse as Eros: Music, Erotic Fantasy, and Male Creativity in the Romantic and Modern Imagination (Aldershot: Ashgate, 2006). Рахманинова он не рассматривает, возможно, потому, что биографы обычно не упоминают об Анне, однако Рахманинов идеально вписывается в ряд мучимых страстью композиторов Даунса и мог бы послужить примером, доказывающим его и так сильную теорию.
[Закрыть].
Он закончил Первую симфонию к концу лета 1895-го, которое провел в Ивановке, и готовился к концертному туру, призванному поправить его материальное положение. Тур в итоге отменился, но Рахманинов не сомневался, что симфонию ждет успех. Он не собирался останавливаться, пока она не будет готова, пока он не увидит на титульном листе ее название с посвящением Анне и не услышит, как ее сыграют. Может быть, ее муж Петр возглавит смычковые на первом концерте. На программке будет значиться: «Посвящается А. Л.». Сама Анна будет сидеть в первых рядах партера с полыхающими темными глазами и огненной печатью на лице.
Такова была его фантазия, но все получилось совсем не так, как было запланировано. В 1896 году Рахманинов стал одержим идеей публично представить свою симфонию. Он был вне себя от радости, когда оркестровый комитет Санкт-Петербурга одобрил ее исполнение в следующем сезоне. Это решение сгладило эффект отрицательных отзывов некоторых мэтров касательно формы и структуры симфонии. Даже верный Танеев, который во многом отнесся критически, высказался «за».
О катастрофе премьерного исполнения 15 марта 1897 года рассказано гораздо больше, чем о последствиях, отразившихся на эмоциональном состоянии Рахманинова: о том, как поносили симфонию критики, как Римский-Корсаков, который должен был благожелательно ее встретить, счел симфонию, мягко говоря, «неприятной», как возмущался «модернистской дрянью из Москвы» Цезарь Кюи, этот острый на язык музыкальный критик, а также влиятельный петербуржский композитор, обвиняя произведение в «бедности тем [и] больной извращенной гармонии».
Нет никаких свидетельств о том, присутствовали ли на премьере Петр с Анной. Было бы странно, если бы Анна проигнорировала музыкальное мероприятие, pièce-de-resistance[81]81
Основное блюдо (фр.). (Прим. переводчика.)
[Закрыть] которого посвящалось ей, однако она могла и не знать о посвящении. Рахманинов сам не мог поверить своим ушам, когда услышал звуки, издаваемые оркестром. Исполнение было таким дрянным, что он подумал, его вот-вот стошнит. Говорят, дирижер и композитор Александр Глазунов дирижировал как свинья – был ли он пьян или хотел уничтожить Рахманинова? – музыканты тоже играли небрежно. После смерти Рахманинова его свояченица Софья так вспоминала этот судьбоносный для его здоровья и карьеры вечер:
Он сказал нам, что во время концерта не мог заставить себя войти в зал и спрятался на лестнице, которая вела на бельэтаж… Время от времени он прижимал к ушам кулаки, чтобы заглушить звуки, мучившие его. В конце концов, он выбежал на улицу и стал расхаживать, пытаясь понять причину своей ошибки, пытаясь успокоиться перед тем, как ехать на ужин, который устраивал в его честь Беляев [влиятельный издатель и покровитель музыки].
Где же была Анна с ее экзотичностью и утешением, если она действительно приносила ему утешение? Та, кто был его музой, чье тело и душу он наполнил своим воображением в форме симфонии – для того лишь, чтобы все закончилось провалом, от которого он, как повторял он сам в стенаниях, никогда не оправится?
Рахманинов вовремя спас себя, если это можно назвать спасением, тем, что сбежал в имение бабушки Бутаковой под Новгородом, как он часто делал в прошлом, и остался там в одиночестве. Оттуда он писал длинные письма, в которых изливал свои страдания, сестрам Скалой и другим друзьям. Главным виновником катастрофы был Глазунов, но и он сам нес ответственность за плохое исполнение симфонии и в качестве наказания должен бросить писать музыку.
(Моя подруга Эвелин, в чьем дневнике отмечено, что она читала биографию Рахманинова, написанную Бертенсоном, в 1960-х годах и глубоко сочувствовала его катастрофе, напомнившей ей о собственном «глубоком оцепенении» – ее фраза – в Таун-холле. Отчаяние Рахманинова еще более возвеличило его в ее воображении и сблизило с ней. Возможно, это сочувствие восемь лет спустя, в 1968-м, сыграло роль в ее решении переехать в Беверли-Хиллз – его последнее пристанище.)
Рахманинов решил не переделывать симфонию. Много лет спустя, незадолго до того как уехать из России в 1917 году, он сказал Борису Владимировичу Асафьеву, музыкальному редактору, что «был подобен человеку, которого хватил удар и у которого на долгое время отнялись и голова, и руки»[82]82
Письмо Рахманинова Б.В. Асафьеву от 13 апреля 1917 г.
[Закрыть]. В душе он считал 15 марта 1897 года худшим днем своей жизни. Еще более щемящими кажутся его слова, сказанные под самый конец жизни сиделке, о том, что он и не предполагал, что умрет в тот же несчастливый день, 28 марта 1943 года, ровно 46 лет спустя[83]83
15 марта по старому стилю стало 28 марта в новом русском календаре, принятом с 1918 года, поэтому для Рахманинова это была одна и та же дата – худший день в его жизни и день смерти.
[Закрыть].
Расстройство Рахманинова, выражаясь нашим языком, не было психозом: он ел, спал, отправлял ежедневные потребности. Однако он был ментально и эмоционально раздавлен и не мог сочинять. Для человека, который все свое существование оценивал не с точки зрения способности выступать с концертами, а с точки зрения способности творить, такое состояние было смертельно опасным. Оно означало, что он в один миг потерял самоидентификацию. Целых два года он был неразрывно привязан к Анне, она стала центром его эмоциональной и творческой вселенной. Теперь же, по мановению волшебной палочки, он потерял будущее, улыбку, свою тень.
В те два года он написал для Анны множество романсов, в том числе тот надрывный, который начинается словами: «О нет, молю, не уходи!» Это был тот самый романс, который ее сестра Надежда Александровна так замечательно пела у Сахновских. Анне с Петром он посвятил Каприччио на цыганские темы для оркестра, которое потом стало его Опусом 12 и которым он лично дирижировал при исполнении на двух фортепиано. Возможно, Анна и не подозревала о степени его влечения – мы никогда не узнаем правду. Неоспоримо лишь то, что эти переживания вместе с провалом симфонии совершенно раздавили его. Ни одна случившаяся с ним прежде беда не причиняла ему таких страданий – даже смерть сестры, которую он никогда не забывал. На восстановление ушли не недели, не месяцы – годы.
Удивительно ли, что современные меломаны ассоциируют произведения Рахманинова с внутренним страданием и личной тоской? Его игра на фортепиано восхищает, но основные настроения его музыки (уныние, мрачное предчувствие, отрицание, неоднозначное отношение к удовольствию меланхолии и достоинствам силы и выносливости) представляются исключительно пессимистическими. В его музыке выражена не только сентиментальная тоска по одновременно реальной и абстрактной русской родине, но и душа своего создателя, придавленная весом отчаяния. Таков был несчастный гений Рахманинов, спустившийся до нижней точки колеса фортуны. После того как он достиг дна и, в конце концов, исцелился, время, проведенное в чистилище, помогло ему создать величайшие произведения первого десятилетия XX века.
* * *
Но не раньше, чем его воскресила гипнотерапия. Ангельские Сатины, особенно Софья, снова вмешались через матушку Варвару. К тому времени угрюмый Рахманинов прочно вошел в состав семьи и, возможно, уже воспринимался как будущий муж Натальи.
Софья – «Сонечка» для Рахманинова – наблюдала в Ивановке летом 1899-го, до его отъезда в имение состоятельных и чопорных Крейцеров, как он все глубже погружается в хандру, прячась по углам, ничего не сочиняя, а теперь, с приближением нового века, когда его должен был наполнить оптимизм, настроение Рахманинова становилось все мрачнее. Тетя Варвара тоже гадала, что делать. Какой бы властной женщиной она ни была, ее мучили свои демоны, которых она пыталась изгнать с помощью модной тогда гипнотерапии: как мы увидим, ее лечил тот же доктор, к которому она впоследствии направила своего племянника. Варвара последовала совету и рассказала влиятельным друзьям о своем затруднении. Она посоветовалась с княжной Ливен и обсудила состояние Рахманинова с Софьей.
В Европе уходящий век стремился к 1900 году – как часы. Дома в Москве навалило снегу, и уже в начале января он доходил до подоконников. Вскоре после ужасной встречи с Толстым девятого января Рахманинов стал жаловаться Софье с Натальей, что он пропал, что он никчемен, мертвая душа, блуждающая среди живых, неспособная писать музыку. Софья, чей характер был каким угодно, только не романтическим – впоследствии она стала ботаником-систематиком, – отмечала в дневнике, что Рахманинов почти не ест и стал меняться в лице. Она тайно созвала семейный совет и убедила всех, включая Варвару, в том, что пора обратиться за советом к семейному другу Григорию Грауэрману, московскому врачу.
Грауэрман порекомендовал Николая Даля (1860–1939), гипнотизера со связями в московском обществе. Будучи сам скрипачом-любителем, Даль часто устраивал у себя светские вечера. Если кто и мог вытащить Рахманинова из депрессии, которая длилась уже три года, то только Даль. Он лечил актеров, музыкантов, художников – всех представителей богемы, согласившихся у него лечиться. Однокашник Рахманинова Скрябин (чью музыку Рахманинов терпеть не мог) ходил к Далю со своими проблемами, как и Михаил Врубель, художник-символист. Пациентом Даля в то время, когда Рахманинов начал посещать сеансы гипноза, был Василий Иванович Качалов (1875–1948), актер, игравший в первой постановке «Трех сестер» Чехова в 1901 году. Даль вернул Качалова к жизни, и тот стал одним из самых знаменитых чеховских актеров Москвы. Ходили слухи, что Даль гипнотизировал и Константина Станиславского, который тогда еще не был знаменит, но впоследствии получил известность за то, что разработал новую систему актерской игры, основанную на эмоциональном реализме Пушкина и Гоголя (метод Станиславского). В ту зиму об этом еще никто не мог знать, но в 1920-х, после того как лучший друг Рахманинова Шаляпин переехал в Петроград, Даль гипнотизировал и его.
Даль был на десять лет старше Рахманинова и недавно получил статус доктора. Однако, переехав в Москву в 1899 году, он сразу же привлек обширную клиентуру и поселился в доме № 14 в Спиридоньевском переулке, в фешенебельном районе возле Патриарших прудов. Одну из комнат он отвел для музыки: хранил здесь свою коллекцию струйных инструментов и платил по несколько рублей музыкантам из консерватории, чтобы те играли на его тускло освещенных вечерних сборищах. Поговаривали, что своим новым методом «внушения» он может вылечить любой недуг музыканта: синдром щелкающего пальца, скованность в плечах и суставах, боязнь сцены. Можно сказать, что он через гипноз продвигал свой собственный вариант техники Александера еще до того, как она появилась в России[84]84
Техника Александера была изобретена Фредериком Матиасом Александером (1869–1955) в Австралии в те же годы, но в России о ней никто не знал.
[Закрыть].
Рахманинов не возражал против лечения, да и Софья заверила его, что Даль ему понравится. Доктор Грауэрман все уши прожужжал им о достоинствах Даля: о том, что тот учился у Шарко в Сальпетриере – где познакомился с Фрейдом – и в Медицинской школе Нанси, во Франции, у Амбруаза Огюста Лье-бо, основателя школы гипнотического внушения. О том, что читал Владимира Михайловича Бехтерева (1857–1927), известного в России своим «открытием» техник внушения. Все эти отзывы сулили надежду, однако главный вопрос – в том, почему лечение оказалось таким эффективным.
Бехтерев провел множество экспериментов, в которых подвергал пациентов гипнозу, основной форме своей психотерапии. Гипноз, а точнее, гипнотическое внушение, был его специализацией, с его помощью он лечил все патологии. Гипноз даже вдохновил его на создание медицинской модели отношений между людьми одного пола в царской России. По его теории, мужчины из «вырождающегося» высшего общества стали уступать повышенным физиологическим рефлексам и стрессу, оказываемому средой. Невырождающиеся мужчины (такими во времена Рахманинова считались гетеросексуалы) могли сопротивляться пагубному веянию благодаря более крепким нервам и мышечной ткани. Все свелось к состоянию нервной физиологии у разных типов эволюционирующих мужчин (женщин в связи с сексуальным вырождением не рассматривали, их нервы изначально были слабыми). Включая эти теории извращенных сексуальных импульсов в свою методику лечения, Бехтерев основывался на самых передовых европейских идеях касательно вырождения и истерии.
По словам доктора Грауэрмана, Даль не слишком отстал от Бехтерева, хотя и был не так известен. Он получил самое продвинутое медицинское образование в Париже, и его исследования новой терапии уже выходили в журнале Revue de l'hypnotisme expérimental et thérapeutique. В клинике, которая находилась y него дома в Спиридоньевском переулке, он не прописывал лекарств, обходясь одним лишь гипнотическим внушением. Он утверждал, что тело Рахманинова никак не изменится, только его сознание. Депрессия, творческий кризис – все пройдет.
Когда Даль вернулся из Франции в Россию, около 1889 года, в Москве у него не было конкуренции, и он быстро наладил процветающую практику, основанную на новых техниках. В московском свете ходили слухи, что он знаком с самыми современными теориями психиатрии, благодаря чему заработал целое состояние, гипнотизируя влиятельных людей. Из-за любви к камерной музыке и струнным инструментам ему особенно интересно было лечить профессиональных музыкантов.







