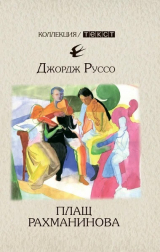
Текст книги "Плащ Рахманинова"
Автор книги: Джордж Руссо
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 18 страниц)
Плащ Рахманинова
Записки о ностальгии
Посвящается Эвелин Амстер, чья история помогла мне понять мою собственную
Предисловие автора
Пусть первые страницы не обманывают читателя, подталкивая к мысли, будто «Плащ Рахманинова» – плод вымысла. В начале может показаться, что перед вами роман, но стоит прочитать несколько десятков страниц – и вы поймете, что «я» рассказчика призвано подготовить почву для последующих мемуаров: двойной истории Эвелин и Джорджа, которые мечтали о новой биографии русского композитора Сергея Васильевича Рахманинова (1873–1943). И если рассказчик (Джордж) прибегает к приемам художественного вымысла в изображении Эвелин, то для того лишь, чтобы как можно скорее погрузить читателя в ее противоречивый мир. Вслед за этим он сможет сам исследовать параллельные вселенные всех трех персонажей: Эвелин, Джорджа и Рахманинова. Главной моей задачей было внятное описание такого сложного понятия, как ностальгия. А еще я хотел показать, какой была новая жизнь Рахманинова, в основе которой – ностальгия, показать, что любая жизнь включает в себя нечто большее, чем стандартный образ, созданный биографами-традиционалистами. Эти мемуары включают в себя чувства большой силы, владевшие Эвелин и Джорджем, которые с 1940-х годов до настоящего времени были вместе погружены в жизнь Рахманинова, и затем разбирают творческую ностальгию Рахманинова по родине – ностальгию, которую мы начинаем понимать только теперь, когда «холодная» война завершилась, железный занавес пал и с 1989 года миллионы людей покинули свою страну, как Рахманинов, потому что не могли больше представить себе существование в ней. И если моя книга, призванная вдохнуть жизнь в понятие ностальгии после колоссальных освободительных усилий 1989 года, покажется в отдельных частях замаскированным вымыслом, то это лишь видимость. Ностальгия остается одним из наименее изученных и при этом наиболее универсальных человеческих чувств. Все персонажи «Плаща Рахманинова» реальны, они ходят или когда-то ходили по той же земле, что и мы с вами: начинающая пианистка Эвелин Амстер (1918–1989), университетский преподаватель Джордж Руссо (род. 1941) и великий русский композитор Сергей Рахманинов.
Я написал эту книгу, потому что современные читатели жаждут более глубокого понимания ностальгии, чем то, что предложено им сегодня: им нужна ностальгия не в виде товара массового потребления, навязываемого через СМИ и Интернет, и не журналистская версия ностальгии с политической окраской, а более универсальный образ, соизмеримый с такими базовыми понятиями, как рождение, смерть, любовь, брак, и широким спектром эмоций, без которых человеческое существование изменилось бы до неузнаваемости. Читатели хотят понять, что есть ностальгия в эмоциональном, психологическом и культурном плане и почему она так широко распространилась по всему миру, освоенная и скомпрометированная как западной, так и восточной культурами, – ностальгия, чья суть пока не раскрыта. Они хотят сравнить оттенки своей собственной ностальгии с тем, что чувствовали знаменитый композитор Рахманинов и никому не известная, но много страдавшая американка Эвелин. Я не смог бы раскрыть все это через бесстрастный – от третьего лица – рассказ под пафосным названием «история ностальгии», как я объясняю в диалоге с Хелен в конце первой части.
Более того, если музыка действительно самое возвышенное из искусств, то она служит прекрасным контекстом для раскрытия малоизученного соцветия ностальгических чувств. Ведь одна из их самых распространенных форм ностальгии, с которыми знаком обычный человек, это эмоциональная реакция на любимую музыку. И мало кто из композиторов лучше подошел бы на роль главного героя книги о ностальгии, чем Рахманинов, потому что он объединяет высоколобую классическую музыку и популярную голливудскую. Рядом с Эвелин, которая была столь же неизвестна, сколь он знаменит, Рахманинов охватывает весь регистр ностальгии, олицетворяет ее психологические и эстетические глубины и интересен широкому кругу читателей, от специалистов до просто образованных людей. Такого рода исследование ностальгии вызывает трудности биографического, культурного, исторического и литературного характера, но наибольшая трудность кроется в смешанном двойном жанре воспоминаний и биографии.
Джордж Руссо
Часть I
Эвелин и Рахманинов
За несколько месяцев до смерти, наступившей перед Днем благодарения 1989 года, Эвелин Амстер сложила все свои записи в большой сундук. Последние несколько лет она медленно угасала, играя фрагменты произведений Рахманинова на пианино в эркере adobe casita (что-то вроде глинобитного домишки по-испански), как она называла свое жилище, и проваливаясь в дрему, когда над Тихим океаном полыхал закат. Сундук стоял справа от пианино, и она методично складывала туда бумаги. Каждый день по нескольку тетрадок, связанных в большие, маленькие и средние стопки, пока не заполнила его доверху.
Потом она позвонила в «Федерал экспресс» и попросила доставить сундук ко мне в Голливуд-Хиллс, на другой конец города. Стояла середина ноября 1989 года, мы не виделись почти год. Эвелин было невдомек, что я находился в Нью-Йорке, куда уехал в творческий отпуск, дабы продолжить свои исследования по истории ностальгии – сложному и запутанному предмету, – поэтому она отправила сундук на мой калифорнийский адрес. Почту проверяла моя соседка Стелла, она пересылала мне важные сообщения и извещала, если возникали проблемы. Стелла обнаружила сундук через несколько дней после его прибытия и была заинтригована именем отправительницы и содержимым сундука.
Накануне Дня благодарения она позвонила мне в Нью-Йорк, чтобы поздравить. В разговоре Стелла упомянула о ноябрьской почте: «И еще там был большой старомодный деревянный сундук от Эвелин Амстер с Венис-бич, слишком громоздкий и тяжелый, чтобы его забрать». Расспросив подробности, я выяснил, что Стелла не смогла в одиночку перенести сундук в машину и оставила его у меня в подъезде.
Я услышал имя и заподозрил худшее. Эвелин Амстер был семьдесят один год, она была совсем слаба и, скорее всего, уже умерла.
– Пусть стоит там, – велел я Стелле и, прежде чем подумать, выпалил: – Я, наверное, прилечу на похороны.
Но на этом мое любопытство не закончилось. Я попросил Стеллу открыть сундук, исследовать его содержимое и перезвонить мне на следующий день.
Стелла позвонила утром в День благодарения.
– Там какие-то исписанные тетрадки, дневники с пометками и каракулями, маленькие желтые блокноты, тоже исписанные, связки писем, многие из них старые, потому что бумага начала крошиться.
Именно то, что я и ожидал. Эвелин двадцать лет прожила затворницей на Венис-бич, в другой Венеции, как называли это место жители Лос-Анджелеса – Венеции, на дощатых набережных которой мужчины поигрывали мускулами. Эвелин переехала туда примерно в 1968 году «в поисках Сергея Рахманинова», как она сама выражалась с манерными интонациями в голосе, призванными заглушить нью-йоркский акцент; в поисках великого пианиста и композитора, уникальной фигуры в американском сознании XX века. Фамилию Рахманинова было столь же сложно произнести и написать, как и играть его музыку, но у Эвелин имелись свои причины.
Она вела тихую жизнь и по мере угасания делала все больше пометок в блокнотах. Она писала часами: ничего законченного, даже не длинные письма, а просто обрывочные зарисовки, впечатления, где говорила, что перед смертью хочет узнать «правду» о величайшем пианисте ее поколения – Сергее Рахманинове.
В том же телефонном разговоре я спросил Стеллу, не стоит ли на сопроводительном документе от «Федерал экспресс» обратный адрес отправителя, и она ответила, что «да, 1D Венис-бич». Я попросил Стеллу съездить туда – это в получасе езды от моего дома – и разузнать об Эвелин все, что можно. Бессмысленно было бы звонить ей, если она умерла. Но на случай, если она жива, я дал Стелле ее номер. Это был День благодарения, когда американцы обычно звонят друг другу.
В выходные Стелла подъехала к обшарпанному многоквартирному дому на набережной, постучалась к Эвелин, а после того, как никто не ответил, расспросила соседей и выяснила, что «странная дама» действительно умерла с неделю назад. Одна соседка, знакомая Эвелин, сообщила, что похороны назначены на следующую среду, второе декабря, о чем Стелла доложила мне вечером по телефону.
Я вылетел первым доступным после праздника прямым рейсом, задень до похорон, во вторник первого декабря, чувствуя в равной степени любопытство относительно содержимого сундука и печаль из-за смерти Эвелин. «Как было бы хорошо, – думал я в самолете, – увидеться с ней в последний раз, спросить, что же она узнала о своем кумире, Сергее Рахманинове, и поблагодарить за то, что она сделала для меня сорок лет назад». Хотя в последние годы мы с Эвелин редко виделись, я никогда не переставал восхищаться великодушием, которое она проявила, когда мне было восемь.
Стелла не смогла дать мне адрес похоронного бюро, и я понял: если хочу успеть, нужно торопиться. Взял напрокат машину в аэропорту и поехал прямиком на Венис-бич по прибрежной дороге – там не более четверти часа пути. Прожив в Лос-Анджелесе двадцать лет, я знал город как свои пять пальцев.
Я нашел управляющего домом Эвелин, измученного артритом карикатурного старичка-еврея в кроссовках и бейсболке, и рассказал ему все по порядку: о том, что я преподаватель Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и нахожусь в творческом отпуске в Нью-Йорке, о своем давнем знакомстве с Эвелин, о сундуке, о том, что прилетел на похороны и надеюсь, что не опоздал.
– Таки не опоздали, – ответил управляющий. – Это завтра, в среду. Вы как раз вовремя, молодой человек.
Затем он отвел меня в пустую темную квартиру, где жила моя подруга Эвелин, тело которой лежало теперь в морге. Там было довольно опрятно, только повсюду разбросаны книги Эвелин. И никаких блокнотов: должно быть, она все их сложила в сундук, ожидающий меня в Голливуд-Хиллс.
Управляющий рассказал мне, что Эвелин распорядилась провести прощание в местном похоронном бюро. Говорил он, сильно картавя. Наверное, выбор похоронного бюро подвергся обсуждению, или, возможно, местные жители, в большинстве своем старики, были хорошо знакомы с этим заведением и его видавшей виды обстановкой. Управляющий сказал, что придут всего несколько человек.
– Мы, евреи, хороним быстро, некогда рассылать приглашения, к тому же во время праздников. Да и знакомых-то у Эвелин было всего трое-четверо.
Вооруженный всеми этими сведениями, лично осмотрев ее пустую квартиру – доказательство того, что она действительно умерла, – я поехал домой. По Венис-бич до Десятого шоссе и дальше до Голливуд-Хиллс.
Я слишком устал после перелета, чтобы сразу же заняться содержимым сундука, но не мог лечь спать, не заглянув внутрь. Стелла описала мне заметки Эвелин по телефону, но совсем другое дело, сказал я себе, увидеть их собственными глазами. Как я и подозревал, большинство из них было посвящено Рахманинову, но время от времени встречались воспоминания и размышления о жизни ее сына. Я открыл несколько блокнотов, пролистал их, опустил деревянную крышку и лег в постель.
В среду я проснулся рано, принял душ, плотно позавтракал в кафе и поехал в еврейское похоронное бюро задолго до полудня, когда должно было начаться погребение. Домоправитель оказался прав: пришло всего шесть человек, только женщины – одна из них довольно расфуфыренная – и раввин.
Раввин произнес проникновенную речь, сказал, что Эвелин была женщиной обширных познаний и величайшего присутствия духа, она чудесно играла на фортепиано и в молодости давала концерты. Катафалк отправился на кладбище, что находилось неподалеку в Калвер-Сити, как и распорядилась Эвелин. Четверо из нас последовало за ним. Над могилой прозвучали молитвы, мы разорвали на себе рубашки, бросили обрывки в могилу и, прочитав кадиш по Эвелин, стали смотреть, как гроб опускают в землю. На этом все и закончилось: ни застолья, ни воспоминаний, ни разговоров – мы просто разошлись.
С сухим, онемевшим ртом я завел взятый напрокат автомобиль, размышляя о том дне, когда и я исчезну из мира, – неужели и со мной придут проститься всего пять человек и раввин? Потом я поехал к Стелле в Раньон-Каньон, чтобы рассказать, как прошли похороны. Стелла приготовила восхитительную пасту с сардинами и анчоусами; мы выпили две бутылки вина и проговорили, в основном об Эвелин, до самой ночи.
Траектория жизни Эвелин была мне известна давно: после Первой мировой она росла в Куинсе, единственный ребенок разбогатевших еврейских эмигрантов, ее отец был европейским коммерсантом, успешным, харизматичным и усатым; после неудачного дебютного концерта она вышла замуж за Сэма Амстера и родила своего единственного ребенка, Ричарда, музыкального гения, который играл на виолончели.
Все это были для меня дела минувшие, но похороны разбудили яркие воспоминания о том страшном дне 1949 года, сорок лет назад, и, пока мы со Стеллой ели и пили, я все рассказывал ей о той «катастрофе».
Сыну Эвелин Ричарду было тогда семь лет, он был на год младше меня. Мы познакомились в музыкальной школе на Чатем-сквер, в Манхэттене, где оба получили стипендию на обучение. Уже в таком нежном возрасте нас соединяли в пары, фортепиано со смычковым инструментом, и Ричард стал моим партнером. Мы подружились, и как-то осенью в субботу этот день недели ученики обычно проводили в школе на Чатем-сквер – миссис Амстер в первый раз пригласила меня на выходные к ним домой в Куинс. Это был восьмой день рождения Ричарда.
Мои родители жили в Бруклине, машины у них не было, поэтому отец отвез меня на метро до Флашинга, где жили Амстеры. Сэм Амстер встретил нас на станции, отец представился и через несколько минут попрощался, вручив меня этому человеку, который повез меня на машине к их дому в паре километров оттуда. Как я понял, отец должен был забрать меня в воскресенье после обеда.
Мне, восьмилетнему мальчику, их дом показался огромным – это было кирпичное строение в несколько этажей. Эвелин в изящном платье с цветочным узором ждала нас у двери, и, когда я зашел внутрь, до меня донеслись запахи готовящейся еды. Эвелин отвела меня наверх, в маленькую спальню, предложила оставить там чемоданчик с вещами и отправила к Ричарду, который упражнялся в музыкальной комнате.
Я без труда нашел нужное помещение по звукам виолончели. Комната была большой и красивой, с высоким потолком, плотными шторами и полками с книгами по всей длине стен. Посередине стоял большой коричневый рояль, а рядом с ним я увидел своего друга, игравшего на виолончели.
Заметив меня, Ричард остановился и поднялся, держа виолончель. Я подошел к нему, не для того чтобы обнять – мне было восемь, и я не обнимал других мальчиков, – а из любопытства, вызванного необычным окружением, возможно, из чувства благоговения, охватившего меня при виде Ричарда с его старинной виолончелью в этой красивой комнате с изысканной мебелью и полированным роялем, настолько непохожей на класс в музыкальной школе, где мы занимались по субботам, с его пустыми белыми стенами. Классы в школе были очень маленькими и почти пустыми, только пианино и вращающийся табурет.
Да, наверное, этот благоговейный трепет был вызван смятением, охватившим меня при виде друга в такой обстановке. Потому что я и раньше бывал рядом с виолончелью Ричарда в музыкальной школе, может быть, даже трогал ее. Знал, какая она старая и из какого прекрасного дерева сделана. Но никогда не видел ни ее, ни ее владельца в столь роскошной обстановке.
А дальше в моей памяти провал… Не помню, что случилось, возможно, мой разум таким образом оберегает меня, заглушая слишком болезненное воспоминание. Следующее, что я помню, рассказывал я Стелле вечером после похорон, это сломанная виолончель Ричарда на полу. По ее корпусу шла громадная трещина.
Ричард окаменел от потрясения так же, как и я. Мое сердце билось все быстрее и быстрее, помню, как я хотел сбежать, спрятаться. Я был всего лишь ребенком, но весь мой мир рушился. В голове крутилась одна мысль: «Это не я, не я, она упала».
Эвелин внизу занималась готовкой и, наверное, услышала грохот виолончели. Через несколько секунд, не позже, она вбежала в комнату, и ее глазам предстала катастрофа.
Она взглянула на застывшего сына, увидела ужас у меня на лице, но не слезы – я не помню, чтобы плакал. Я был в состоянии шока, поэтому, возможно, память меня подводит, но вот что мне вспоминается сорок лет спустя. Эвелин подошла, положила одну руку мне на плечо, вторую – на спину и ласково прошептала мне, восьмилетнему мальчишке, живущему на съемной квартире в Бруклине: «Не волнуйся, милый, у Ричарда есть другая виолончель».
Она произнесла это медленно, с пробирающей до глубины души искренностью. Не знаю, что подумал Ричард, но меня ее слова изумили и успокоили. Не помню, чтобы я что-нибудь говорил. Ни слова.
Из памяти стерлись и первые несколько часов после катастрофы. Например, я не помню, как прошел обед, ел ли я что-нибудь и присутствовал ли отец Ричарда. Помню только, как внимательно следил за жизнерадостным лицом Эвелин, сидя в чинной столовой с такими же плотными шторами и высоким потолком, и дивился тому, что кто-то может быть настолько добр.
После обеда мы с Ричардом пошли практиковаться в музыкальной комнате с его другой виолончелью. Не помню, чтобы я умолял его о прощении или плакал. Мое сердце снова билось ровно. Должно быть, я спокойно спал той ночью, потому что не помню, чтобы в страхе лежал без сна. И в воскресенье, когда отец забирал меня, образ сломанной виолончели уже потускнел в моем сознании.
Ни Эвелин, ни ее муж ни словом не обмолвились отцу о катастрофе; просто передали меня ему, как будто выходные прошли обыденно. Я не осмелился заговорить об этом с отцом в метро, но, когда мы вернулись к себе в Бруклин, рассказал родителям.
Мать мгновенно встревожилась: «Ты сломал виолончель?» Я почувствовал необходимость оправдаться. Сказал, что не уверен, сломал ли ее я или Ричард. Кто-то из нас случайно ее уронил. Нельзя наверняка сказать кто.
– Твоему отцу, – произнесла мама, возвысив голос и указывая на него, – придется устроиться на вторую работу, чтобы расплатиться, – и продолжила пилить меня, до бесконечности описывая ужасы, которые вызовет мое бездумное поведение.
Рассказал ли я им об удивительной щедрости Эвелин? Да и как бы я смог объяснить тот факт, что нам ничего не придется платить за причиненный ущерб? Амстеры принадлежали к людям другой породы – это касалось и матерей, и отцов. Они прощали людей.
Эвелин могла бы уничтожить меня в тот день, потребовать, чтобы моя стесненная в средствах семья оплатила новую виолончель, и взвалить такое бремя вины на мою совесть, что на исцеление ушли бы годы психотерапии. Вместо этого она сотворила чудо с помощью нескольких слов, подкрепленных безупречным самообладанием и невообразимым милосердием. Отец бы обрушил возмездие на голову виновного. Когда в шесть лет я потерял очки, он повел себя, как тиран, сказал, что, если я их опять потеряю, он не будет покупать новые и я вырасту слепым, не смогу научиться читать, различать окружающих.
Удивительно ли, что я рос, считая Эвелин добрейшей из женщин, когда-либо живших на свете, идеализируя ее? По крайней мере, до тех пор пока события, которые я привожу здесь, не смягчили мой максимализм и не помогли мне лучше понять бедную Эвелин, которая теперь лежала в гробу в земле.
В последующие годы я много раз бывал в красивой музыкальной комнате Ричарда и ни разу ни от кого не слышал о сломанной виолончели. Вскоре после катастрофы Амстеры дали мне понять, что купили Ричарду еще одну запасную виолончель взамен той, что я сломал.
Эвелин в те выходные сказала мне и кое-что еще. Что я лучший друг Ричарда. В восемь лет я еще не мог понять, к чему она это сказала, но со временем сообразил, что означали ее слова: я нравлюсь не только Ричарду, но и ей тоже. В тот момент я подумал, что, хотя мне было всего восемь, она разглядела во мне какое-то качество, делавшее меня чем-то большим, нежели просто будущим аккомпаниатором ее сына. Но впоследствии я интуитивно понял ее логику: если я нравился Ричарду, то должен был нравиться и ей, ибо они с Ричардом были практически одним целым.
Теперь я должен сделать отступление, чтобы показать, каким образом она пришла к идее крайней степени взаимопонимания между нами троими: двумя Амстерами – сыном с матерью – и мной. Только это объясняет, почему я все бросил и полетел на ее похороны, почему ее бумаги так много значили для меня и побудили реконструировать ее жизнь.
Спустя восемь лет после того происшествия, в результате другого бедствия, гораздо более трагического, чем катастрофа с виолончелью, мы с Эвелин стали обмениваться письмами; потом, примерно в 1968 году, она перебралась с Лонг-Айленда в Калифорнию, и наше общение постепенно сошло на нет. Мы все реже писали друг другу, два-три раза в год пытаясь наверстать упущенное полуночными телефонными разговорами, продолжавшимися по часу.
Эвелин так и не вернулась в Нью-Йорк, но нам повезло. Примерно в то же время, когда она переехала, я устроился на работу в Калифорнийский университет – эти события были никак не связаны друг с другом, но благодаря им мы смогли видеться. Я наблюдал, как изящно она седеет, становится с возрастом мягче, красивее и более стойкой, чем Эвелин, которую я помнил по Куинсу. Ее шестидесятый день рождения на Венис-бич в 1978 году прошел скромно: несколько стареющих представителей местной богемы принесли солонину, капустный салат и напитки. Как и ожидалось, она произнесла несколько слов о жизни Рахманинова, человека, который имел для нее колоссальное значение.
Я прекрасно знал, зачем она переехала в окрестности Беверли-Хиллз.
– Найти Сергея Рахманинова и понять его горе, – как сказала она мне тогда и часто говорила после – найти великого русского, скончавшегося в 1943 году, когда Эвелин было двадцать пять. До ее переезда я пытался отговорить ее от этих нелепых исканий, но не добился успеха. Она была непоколебима, все твердила, что это «единственная причина жить теперь, когда у нее никого не осталось».
Эвелин имела в виду «поиски следов Рахманинова», она стремилась узнать, как он жил после бегства от большевиков в 1917 году и эмиграции в Америку. Воображала, что, если сможет восстановить его путь из России в Нью-Йорк и Калифорнию – даты, причины, то воздействие этих событий на него как композитора, и в особенности неизъяснимое чувство тоски, – то поймет собственное одиночество. Такова была ее странная логика: от тоски Рахманинова к своему одиночеству. Под «горем» она подразумевала нечто иное – горе от потери Ричарда.
При чем здесь Ричард и почему Ричард умер?
Вот в чем был вопрос, и у меня ушли годы на то, чтобы понять, как все это взаимосвязано: жизнь Эвелин, жизнь и болезнь ее сына Ричарда и жизнь Рахманинова. Не фактическая причина ранней смерти Ричарда, которую я скоро раскрою – она была довольно проста, хотя и печальна, – а чувство Эвелин, что ее палец заканчивается там, где начинается палец Ричарда, и то, как оно накрывало ее из года в год словно приливной волной. Это чувство было столь сильным, что Эвелин эпохи до Ричарда – существовавшая до появления на свет этого мальчика перевоплотилась совершенно и перестала походить на девушку, которая мечтала выступать на концертах. А потом, в эпоху после Ричарда, она снова стала другим человеком, когда покинула Нью-Йорк и уехала в Калифорнию.
Моей задачей было не просто установить факты, хотя они необходимы для понимания; самое сложное заключалось в том, чтобы проникнуть в ее изощренный разум, интуитивно сконструировавший параллельные вселенные Ричарда и Рахманинова.
Точнее было бы сказать – Эвелин и Рахманинова, ибо в юности она и сама, как я уже говорил, была подающей надежды пианисткой, а ее молодые годы пришлись на конец жизни Рахманинова; сама она никогда не выступала и не добилась известности, но они приходились друг другу почти современниками. Однако мой взгляд на эти параллельные вселенные долгое время отличался от ее собственного, и, в конце концов, я отказался от ее видения. Но это случилось уже после того, как я реконструировал – ради ясности не две, а три жизни: ее сына Ричарда, Рахманинова и самой Эвелин. Конечно, у меня и до того были определенные предположения, но сундук с записями предоставил недостающие связующие звенья.
В нем я нашел пятнадцать больших тетрадей, по одной на каждый год жизни Ричарда, начиная с 1942-го, и несколько пухлых папок с бумагами, каждая из которых была помечена годом жизни Эвелин после переезда. На последней папке, полупустой, стоял 1988 год. 1989-го, последнего года ее жизни, не было. В ее записях, сделанных микроскопическим почерком, не было ни вымаранных мест, ни исправлений, как будто она надиктовала их или записала на кассету как аудиодневник. Иногда она указывала на ошибку в фактах или хронологии, иногда делала поправки на полях, но в целом эти наброски были окончательной версией того, что она планировала написать. Наверно, в процессе она выбросила сотни страниц. Тысячи исписанных листочков.
За несколько месяцев я понял, что и свою жизнь, и жизнь Рахманинова она рассматривала как аллегорию боли, причиняемой памятью. Так, словно ни один из них не в силах «забыть утраченное» – и это их роднило. Не повелительное «память, говори», как у Набокова, а не менее побудительное «память, забудь» или невозможность забыть. Она не кичилась этим, просто пыталась разрешить то, что называла в своих записях «ЗР» – «загадкой Рахманинова». Эта аббревиатура встречается на страницах ее блокнотов сотни раз.
Загадка? Поскольку в прошлом я и сам был пианистом, то понимал, каким образом этот таинственный русский композитор завладел ее сознанием, каким запутанным путем она пришла к его идеализации, вплоть до отождествления его с собой. У Рахманинова, как и у ее сына Ричарда, в раннем возрасте развилась болезнь – творческий кризис, от которого его лечили в 1900 году и который чуть его не прикончил. Считается, что Рахманинов победил свой недуг, а вот Ричард – нет. После кризиса Рахманинов «вернулся», сочинив знаменитый Второй концерт для фортепиано, и активно творил еще два десятилетия, пока его не напугали революционеры и он, собрав чемоданы, не бежал из России на Запад, эмигрировал в Америку и осел в Калифорнии. Он был самым выдающимся пианистом России, а к 1930-м годам и Западного мира. Эвелин тоже поселилась в Калифорнии и, как Рахманинов, окончила там свои дни. Как я выяснил, параллель между вселенными Рахманинова и Ричарда была менее очевидной.
В заметках Эвелин сравниваются две жизни: Ричарда и Рахманинова – конечно, сама Эвелин никогда бы не сочинила связного рассказа об этих жизнях, но ее заметки похожи на наброски начинающего писателя, расписавшего в хронологическом порядке события многолетней истории. Хотя сама она в них отсутствует: нет ни одной тетради, посвященной ей, ничего под заглавием «Эвелин», только ежедневники, где она отмечала, куда ходила и что делала. В них охвачены события, начиная с 1941 года, когда она вышла замуж за Сэма. Человек, знакомый с Нью-Йорком, где она жила, и музыкальной средой, в которой она выросла, смог бы проследить ее биографию и до 1941 года, от рождения в 1918-ом, но это было бы настоящим испытанием.
С Рахманиновым все обстояло по-другому. Его биография вышла на английском в 1956 году, за тридцать три года до того, как я унаследовал сундук Эвелин, и новых с тех пор не появлялось. Чтобы оценить ее, требовался специалист-музыковед, знакомый с российской историей и архивами. Можно было бы предложить новую биографию Рахманинова, основанную на новых сведениях или взглядах, но для этого нужен был конкретный новый подход.
Эвелин писала от первого лица и попыталась начать с истоков: рассказать об условиях, в которых она росла – благоприятных по сравнению с детьми других еврейских эмигрантов, зачастую малоимущих, объяснить лежавшую на ней обязанность воспитывать сына, обладавшего «чрезвычайным музыкальным талантом». Но эти попытки она бросила уже через несколько абзацев, не оставив связного повествования. За исключением двух отрывков: детального рассказа о смерти Ричарда и наброска под названием «Повесть сиделки», охватывающего конец жизни Рахманинова.
Смерть Ричарда в 1957 году, в возрасте пятнадцати лет, едва не лишила Эвелин рассудка; она будто застряла в собственной вселенной и уже не могла завершить, возможно, уже начатый рассказ о параллелях между жизнями двух этих людей. Не могла осознать и собственное существование, за исключением повседневных потребностей. После смерти Ричарда все стало слишком болезненным.
* * *
Следующие три года, с 1989-го по 1992-й, я провел, закопавшись в содержимое сундука. Мой творческий отпуск подошел к концу, но я упорно изучал ее записи. К своему удивлению, после 1992 года я обнаружил, что они проливают свет на мои собственные изыскания. В то времени я увлеченно исследовал историю заболевания, которое в наши дни таковым не считается – НОСТАЛЬГИИ, тоски по дому. Или, как указано в словарях, тоски по прошедшим временам или прошлым местам. Какой-нибудь научный трактат на эту тему открыл бы новую страницу в исследованиях. Но именно дразнящие параллельные вселенные Эвелин, а не научные труды, позаимствованные в библиотеках, позволили мне в конце концов обосновать основные моменты широко известного в истории и психологии состояния ностальгии[1]1
Читатель может спросить, что же это за состояние и в чем его важность. Или, если смотреть исторически, чем оно было и чем стало. Само слово «ностальгия» введено в 1688 году военным врачом из Эльзаса Иоганном Хофером, который составил его из двух корней: ностос (дом) и альгия (страдание из-за чего-либо), – чтобы описать тоску по дому. Хофер подметил у своих пациентов такие симптомы, как бессонница, потеря аппетита и даже попытки самоубийства; причиной такого состояния он определил разлуку с родиной. Большинство его пациентов были молодыми швейцарскими наемниками, и его удивляло, что они так страдают, оказавшись в Эльзасе, на небольшом расстоянии от родных мест. Ответ он получил, когда они объяснили, что одна швейцарская долина отличается от другой видами, звуками, запахами, едой, качеством воздуха и даже вкусом молока. Хофер понял, как сильно его новоизобретенная ностальгия зависит от места, и описал все эти мельчайшие различия в своем труде. В последующие два столетия врачи продолжали относиться к ностальгии как к болезни. О ней вышли десятки трактатов, и постепенно она проникла в массовую культуру, где ее стали воспринимать не с медицинской точки зрения, а просто как тоску по иным местам или временам. Особенно привлекала ностальгия поэтов-романтиков, которые черпали в ней вдохновение, и викторианских писателей в Британии и на континенте, которые создали целый пласт литературы, основанной на ее психологических эффектах. Тем не менее ностальгия по-прежнему сохраняла свой статус заболевания, и даже многие американские солдаты во время Гражданской войны страдали от ее симптомов, о чем писалось в медицинской литературе 1860-х годов, где ностальгия выступала в роли диагноза этих солдат. Но распространение психиатрии и психоанализа в конце XIX века временно вытеснило ностальгию из медицины, когда один европейский ученый за другим – Шарко, Ясперс, Фрейд, Юнг – опровергли ее статус, заявив, что симптомы ностальгии относятся скорее к формам психологической меланхолии и лечить их нужно соответственно. К началу Первой мировой войны уже мало кому из солдат с теми же симптомами, что и у наемников Хофера, диагностировали ностальгию. Этот сложный переход я и стремился зафиксировать в своих исследованиях. В начале XX века ностальгия покинула военную область и вступила в широкую сферу психологии, где ее считали слишком расплывчатым понятием, чтобы как-то классифицировать: к ней относили и политику ностальгии, и коллективный ностальгический темперамент, и мечты об ушедшем, и – у людей, покинувших свое место обитания, – тоску по родине. Изначальная maladie du pays (тоска по Дому) Хофера превратилась в mal du siècle (болезнь века), в неизлечимое психическое расстройство с самыми разными симптомами, связанное уже не с определенным местом, а с неопределенным временим, не с эмоциональным состоянием, которое можно описать, а с тоской из-за невозможности мифического возвращения. Но даже в своем новом расплывчатом значении ностальгия считалась состоянием, вызывающим в человеке напряжение и побуждающим его вести двойную жизнь в реальном и воображаемом мире, существовать в промежуточном психологическом состоянии между реальным настоящим и воображаемым прошлым. Русский поэт Андрей Вознесенский написал об этом стихотворение под названием «Ностальгия по настоящему».
Параллельно с этим ностальгия стала в XIX веке источником вдохновения для писателей и мыслителей, начиная с французских символистов, Пруста и Джойса, которые основывали на ней многие лучшие свои произведения, например шедевр Пруста «В поисках утраченного времени». В этом смысле ностальгия стала чем-то позитивным, живительным, даже магическим. Она не только волновала душу художников, но и наполняла их энергией, и ее влияние сводилось к гораздо большему, чем поиски загадочного утраченного дома. Ностальгическое настроение открыло воображаемые окна в другие экзотические миры и подвигло писателей, художников и композиторов пуститься в исследования неизвестного. В этом смысле ностальгия перешла из романтизма в более поздний модернизм, который на словах эти художники часто отвергали. Но политические реалии XX века – война, национализм, холокост, геноцид, массовая миграция, изгнанничество – привели к таким чудовищным сдвигам, что породили новую эпидемию ностальгии. И эта эпидемия продолжается сегодня как под маской посттравматического расстройства, которое зачастую вызвано как раз участием в военных действиях или потерей, так и среди миллионов беженцев, которые страдают от одиночества, тоскуя по своим оставленным семьям. Именно это неоднородное понимание ностальгии, развивавшееся от Хофера до наших дней, я и пытался исследовать, однако это такой большой пласт культурной и интеллектуальной истории, что задача оказалась не из легких. Я задался целью подробно описать ностальгию, потому что она занимает универсальное место в человеческой истории и важна для изучения как человеческого здоровья на протяжении веков, так и творческого процесса. Ностальгия присуща даже самой здоровой человеческой душе, от нее нельзя отделаться, и это придает ей особую важность. (Здесь и далее, если не указано иное, примеч. автора.)
[Закрыть].
Нужно оговориться: Эвелин пребывала в убеждении, что Рахманинов так и не излечился. Эта точка зрения была неотъемлемой частью ее аббревиатуры «ЗР», ностальгической загадки, которую она выявила. Для себя она сделала такой вывод: исцеление Рахманинова в 1900 году было временным, в отличие от его безоглядного бегства из России, и человек, проживший три десятка лет с болью воспоминаний, которые он не мог стереть, всю жизнь был болен хронической ностальгией. Потребовалось десятилетие, чтобы я понял: в этом и заключалась суть ее заметок о «ЗР». Права она была или нет, мне нужно было оценить их, и на это ушло еще десять лет.
Я изучил содержимое сундука, соотнес изученное с литературой и биографией Рахманинова. При этом для понимания сути дела записи Эвелин каждый раз оказывали неоценимую помощь.
Например, среди них нашлось множество фотографий Рахманинова и рецензий на его концерты. На снимках великий пианист всегда был в своем публичном образе: он практически никогда не разрешал печатать свои фото, сделанные в домашней обстановке. Архив Эвелин состоял из черно-белых изображений сурового лица, неспособного на смех или улыбку. На сохранившихся фотографиях, например, там, где он лежит с книжкой в гамаке в своем саду в Нью-Джерси, Рахманинов каждый раз предстает в полном облачении, в галстуке и пиджаке, словно перед концертом. Эвелин заболела этими фото «человека в плаще», одетого для выступления, вроде знаменитого снимка, сделанного в Нью-Йорке во время его первого американского турне. В своих записях она пространно рассуждает о черном одеянии с глянцевыми атласными отворотами как о его «тайне». Это был легендарный черный плащ, без которого он никогда не появлялся на сцене.







