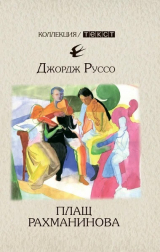
Текст книги "Плащ Рахманинова"
Автор книги: Джордж Руссо
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 18 страниц)
Детская больница на Лонгвуд-авеню в Бостоне была уже довольно старым учреждением к сентябрю 1955 года, когда Эвелин с Сэмом отвезли туда Ричарда. Ей пошли на пользу годы сотрудничества с крупными учебными больницами Бостона, в особенности с Гарвардской медицинской школой. Некоторые ранние случаи прогерии в период между войнами были диагностированы именно в Бостонской детской больнице, и ее педиатров не смутил бы еще один случай. Осень для Эвелин становилась все безрадостнее: 22 ноября Ричарду исполнится тринадцать, его бар мицва должна пройти на следующий день, в субботу 23 ноября, в синагоге на Сто двенадцатой улице в Форест-Хиллс, но ее мысли все чаще обращались к Бостону, а не к Куинсу.
Доктор Эндерс был главным педиатром больницы и потому привык говорить родителям, что их дети могут умереть. Сам он прогерию никогда не лечил, но наблюдал за лечением и за общением врачей с родителями. Официальный диагноз должен был поставить Вальтер Шмидт, немецкий педиатр, который уже диагностировал несколько подобных случаев. Он получил образование в Гейдельберге и всего два года назад перебрался в Гарвард, откуда перешел в Бостонскую детскую больницу, чтобы продолжить свои исследования генетически предопределенных болезней вроде прогерии.
Шмидт продержал Ричарда в больнице три дня, чтобы провести анализы. Сэм с Эвелин остановились в больничном мотеле на противоположной стороне Лонгвуд-авеню, но спать не могли. Днем они места себе не находили, и их беспокойство только усугублялось тем, что они каждый час пили кофе в больничной столовой и притворялись, будто читают газеты. На третий день ассистент призвал их к Шмидту. Несмотря на измотанное состояние, они запомнили слова доктора.
Годы спустя Эвелин написала в дневнике, что до сих пор видит перед собой доктора Шмидта. Перед ее внутренним взором вставал этот заслуженный европейский врач в безукоризненном белом халате ниже колен, с черной кожаной записной книжкой в руках и в бифокальных очках, которые сползали у него с носа. А в ушах звучал его мягкий приятный голос, говоривший медленно, с сильным немецким акцентом.
Амстеры не были удивлены. Они попросили Шмидта разъяснить им все с медицинской точки зрения. В дневнике Эвелин отмечает, что записала его слова по памяти, официального письма с диагнозом в сундуке не было:
Мы думаем, что у Ричарда прогерия или ее разновидность. Мы не можем знать наверняка, но уверены на девяносто процентов. Прогерия не лечится. Сегодня мы пригласим Ричарда в кабинет и расскажем ему все вместе в этой комнате. Вы как родители должны забрать его домой и обеспечить ему лучшую жизнь на то время, что ему осталось. Он будет быстро стареть. Появится больше седых волос, потом они начнут выпадать. Кожа станет еще грубее. Возможно, у него снова изменится запах. Его личность, скорее всего, также претерпит изменения. В какой-то момент он не сможет больше играть на виолончели. Если повезет, он доживет до двадцати или даже тридцати – невозможно предсказать, как долго он протянет и каково будет качество его жизни. Но, в конце концов, его тело разрушится, и это нельзя вылечить. У медицины нет средств, чтобы остановить прогерию. Если желаете, проведите бар мицву, как собирались. Для Ричарда это будет многое значить. Скорее всего, он несильно изменится в ближайшие два месяца. Постарайтесь радоваться тем дням, что остались.
* * *
Вердикт доктора Шмидта не оставлял их в покое всю обратную дорогу до Форест-Хиллс. Ричард, когда ему сказали полуправду, воспринял новости спокойно, неуверенный в том, хорошие они или плохие. Он будто находился в тумане, говорил мало и внезапно стал казаться испуганным, как олень, которого не убили наповал, а только оглушили дротиком. Он сказал что после трех дней в «этой больнице» хочет вернуться домой. Все дергал мать за рукав блузки и повторял ноющим голосом: «Давайте поедем домой!»
Поначалу Амстеры восприняли слова доктора покорно, но через несколько часов в них стало нарастать сопротивление. Что такое «разновидность прогерии»? Мать с отцом преисполнились решимости это выяснить: «разновидность» могла стать ключом к тому, будет ли их сын жить или умрет. Доктор Шмидт был так скуп на слова и говорил так осторожно – уж наверное, он упомянул о «разновидности» не просто так. Может быть, есть разные типы прогерии? И некоторые из них тяжелее других? А вдруг у Ричарда легкая «разновидность» – тогда у него осталось больше времени, чем внушили Амстерам, а некоторые симптомы, может быть, вообще не проявятся.
Прискорбная одержимость «разновидностью» еще глубже ввергла их в пучину отчаяния: откуда получить поддержку? Доктор Шмидт не предлагал им вернуться в Бостонскую больницу, вместо этого за состоянием Ричарда должен был следить уже знакомый им доктор Ньюкамер. «Ньюкамер, – горячо заявил Шмидт, – превосходный доктор, который прекрасно справится со случаем Ричарда». И даже если бы их попросили вернуться в Бостон, ничего бы не изменилось, потому что лечения не существует. Их сына оставят умирать. Шмидт сказал, что их лечащий врач будет разбираться с каждым симптомом по отдельности: кожей, глазами, волосами, даже запахом, если потребуется.
Эвелин была убита горем и не могла даже помыслить о том, чтобы стоически принять судьбу: «Должно же быть что-то, какое-то экспериментальное лекарство, какая-то терапия, какой-нибудь эксперт где-нибудь». Рак, по крайней мере, вызывает сочувствие, пусть даже приводит к смерти, но прогерия… если уж ведущий специалист Бостона, диагностировавший так много случаев, не смог определить правильную разновидность, то какова вероятность, что это смогут сделать врачи из местной больницы в Форест-Хиллс или даже из какого-то более специализированного заведения в Манхэттене?
Сэм был более сдержан и практичен. Он согласился, что нужно установить точный диагноз и подтвердил, что не пожалеет никаких денег, чтобы проникнуть в суть болезни Ричарда, даже если ради этого придется продать компанию и перебраться на другое побережье. Он пространно говорил о сиделках, медицинской страховке и ценах за услуги специалистов, как будто это все было реалиями завтрашнего утра.
Ричард держался лучше. Он по-прежнему ходил в школу и упражнялся в игре на виолончели, но родители заметили, что с каждой неделей он упражняется все меньше, словно слишком устает, а еще заметили, что он пропускает уроки и становится более нелюдимым. Действительно ли он уставал или другие мальчики не хотели с ним общаться? Его аппетит не изменился, но он перестал расти, сделался раздражительным – капризным и склочным, как старик. За последние три года он совсем не вырос и оставался ростом с десятилетнего.
До бар мицвы оставалось всего несколько недель. Родители Ричарда решили провести ритуал, как если бы ничего не случилось. Дедушки и бабушки, все четверо, пребывали в разной степени замешательства по поводу болезни внука, но теперь неуверенность сменилась недоверием и скептицизмом, и ничто не могло их утешить, кроме постоянных подтверждений, что бар мицва состоится 23 ноября.
– Насколько все серьезно, – хотела знать мать Сэма, – если он может запомнить и пересказать весь этот текст на иврите?
– Он все еще собирается играть? – спрашивал по телефону его отец.
Амстеры отвечали, что все действительно серьезно и они решили, что он не будет играть, но вместе с тем все не так катастрофично, как им внушили а Бостоне. Когда твой сын умирает, единственное, что не дает твоему миру развалиться, это цемент надежды
Наконец день настал, Ричард произнес слова на иврите хорошо, но медленно, так медленно, что слушатели, должно быть, дивились; его разум выдержал, но он не отвечал на поздравлении и потоки поцелуев на приеме. Держался холодно и отстранение, отчего казалось, будто он хочет оттолкнуть людей. Каждый, кто внимательно наблюдал за ним, мог заметить, что он изменился физически, несмотря на все усилия родителей придать ему вид и запах того Ричарда, которого они знали.
На следующее утро Эвелин наблюдала, как Ричард завязывает галстук за завтраком, и внезапно ее потрясло осознание, что сын стал призраком тринадцатилетнего мальчика, участвующим в фарсе бар мицвы. Сколько еще он продержится? Даже если они смогут и дальше притворяться, даже если это получится у бабушек с дедушками, сколько смогут все остальные?
Тем временем в своей озабоченности «разновидностями» прогерии родители, особенно Эвелин, переходили от одного медицинского учреждения к другому. На письма Эвелин к врачам-исследователям из клиники Майо и медицинской школы Джона Хопкинса пришли обнадеживающие ответы: они хотели обследовать Ричарда. «Приезжайте сразу, как сможете, в декабре после бар мицвы», – такими были их слова. Специалисты из обеих больниц подчеркивали, что прогерия – это, скорее, общее название нескольких заболеваний, а не одно. И делать прогноз следует, исходя из того заболевания, которое обнаружится у Ричарда.
Отец, мать и пациент сели на поезд в Нью-Йорке и в оставшиеся перед Рождеством недели поехали сначала в Балтимор, а потом в Рочестер, штат Миннесота. В клинике Университета Джона Хопкинса в Балтиморе Ричарда осмотрел консилиум докторов, а не один врач, как в Бостоне. Ласковая администраторша по имени Дженн координировала обследование и каждый день общалась с Амстерами. На третий день она сообщила, что предварительное коллегиальное мнение таково: у Ричарда не стандартная прогерия, а «синдром Вернера».
Новый диагноз привел их в недоумение. Что это за синдром такой? После визита в Бостон Эвелин сходила в Нью-йоркскую публичную библиотеку и в медицинскую библиотеку Колумбийского университета, чтобы посмотреть, что такое прогерия, в справочниках. Она выяснила, что изначально название придумали в конце XIX века два английских врача, Джонатан Хатчинсон и Гастингс Гилфорд, а еще в том же справочнике ей попалось имя Отто Вернер. Она вспомнила об этом, когда Дженн назвала болезнь Ричарда «синдромом Вернера».
Дженн объяснила подробнее. Из ее рассказа Ам-стеры узнали, что Отто Вернер (1879–1936) был немецким экспертом в области прогерии, почившим два десятка лет назад, и одним из немногих врачей в мире, который пытался лечить эту болезнь. Если диагноз ее коллег, основанный на симптомах Ричарда, верен, то он вполне может пережить двадцатилетний рубеж. Теперь все зависит от того, как они справятся с вторичными симптомами: катарактой, кожными заболеваниями, проблемами с сердцем. В большинстве случаев смерть при прогерии наступает от этих сопутствующих болезней.
Поездка в Миннесоту пришлась на трескучий мороз, почти перед самым Рождеством, хотя буйные зимние метели еще не начались. Поезд обогревался, но Ричард вел себя капризнее обычного, постоянно ссорился с родителями, ни в чем не хотел идти им навстречу. Клинику Майо украшали елки и венки из остролиста, а персонал уже стал разъезжаться на праздники. Местные врачи показались Амстерам менее внимательными, чем балтиморская группа, но жаждущими помочь. Один доктор, чьей задачей было записывать показания остальных, был особенно заботлив и признался, что никогда не сталкивался с прогерией и это многому его научит – слова, едва ли вселившие в Амстеров уверенность.
Консилиум врачей Майо подтвердил синдром Вернера и привел дополнительные доводы, почему это не мог быть классический синдром Хатчинсона – Гилфорда. Но их рекомендации ничем не отличались от того, что рекомендовали врачи из больницы Хопкинса: заберите мальчика домой, обеспечьте ему по возможности наилучший уход, следите за ним, разговаривайте с ним о том, что его постигло, подбадривайте, позвольте ему задать собственный ритм жизни, упоминайте о смерти – и приготовьтесь к долгим испытаниям. Они говорили настолько прямо, насколько было необходимо, но старались избегать жестких выражений и ни разу не сказали ничего, что показалось бы невыносимым. Ни в Бостоне, ни в Миннесоте им не сказали ничего такого, что, подобно диагнозу доктора Шмидта, разбило бы им сердце.
Они пропустили Хануку, вернувшись в Форест-Хиллс, когда последние свечи уже были погашены и американский мир приготовился закрыться на две недели. Во время долгой дороги на поезде они обсудили с Ричардом «синдром Вернера», осторожно сообщив ему кое-что из того, что узнали, а когда Ричард засыпал, принимались раз за разом пересказывать друг другу свои обывательские представления о разнице между этим синдромом и классическим синдромом Хатчинсона – Гилфорда. В разговоре с сыном они подчеркивали, как ему повезло: у него выявили наименее смертельную из двух болезней. Старались внушить ему, что он должен помочь им не допустить вторичных симптомов и потому быть очень осторожным. Должен сразу же им сообщить, если заметит у себя какой-либо симптом.
Эти разговоры продолжались все рождественские праздники 1955 года. Сторонний наблюдатель сделал бы вывод, что Ричард старается следовать их наставлениям, но все же он был четырнадцатилетним мальчиком с нависшим над ним смертным приговором, понесшим колоссальную утрату, величину которой не мог даже осознать, не то что выразить: он лишился не только здорового будущего, но и карьеры виолончелиста, так много для него значившей.
Лучше всего он играл на виолончели год назад, осенью 1954-го, как раз перед тем, как начал участвовать в конкурсах. Он победил во всех трех, где был заявлен, и получил в награду по концерту. Уже начала складываться его личность как исполнителя, но потом он стал уставать и меньше упражняться. Его раздражительность была призвана замаскировать почти полную неспособность выразить ощущение потери, которая постигла Ричарда на самом первом этапе развития его личности как музыканта.
Несмотря на то, как сурово обошлась с ними реальность, Амстеры приняли вызов. Они, особенно Эвелин, интуитивно чувствовали внутреннее состояние Ричарда, крах всех его ожиданий, однако продолжали уверять друг друга, что у него еще может состояться пусть и ограниченная музыкальная карьера. Леонард Роуз никогда не терял надежду. Но для Эвелин (Сэм работал) оказалось непосильной ношей удерживать в равновесии все звенья урезанной жизни Ричарда: новую диету, режим сна, яростные скачки настроения, изменения в расписании игры на виолончели, домашнего учителя, которого они наняли для частных уроков, редкие посещения школы, как обычной, так и музыкальной, отсутствие друзей и возможности завести новых, а также постоянные расспросы бабушек и дедушек, требующих новостей[9]9
Противоположности прогерии, при которой человек бы с возрастом молодел, не существует. Бенджамин Баттон – литературный персонаж из области научной фантастики, и Ф. Скотт Фицджеральд писал своего героя под влиянием фантастики, а не медицинской науки. В 1950-е годы не было никаких свидетельств об обратной прогерии, и за последующие 60 лет до наших дней таковой не открыли.
[Закрыть].
В те годы, 1954–1956, я почти не общался с Ричардом, виделся с ним, только когда родители привозили его на Чатем-сквер, и иногда у него дома, во Флашинге: мы были друзьями, но Ричард быстро угасал и все реже появлялся в школе. Несколько раз Сэм привозил меня из Бруклина к ним домой на выходные, чтобы мы с Ричардом могли поиграть дуэтом, и я до сих пор помню шок, охватывавший меня в каждый визит. Думаю, я делал все, чтобы отдалиться и от своего больного друга, и от его безутешных родителей, но в этот раз катастрофа заключалась не в сломанной виолончели.
Ричард учился уже в восьмом классе: если бы он был нормальным школьником, то в сентябре 1956-го перешел бы в среднюю школу. Амстеры надеялись, что он поступит в Школу исполнительских искусств, но эта надежда умерла после поездки в Бостон, и теперь они все более убеждались, что он вообще не сможет учиться в старших классах. Все долгоиграющие планы рухнули, они жили текущей неделей. С 1955 года они не уезжали в отпуск и не встречались с друзьями. Все свободные дни – каждое солнечное воскресенье – посвящались Ричарду, ведь понедельник мог принести новую беду.
Беда пришла в январе 1956-го, когда у Ричарда обнаружился конъюнктивит. Доктор Ньюкамер, который теперь был его главным лечащим врачом, предупредил Эвелин, что, возможно, болезнь не пройдет сама собой и потребуется госпитализация. Две недели Амстеры старались, как могли, но, когда стало ясно, что кожа вокруг глаз так воспалилась, что Ричард едва может их открыть, его отвезли в местную больницу в Куинсе.
Это была первая из многочисленных госпитализаций, продолжавшихся весь год: в основном они были связаны с глазными проблемами, но один раз Ричард сам вызвал заражение, когда у него так сильно зудела кожа на ноге, что он расчесал ее до крови. Новых седых волос появилось не так много, но зловоние усилилось, и ему стало тяжело бегать. Он сказал, что у него болят ноги, и они с Сэмом перестали играть в мяч. Никакой одеколон, никакая туалетная вода не помогали: как только Ричарда ими обрызгивали, их аромат будто испарялся, поглощаемый его больным запахом.
К лету стало ясно, что Ричард никогда не пойдет в среднюю школу, и тогда он впервые познал весь ужас своей болезни. Когда тебе тринадцать, одно дело – лишиться музыкальной карьеры, и совсем другое – потерять возможность нормального взросления. Эвелин часто слышала, как он плачет в своей комнате. Он стал меньше есть, перестал спать. Эвелин рассказала об этом доктору Ньюкамеру, и тот посоветовал детского психиатра, к которому отвезли Ричарда, но после сеанса Ричард твердо заявил, что больше туда не пойдет. Перспектива никогда не вырасти выбила почву у него из-под ног. Он умирал.
Угасание Ричарда было постепенным: каждая неделя приносила новый симптом, но их легче было переносить в любящих руках Эвелин. Ричард получал лучший домашний и медицинский уход из возможных. Ему поставили правильный диагноз. Он был единственным ребенком родителей, которые души нем не чаяли и отдавали ему свое нераздельное внимание. Однако Сэм с Эвелин были в достаточной степени реалистами, чтобы понимать, что их ждет.
В сентябре, когда начались уроки в школе, куда пошел бы и Ричард, не страдай он этой разрушающей его болезнью, у него на стопах выскочили красные, покрытые коркой волдыри. Кожа огрубела и воспалилась. Ему больно было ходить. А мегеры удивились: почему именно ступни? У него до сих пор на лице не росли волосы, которые требовали бы бритья, и на руках и торсе не было никаких волдырей. Но ступни раздулись и стали сочиться неприятной жидкостью. После короткого осмотра доктор Ньюкамер попросил Амстеров вернуть Ричарда в больницу.
На этот раз он провел там две недели, и это было самое долгое его пребывание в больнице. Эвелин, навещавшая сына каждый день, заметила дальнейшие изменения в его характере: появилась печаль, словно он стал меланхоличным стариком. Посовещавшись, Сэм с Эвелин решили, что дело в школе и в том, что Ричард впервые осознал необратимость своего состояния. Они подумывали привести в больницу детского психиатра, чтобы попробовать еще раз, но, когда предложили эту идею Ричарду, он заплакал. Отвернулся от них, стиснул руки и ударил по прикроватному столику.
В дневнике Эвелин не сказано, сколько раз отец с матерью ездили туда и обратно: от Куинс-бульвара до Сто шестьдесят четвертой улицы, из дома в больницу, из больницы домой – короткие визиты, долгие визиты, пропущенные визиты, перепутанные визиты. Но дневник передает их усталость. Сэм почти каждую ночь принимал таблетки от бессонницы, а Эвелин лежала в постели, думая о безрадостном будущем. Они теряли сына и в придачу могли вот-вот обанкротиться. Слишком сложной задачей было еще и не подпускать дедушек с бабушками. В конце концов, те тоже навестили Ричарда в больнице и во время посещения только и делали, что стенали. Они пытались вести себя нормально, но не могли без слез смотреть на четырнадцатилетнего мальчика, который выглядел как пятидесятилетний. Их рыдания вывели Ричарда из себя, и он сказал отцу с матерью, что не хочет их больше видеть. Для себя он понял, что они неспособны его подбодрить и только усиливают подавленное настроение.
В июне 1957-го он бросил играть на виолончели. Родители решили, что болезнь развивается намного быстрее, чем, по словам докторов из школы Хопкинса и клиники Майо, положено при синдроме Вернера. «Он может дожить до тридцати или даже сорока», – ободряюще утверждали они, но Ричард еще не достиг пятнадцатилетнего возраста и уже шесть раз побывал в больнице: всегда в отдельной палате, зачастую в одной и той же, на пятом этаже.
На этот раз Ричард подхватил простуду, из-за которой у него поднялась температура и начался плеврит. Доктор Ньюкамер прописал антибиотики, и те подействовали, очистив ему легкие и носовую полость. Ричард оставался дома в постели. Однако он жаловался, что не может дышать, и Амстеры решили, что это остаточное явление простуды. Доктор Ньюкамер согласился и отправил его обратно в больницу.
Там сделали анализы и диагностировали осложнение на сердце. Анализы показали недобитый антибиотиками плеврит, а также аритмию, которая могла оказаться опаснее плеврита, поэтому Ричарда решили оставить в стационаре, пока не будет определена ее причина. Амстеры задали много вопросов, на которые получили сомнительные ответы: никто не знал, что не так с его сердцем.
22 ноября 1957 года, во вторник, Ричарду исполнилось пятнадцать. Мальчик пролежал в больнице уже пять дней, и его все еще не собирались отпускать. Он сказал матери, что не хочет умирать. Произнес эти слова тихим голосом, медленно, уверенно, спокойно, словно боялся, но знал, что ему уготовано.
Анализы ответов не дали. Среда перед Днем благодарения – один из самых суматошных дней в году для Америки, потому что все работники оставляют свои офисы и едут на другой конец страны, в отдаленные города и штаты, чтобы отпраздновать этот самый семейный из праздников. 4 июля и Новый год, по понятным причинам более бурные, нежели День благодарения, принципиально отличаются от него, и даже теперь этот день остается воплощением своеобразного образа жизни американской семьи.
Утром в среду, на следующий день после пятнадцатилетия Ричарда, Эвелин навестила сына, пока Сэм был на работе, куда запел на полдня, чтобы подготовить компанию к пятидневным выходным. Ричард казался самим собой, хоть и ворчал. Большую часть времени Эвелин провела с его лечащим врачом, спрашивая, можно ли ей забрать сын домой на День благодарения. Прямо он ей не отказал, но несколько раз повторил, что анализы не дали определенных результатов, в любой момент Ричарду может потребоваться кислород, и, если он в этот момент будет дома, придется срочно везти его обратно. Врач настоятельно рекомендовал оставить его в больнице.
Эвелин передала Сэму по телефону эти слова, и он тоже расстроился. Приехал в госпиталь из своего офиса в Астории, чтобы самому поговорить с врачом, но другого ответа не добился. Амстеры посовещались в комнате ожидания. Возможно, доктор прав: зачем тащить Ричарда домой, если придется в День благодарения вызывать «скорую», чтобы срочно везти его назад? Гораздо лучше прийти к Ричарду с домашней индейкой и устроить семейное сборище у него в палате. Пригласить дедушек с бабушками.
Супруги на том и порешили. Эвелин поговорила с Ричардом бодрым голосом и с самым жизнерадостным выражением лица, на какое в тот момент была способна, пытаясь убедить его, что «это будет весело»: они проведут свой собственный День благодарения в его «другой» комнате! Она купила индейку и другие продукты, а когда вернулась, Сэм уже был дома. До семи она готовила, потом они перекусили и после этого долго смотрели друг на друга. Они знали, почему дом кажется более пустым, чем обычно: это была ночь перед Днем благодарения, когда вся семья собирается вместе. Эвелин попробовала сыграть ноктюрн Шопена, грустный опус 55, номер 1, ми-бемоль мажор, но музыка не шла. Она захлопнула крышку на середине фразы. Спать легли рано. Их ждал странный День благодарения со всеми дедушками и бабушками, сгрудившимися в больничной палате.
В десять утра зазвонил телефон. Эвелин взяла трубку. Это был другой врач, не мужчина, с которым она разговаривала вчера, а женщина. Спокойным голосом она сообщила, что состояние Ричарда за ночь ухудшилось и родители должны срочно приехать в больницу.
Эвелин спросила, насколько ухудшилось. Женщина ответила, что у Ричарда возникли проблемы с дыханием. Эвелин сглотнула, ее мозг, работая с бешеной скоростью, отметил, как прозорлив был вчерашний врач: он предсказал эту возможность, когда убеждал Амстеров не забирать Ричарда домой.
Эвелин повесила трубку. Они с Сэмом отказались от идеи «праздника у постели больного», оставили свою индейку дома и помчались в больницу. Дороги были пустынны, как всегда утром в День благодарения, когда весь американский мир упивается видом и запахами предстоящего банкета. Они не говорили друг с другом, молча смотрели вперед, на пустую дорогу.
Двадцать минут спустя они уже сидели в комнате с белыми стенами наедине с женщиной, которая им звонила: лет тридцати, внешне непримечательная и казавшаяся искренней.
– Мне очень жаль, но Ричарда больше нет.
– Нет? – выпалила Эвелин. – Что вы имеете в виду?
– Он умер в восемь тридцать утра.
– Как? – пришел ей на помощь Сэм. Таких новостей они не ожидали.
– Его сердце не справлялось, и мы думаем, что ему не хватало воздуха, поэтому он и подошел к окну.
– Хотите сказать, вашего кислорода было недостаточно для здорового пятнадцатилетнего подростка? – интонации в голосе Сэма ясно указывали, что имела место халатность.
– Все не так просто, мистер Амстер, – ответила та.
– Просто? – поддержала мужа Эвелин.
Доктор заговорила медленно, чуть ли не отсчитывая слова.
– Возможно, он выпрыгнул из окна. Ему трудно было дышать всю ночь. Медсестры считали, что нужно как можно скорее перевести его в реанимацию. Я распорядилась о переводе в восемь утра. Вскоре после этого дежурная медсестра зашла к нему в палату, чтобы его подготовить. Но его там не было.
Сэм с Эвелин посмотрели друг на друга в ужасе и недоумении, потеряв дар речи.
– Его не могли найти.
– Он что, бродил по больнице? – спросил Сэм.
– Нет, он встал с кровати и открыл окно, вероятно, чтобы вдохнуть воздуха. Возможно, у него закружилась голова, и он упал.
Все заволокло дымкой – пространство, время, сознание. Ничто уже не было цельным, границы перестали существовать, цвета перемешались. В первые несколько дней после смерти Ричарда Сэм с Эвелин отказывались признавать, что сын сам выбросился из окна. Они утешали друг друга более мягкой, идиллической картиной: «Наш милый благоуханный Ричард, такой одаренный, отчаянно задыхаясь, с содрогающимися легкими пытался извлечь кислород из душного ночного воздуха и случайно выпал из окна. Если бы только ему вовремя дали кислород…» Так они говорили себе, чтобы пережить горе.
Их Ричард не стал бы сознательно выпрыгивать из окна, их мальчик не стал бы сводить счеты с жизнью. Это несчастный случай, трагическая ошибка, которая могла произойти где угодно. Даже администрация больницы с ними согласилась. Такова была официальная версия для полиции, и та не стала настаивать на расследовании.
Похороны Ричарда прошли в понедельник, 27 ноября 1957 года, через пять дней после его пятнадцатого дня рождения. Евреи хоронят быстро, но только не в субботу. Ричард умер в четверг и, по обычаю, его следовало похоронить через сорок восемь часов, то есть в субботу, но в иудаизме запрещено что-либо делать в субботу, поэтому Амстеры дождались понедельника.
Дул промозглый восточный ветер, пробирая до костей, когда они входили в синагогу в Форест-Хиллс. Четверо безутешных бабушек с дедушками стояли в ряд, их бледные застывшие лица были непроницаемы, а Эвелин с Сэмом скрывались за занавеской, отгораживающей убитых горем родителей. Пришли несколько десятков друзей и бывших одноклассников Ричарда, а также знавшие о его болезни кузены с кузинами, кое-кто из медицинского персонала Бостонской детской больницы и Леонард Роуз. В своем дневнике Эвелин пишет, что было человек пятьдесят.
Раввин красноречиво говорил о том, что лишь Господь знает, почему с хорошими людьми случается плохое, и перечислил достижения Ричарда как гениального юного виолончелиста. Темой его речи была неисповедимость путей Господних. В ней он ни разу не упомянул ни о прогерии, ни о пятом этаже больницы. Из его слов выходило, будто Ричард умер от редкой болезни, а непосредственной причиной стал сердечный приступ. В свидетельстве о смерти было сказано то же самое. Если вы не знали до прихода в синагогу, что Ричард, случайно или намеренно, свалился с пятого этажа, вы бы ни за что не догадались об этом на похоронах.
Сэм и Эвелин пришли в черном. Эвелин настояла на том, что наденет тот черный пояс, который был на ней много лет назад в Таун-холле, – тот самый, что опоясывал ее бархатное платье на дебютном концерте, – теперь к нему добавилось новое черное полупальто. Эвелин была слишком удручена, чтобы задуматься о своем решение надеть его, просто записала в дневнике, что в тот день он был на ней. Когда поминальная служба завершилась, ближайшие родственники подошли к могиле. Потом Амстеры вернулись домой, где выездные официанты уже накрыли столы для горьких еврейских поминок.
Они были иудеями-реформистами, поэтому не придерживались древних традиций: не сидели шиву, не отворачивали зеркала, не ставили у двери чашу с водой, чтобы скорбящие омывали руки. Михазла с Чезаром были раздавлены горем, но все же нашли в себе силы принести на второй и третий дни сваренные вкрутую яйца и бублики. Они нараспев прочитали молитву соболезнования – Сэм не понял, на иврите или по-румынски – сеудат авраа. Михаэла не сводила взгляда с Эвелин.
* * *
Возможно, самое странное в акте исчезновения – это то, что смерть пространственная и смерть временная так отчетливо не совпадают. Все усопшие оставляют после себя напоминания – архивные, материальные, ментальные, – и эти предметы и воспоминания сливаются с потоком времени, поэтому-то так легко по прошествии лет забыть точную дату смерти любимого человека. Но пространственный компонент более зазубрен и лучше въедается память: сейчас любимый человек физически здесь, а через секунду уже исчез, и воображение беспомощно увязает в поисках ответа на вечный вопрос: «Куда он делся»? Конечно, разум осмысливает возможность абстрактного исчезновения, но не подводит черту, как с воспоминаниями, неотделимыми от времени и места, потому что воспоминания длятся почти бесконечно. Воображение помнит «время» умершего: вот это Ричард делал в прошлом году, сюда он ходил ребенком, всего несколько недель назад был его день рождения, вот так он выглядел вчера. Но неожиданное отсутствие человека в пространстве ошарашивает, оно по сути своей непостигаемо, ему невозможно дать объяснение даже» на кладбище, где тела мертвых лежат на определенных местах.
Чем сильнее Сэм с Эвелин старались привыкнуть к дому без Ричарда, тем меньше у них это получалось. Воспоминания о нем оставались яркими и живыми, но он отсутствовал в пространстве. Их дом был пространством для троих. Как мог он в мгновение ока превратиться в пространство для двоих? Причинно-следственная связь перестала действовать с того момента, как им сообщили, что он упал с пятого этажа.







