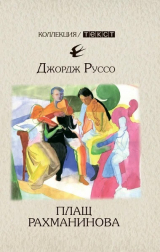
Текст книги "Плащ Рахманинова"
Автор книги: Джордж Руссо
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 18 страниц)
Я русский композитор, и моя родина наложила отпечаток на мой характер и мои взгляды. Моя музыка – это плод моего характера, и потому это русская музыка; я никогда сознательно не пытался писать русскую музыку или музыку любого другого рода[101]101
The Etude (декабрь 1941), с. 7, в интервью с Дэвидом Юэном.
[Закрыть].
Возможно, все так, в политиках и революционерах второго десятилетия XX века волнения в России не поселили того интуитивного ощущения слома, что испытывал Рахманинов. Для них политика была профессией или, по крайней мере, идеологией, за которую они не боялись умереть; для них она не граничила с насилием, космическими сотрясениями, вызывающими эмоциональную катастрофу. Конечно, он читал газеты и придерживался определенных политических взглядов, особенно в революционный период, то есть после 1905 года. Он следил за формированием Государственной думы и ее членами.
Но даже после эмиграции в Америку его по-прежнему занимала политика старой России, хотя она уже давно уступила место новой России со своими реалиями и лидерами: Лениным, Троцким, Бухариным, Сталиным, рабочим классом, буржуазией и белыми эмигрантами. В последние два года жизни (1941–1943), когда Вторая мировая была в самом разгаре, он скорее интересовался старой Россией, чем Калвином Кулиджем, Гербертом Гувером, Ф.Д. Рузвельтом и Великой депрессией. «Что такое экономическая депрессия?» – мог бы спросить Рахманинов в 1932 или 1933 году, когда кризис достиг самого дна. Банковские счета Рахманиновых пухли, они приняли американское гражданство и голосовали, но все эти действия совершались скорее ради удобства и безопасности, чем изъявления политической воли. А затем, в 1933-м, Рахманинов выдал свой секрет газетам, не только добавив свое имя к письмам недовольных Советским Союзом, но и раскрывая свою суть: «Вы не знаете, каково человеку, у которого нет дома. Возможно, никто не понимает эту безнадежную тоску по дому лучше нас, старых русских»[102]102
The New York Evening Post, 16.10.1933.
[Закрыть].
Газетчики не стали смягчать своих высказываний:
Мистер Рахманинов предпочитает думать, что он все еще подданный Государя Всея Руси. Этот высокий сутулый человек шестидесяти лет, который редко улыбается, однако признается, что в концертах вся его жизнь, может достичь духовной целостности, только когда обращается к своему русскому прошлому…
Он мог винить Советский Союз в том, что тот отверг его музыку, осуждать его, подписав предостерегающие «Письма из Америки», но его ощущение страданий старой России после затишья 1918 года оставалось неизменным. Его дежавю нельзя отделить от ностальгического восприятия реальности, которое влияло на все. «Мистер Рахманинов предпочитает думать…»
Невозможно в общих чертах или – что еще хуже – туманно обрисовать политические взгляды художника. Исторические факты и биография лучше отображают реальность. Возможно, его письма к доверенному другу Морозову прольют некоторый свет на личные политические воззрения Рахманинова. Его глубоко затронули разгорающиеся в 1905 году волнения. Даже более ранние крестьянские восстания 1902 года, далеко не такие масштабные, встревожили его. Он по-прежнему писал музыку, но далеко не так страстно, как после лечения гипнозом доктора Даля. Что-то фундаментальное изменилось.
Четыре года спустя он все еще не пришел в себя. 2 мая 1906 года он написал Морозову, своему верному другу со времен Московской консерватории, который подсказал ему знаменитую вторую тему в последней части Второго концерта для фортепиано:
Милый друг Никита Семенович, мы наконец-то покинули Флоренцию и уютный маленький пансион мадам Лючесси и переехали на дачку в Марина-ди-Пиза, что в десяти верстах от Пизы, на берегу моря. Чудный вид из окон, и волны плещутся в пятидесяти шагах от двери. В даче пять комнат, и она очень дешевая. Не хватает постельного белья и столовых приборов, но зато здесь очень чисто – такой чистоты я у итальянцев еще не встречал. Чистота в итальянских жилищах встречается так же редко, как ясность в произведениях композиторов-нова-торов, Скрябина и иже с ним. Но здесь нет русских, и мы перебиваемся двумя русскими газетами и почтальоном. Милости просим, Никита Семенович, обязательно навести нас до того, как мы уедем[103]103
Автор неточно цитирует письмо С. Рахманинова Н. Морозову от 17 апреля 1906 г. (Прим. переводчика.)
[Закрыть].
Шесть дней спустя, 8 мая 1906 года, ежедневная реакционная газета Москвы «Новое время» призвала к демонстрациям против планов по либерализации России:
Думский комитет доложил, что после прошлого грозного восстания следующее, по его информации, свергнет монархию. Мужчин повесят, женщин и детей сошлют в трудовые лагеря в Сибирь. Москва и Петербург перестанут быть центрами городской жизни и превратятся в бюрократические конторы, где будут выписывать направления в другие места. Школы и университеты закроются, в больницах не будет хватать врачей. Театры и концертные залы закроют специальным постановлением.
Рахманинов начал воображать, что его карьера окончена. Дома его неизбежно будет ждать больше препятствий, чем на увитых розами виллах в Тоскане. Левые не дадут его концертной карьере развиваться. Отберите у человека возможность работать, особенно недавно женившегося и с маленьким ребенком, и вы лишите его мужества – что и случилось с Рахманиновым. Хуже, он не мог ни играть, ни сочинять, ни дирижировать. Восстания 1905 года показали ему, чего ждать, но оказались незначительными по сравнению с тем, что случилось в 1917-м.
Волнения 1905 года выбили его из колеи, а потом его привычный образ жизни еще сильнее нарушили московские восстания декабря того же года, когда он видел толпы людей, требующих хлеба, и разгорание всеобщей забастовки. Он едва мог заставить себя готовиться к концертам. Новость о том, что Римский-Корсаков ушел с поста директора Санкт-Петербургской консерватории, совсем раздавила его: старую Россию приносили в жертву.
Царь Николай II слишком остро отреагировал на волнения. За ночь он издал драконовские указы, предписывающие наказать журналистов и других интеллигентов, бросить их в тюрьму и даже казнить нескольких в качестве примера, но композиторов – людей вроде Рахманинова и его бывших одноклассников и коллег из школы Танеева – пощадили. Ответ Николая усилил напряженность, но давал надежду на возвращение к существующему порядку вещей.
В конце февраля 1917 года, когда революция смела царское правительство, Рахманинов ощутил тяжесть на сердце: надежда таяла. Второго марта Николай отрекся от престола, не оставив преемника: он не желал передавать бремя власти своему сыну Алексею, мальчику двенадцати лет больному хронической гемофилией, а его брат, великий князь Михаил, отказался принять корону, и таким образом к власти пришло Временное правительство, жизни при котором Рахманинов не мог себе представить. Церкви закрылись в страхе, и к июлю главой правительства стал Александр Керенский. Казалось, будто старая Россия развалилась всего за несколько месяцев.
Внимание к мельчайшим деталям может раскрыть правду о политических взглядах художника. Лето 1917 года Рахманинов провел в Крыму: он был слишком потрясен, чтобы вернуться в Ивановку, где как раз шел передел, едва его не разоривший. Но политические волнения породили мысль о бегстве: куда угодно, особенно в близлежащую Скандинавию, – и он обратился к Зилоти и свойственникам Сатиным с просьбой помочь ему достать паспорт, ибо у него самого на это не было возможностей. Через свои связи с концертными менеджерами Зилоти организовал племяннику приглашение в Стокгольм, дававшее ему основание получить паспорт. Ему было сорок четыре года, и бегство из России пока что воспринималось им как спасение.
Он мысленно перебирал произошедшие политические события. Россия была втянута в противостояние в августе 1914 года, когда Германия объявила войну. К 1915-му по России распространился голод, и по возвращении домой раненых и умирающих солдат ждали политические демонстрации с забастовками против авторитарного режима. В 1916-м стало еще хуже. За эти два года (1915–1916) Рахманинов дал несколько концертов, но их число уменьшилось, и он вынужден был выступать бесплатно. «Играй из благотворительности», печально советовали ему друзья, глядя на его отчаяние. К февралю 1917 года забастовки усилились, и 27 февраля царизм пал. Такова была последовательность.
Положение стало еще более непрочным после так называемой Октябрьской революции, когда власть захватили большевики. Их приход к власти показался поразительным и жестким даже тем, кто наблюдал за событиями со стороны. Он вырвал сердце царского правительства и еще больше усилил неразбериху. Погибла последняя реальная надежда на восстановление «былой России». Именно после этого события Рахманинов окончательно решился навсегда уехать из России. Через несколько недель его здесь уже не будет.
Перечисление этих событий все повторялось у него в голове, как заевшая пластинка, когда поезд увозил его прочь, и потом, когда он лежал при смерти в 1943 году. Его решение? Бегство с любимой родины. Возможно, это было худшее решение в его жизни. Расставание с Россией парадоксальным образом уничтожило его во многих отношениях, чего он не мог предугадать в 1917-м, как не мог предугадать и того, что он никогда больше не вернется и не сможет писать русскую музыку.
* * *
Национализм Рахманинова не стоило бы рассматривать отдельно, если бы он не играл столь значительной роли в его творческой жизни. Как мы знаем, он сам признавался, что ощущал себя русским, относился к миру как русский, сочинял как русский. Но разве не все русские такие же?
Не до такой крайней степени: только он воспринимал «русскость» так, будто она гарантировала величие. Его произведения, в особенности романсы и другие вокальные сочинения, пронизаны русскими чувствами, стилем, самобытностью. Он играл на фортепиано так, как умел только русский, без мелодраматичности Листа (венгра), и даже неискушенный слушатель ни за что не перепутал бы его с итальянцем (Бузони), французом (Корто) или поляком (Годовским). Он был безошибочно русским во всем: в своем концертном образе и технике, в странной отстраненной манере держаться во время выступления, даже в репертуаре – словно сама Судьба (о которой я поговорю позже) появлялась на сцене, когда он играл.
На концертах он играл собственную музыку плюс некоторых других русских композиторов, а также небольшую выборку из Моцарта, Бетховена, Шумана, Грига и довольно много Шопена. Но не раннюю музыку, не Баха, не Брамса, не французских импрессионистов – список можно продолжать долго. Даже до отъезда из России он играл преимущественно собственные произведения. А в Америке его менеджеры не разрешали ему играть ничего другого, потому что сочетание его самого с его произведениями, прелюдиями до-диез минор и шмелями, привлекало полные залы – такова была магия образа этого композитора-пианиста за роялем в Америке. Но его основной репертуар был намного меньше, чем сейчас представляется, всего лишь избранные произведения нескольких композиторов, что и близко несопоставимо с огромным репертуаром всемирно признанных пианистов в других странах[104]104
Конечно, Шопен и Лист тоже играли свои произведения, как до них – Бетховен и Мендельсон. Но у них не было профессионального менеджера, как у Рахманинова. Если бы они, как он, приносили огромные суммы денег американским менеджерам, то, возможно, им тоже не разрешалось бы играть почти ничего, кроме своих произведений; в этом смысле Рахманинов был последним из романтических композиторов-пианистов, в основном игравших на сцене собственные произведения, вот только его предшественники не получали такие огромные гонорары. Между 1890 и 1930 годом Россия произвела целый ряд выдающихся композиторов-пианистов, включая Прокофьева и Шостаковича, которые в ранние годы строили карьеру и в том, и в другом: и в концертном выступлении, и в сочинительстве. Ни одна другая страна, кроме России, не произвела столько замечательных композиторов-пианистов и не экспортировала их в таких количествах, пусть даже неудачная американская карьера Прокофьева продлилась всего три года (1918–1921). После 1930-х такой ограниченный концертный репертуар, как у Рахманинова, состоящий преимущественно из собственных сочинений, был бы немыслим для любого признанного во всем мире гиганта его уровня. И этот факт делает историю его успеха еще более поразительной.
[Закрыть].
У каждой нации свои стереотипы: у немцев, французов, итальянцев, американцев – и на рубеже XX века, когда восходила звезда Рахманинова как композитора и как пианиста, он представлял собой совершенно русский типаж выражением лица, высокой нескладной фигурой, мрачным силуэтом, закутанным в черное: как отметил Чехов, его черный сценический костюм создавал впечатление, будто им управляет рок. Даже те слушатели, которые ничего о нем не знали, не могли принять его за немца, итальянца или француза, и то же касалось и его музыки. Он стоял особняком от Вагнера и Малера, Масканьи и Пуччини. Само его имя звучало, как синоним России, – РАХМАНИНОВ.
Поколение спустя, в конце 1920-х, Шостакович, которому суждено было стать величайшим русским композитором своего поколения, тоже начинал свою профессиональную жизнь как виртуозный пианист-сочинитель. Как и Рахманинов, он держался на сцене отстраненно, словно не отрицал, что он солирует, и все свои эмоции отдавал завораживающему ритму. Но то было в России. Рахманинов тоже обычно держался отчужденно и словно бы что-то скрывал, играл так, будто слушатели были самозванцами. Однако в Америке он давал американцам то, что они хотели услышать: романтический лиризм и мелодичность в исполнении мрачного полубога с другой планеты.
Мелодия – движущая сила, мелодия продает билеты, это поняли все американские менеджеры, дирижеры симфонических оркестров и организаторы концертов, подсчитывая гонорары. Рахманинов был феноменален не потому, что ему повезло больше других русских композиторов-исполнителей, а потому что в его музыке столь отчетливо прослеживалось ее русское происхождение. На эту тему можно говорить бесконечно: и об источниках его музыки, и об их трансформации, как, например, в незабываемых вступлениях Второго и Третьего концертов. Эксперты нашли в них влияние пасторалей и фольклорных песен, однако, несмотря на все исследования и обсуждения, нельзя сделать окончательных выводов. В мелодии яснее, чем во всем остальном, видна его «русскость», а также загадочное качество гения из Старого Света.
В 1905-м – символичном для старой и новой России году – среднестатистический русский аристократ оплакивал утрату своего имения, земель и крестьян, мечтая о возвращении к старым порядкам и осмысливая свои потери через понятие Судьбы. Обычной реакцией на лишения была хроническая меланхолия, выражаясь по-медицински, или тоска. Историки уже исследовали этот феномен. После 1917 года беженцы вроде Рахманинова тосковали по родине, в то же время оплакивая утрату старого порядка и образа жизни. Но они отличаются от таких же немецких и французских изгнанников, чья история была другой, или географически более близких им поляков, которым пришлось много раз за минувшее столетие оплакивать утрату родины. С точки зрения музыки ностальгия Шопена должна отличаться от ностальгии Рахманинова, равно как и национальные мотивы в ее основе, и так оно и есть.
Сравним меланхолию и ностальгию в музыке для фортепиано Шопена и Рахманинова. Каждый слушатель красноречиво опишет разницу, ощущая ее на интуитивном уровне. Однако в них есть и сходство, так что стремление Рахманинова играть и творить, как «русский Шопен», вполне обоснованно. Или как «русский Шопен в Америке». Он так же связан с Шопеном, как и со своими соотечественниками: Чайковским, Рубинштейнами, Скрябиным, Римским-Корсаковым. Этим композиторам, как и ему, приходилось преодолевать препятствия: в случае с Чайковским это была его сексуальная ориентация, для Антона Рубинштейна – еврейское происхождение и отъезд в Дрезден, для Скрябина – его религиозные воззрения и мистические иллюзии. Однако они не рассматривали эти препятствия как невозвратимую утрату до такой же степени, как Рахманинов.
Рахманиновский стиль позднего романтизма также отличается от их стиля упрямой интерпретацией русских ценностей. Римский-Корсаков – рассмотрим главную фигуру – был русским с ног до головы и всю свою жизнь посвятил созданию национального русского стиля классической музыки. Его «программные произведения» основываются на избранных историях и либретто, и по ним видно, что он был хорошо знаком с национальным русским фольклором и традициями. Как и опера Мусоргского «Борис Годунов», его популярные «Шехерезада», Испанское каприччио и увертюра «Светлый праздник» были настолько же «русскими», как и все, что сочинил Рахманинов, однако в стиле и биографиях обоих целое море различий, не меньшее из которых – неспособность Римского-Корсакова возвысить фортепиано до ведущего концертного инструмента. Более того, Рахманинов редко давал уроки фортепиано и никогда не учил композиции, а Римский-Корсаков только тем и занимался и воспитал больше значительных композиторов – включая Стравинского и Прокофьева, – чем кто-либо другой из его поколения. Несмотря на националистический характер его произведений, Римский-Корсаков был преимущественно либералом и даже поддерживал революцию 1905 года незадолго до смерти в 1909 году (здесь он тоже был противоположностью Рахманинова), и он не был ни ипохондриком, ни нарциссом. Эти творческие и биографические различия выражают всю сложность национального характера. Если рассматривать только одного композитора и его музыку, то сложно понять, что стоит на кону в оценке суровой русской национальной традиции[105]105
Ричард Тарускин рассматривает эту «русскость» в важной книге On Russian Music (Berkeley: University of California Press, 2009), однако критикует Рахманинова за отсутствие стилистического новаторства и отказывается признавать его вклад, хотя бы даже уникального неоромантического характера, в национальную музыкальную традицию. И несмотря на свой, неоспоримо, блестящий подход к русской музыке в целом, Тарускин обесценивает творческий потенциал ностальгии и то, что Рахманинову удалось превратиться в «русского Шопена».
[Закрыть].
Но все это открывается нам уже в тридцатых годах и даже позже, после смерти Рахманинова и его знаменитых современников-композиторов: должны пройти десятилетия, чтобы мы посмотрели, как он функционировал на Западе, прежде чем можно будет прояснить эти различия, а также возникновение этих противоречивых русских музыкальных «голосов». В годы жизни в России, во время первых серьезных политических потрясений – в 1905-м, – когда другие русские композиторы отбрасывали свои национальные корни и становились космополитами или, по крайней мере, паневропейскими новаторами, Рахманинов, наоборот, замкнулся в себе и отверг новый модернизм. Через каких-то пять лет появилась «Жар-птица» (1910), а через восемь – «Весна священная» (1913). Эти произведения существуют на другой музыкальной планете по отношению к Третьему концерту для фортепиано Рахманинова (1909), каким бы оригинальным он ни был, – его величайшему, по мнению многих, произведению которое до сих пор любят играть виднейшие пианисты.
* * *
В декабре 1917 года, когда Рахманинов бежал из России, у него не было разрешения на поездку, только выездной документ. Он провел ночь в одиночестве в номере петроградской гостиницы. Революционные события, особенно победа ленинской армии рабочих над Временным правительством Керенского, отняли последнюю надежду. Он придумал альтернативный план. Он немедленно поедет один в Петроград. Нельзя было терять ни минуты, ведь в любой момент может случиться очередной переворот, как тот, что произошел несколько недель назад.
Финляндия объявила себя независимым государством 23 ноября (по ироничному стечению обстоятельств, в тот же день, когда тридцать четыре года спустя, в 1957-м, умер Ричард), а также отказалась от юлианского календаря в пользу григорианского. Через несколько дней Рахманинов уехал из России. К тому же, если бы вспыхнули новые волнения, возможно, Рахманинову как русскому по национальности не позволили бы пересечь границу. И вот он уехал из Москвы в одиночестве, под дождем, в сумерках последнего ноябрьского дня, с виду спокойный, но внутри его кипела паника, посеянная волчьим временем. Только его свояченица Софья проводила его до Николаевского вокзала и увидела, как он исчезает с единственным маленьким саквояжем в руках, в котором не было его любимых манускриптов и уж точно не было его великой Второй симфонии (сегодня она хранится в Британской библиотеке). Как правильно, что именно ее лицо было последним из любимых лиц, которые он видел в России. У него не было с собой ни одежды, ни других принадлежностей, ни – до сих пор – проездных документов.
Когда поезд тронулся, он прижался подбородком к холодному оконному стеклу в вагоне. Было сыро, словно дождь шел внутри. Он не мог сдержать слез, как ни пытался, и потому поднял руки, чтобы заслонить лицо от других пассажиров и не дать им увидеть, что он плачет. В его голове зазвучал мужской голос, певший один из ранних его романсов «У моего окна». Теперь его окном было холодное вагонное стекло. Потом пронеслись и другие романсы: «Утро», почти самый первый, который он сочинил мальчишкой, – и он вспомнил, что его вдохновили рассветные часы, проведенные на озере, когда его будил отец. Потом «В молчаньи ночи тайной», «Уж ты, нива моя», «Речная лилея», «Увял цветок» и, самое любимое, «Островок», о далеком странном месте, созданном его воображением.
Изгнание было его судьбой: он был вырван из сердца своей Москвы без дорогих жены и детей. Как предсказывали названия романсов, словно он знал, что ему суждено, десятилетия назад: «Как мне больно», «Покинем, милая…», «Я опять одинок…», «Два прощания» – при одной мысли о мелодии этого последнего романса у него в голове пронеслось: «Наталья, Наталья». Мысли и эмоции смешались: он оставлял ее, мог никогда ее больше не увидеть, как и мать, которую он действительно никогда больше не видел (она умерла в России в 1922 году в семьдесят шесть лет). Он подумал, что, возможно, никогда больше не напишет романс, не сочинит ни одного произведения, – продолжи он, преисполненный жалости к себе, так мучить свое сердце, оно бы не выдержало, и его нашли бы мертвым, замерзшим на железной дороге.
Когда слезы иссякли, он понемногу пришел в себя в переполненном вагоне. План состоял в том, чтобы дождаться Наталью с девочками в Петрограде. Они собирались последовать за ним через несколько недель. Встретившись, они вчетвером пересекут на поезде всю Финляндию и окажутся у шведской границы, откуда, из этой тундры у границы полярного круга, поезд отвезет их на юг в Стокгольм – путешествие длиной в несколько сотен километров.
Выезд из России прошел согласно плану. Наталья прибыла с детьми из Москвы в середине декабря. Вчетвером они 22 декабря уехали из Петрограда с Финляндского вокзала, того самого, куда в апреле из Германии прибыл Ленин, чтобы начать Октябрьскую революцию. Рахманиновы с детьми успели сесть на один из последних уходивших с этого вокзала поездов, перед тем как финны, владевшие им, забросили его через несколько недель после начала Нового года. Поезд был битком набит финнами, бегущими, как и они, из революционной России. Сергей чувствовал, как у него разбивается сердце: он тоже был беглецом и мог никогда больше не увидеть Россию.
Их первый поезд, финский, пронесся, набирая скорость, мимо российского Выборга, потом пересек границу и помчался к Тампере, Оулу и крохотному Торнио. Торнио был призрачным пограничным городком, где замерзшая река без мостов географически разделяла две страны: Финляндию и Швецию – пересечь ее можно было только на санях в разгар зимы. У каждой страны был собственный вокзал, их разделяли шесть километров и пограничники, поэтому сани были особенно важны[106]106
Софья Сатина объясняет важность саней в своих мемуарах о Рахманинове, написанных после его смерти; наверняка все трое: она, ее сестра и зять – часто разговаривали об этом, после того как эмигрировали в Дрезден, а потом в Америку; см. «Воспоминания о Рахманове» под ред. З.А. Апетян. Без ее свидетельства было бы сложно восстановить точный маршрут и хронологию их бегства из России.
[Закрыть].
Они не могли переплыть Ботнический залив из Хельсинки, потому что зимой он замерзает, так что простое – всего несколько часов – путешествие на пароме не обсуждалось. Вместо этого они решили двое суток ехать на поезде от Петрограда на север Финляндии, там, преодолев расстояние в несколько сотен километров, пересечь на санях замерзшую реку, за которой находилась Швеция, и успеть на ночной поезд в Стокгольм.
Они благополучно справились со всеми этапами пути и прибыли в Стокгольм холодным январским днем после полудня. Шведы с постными лицами вернулись с перерыва на работу, улицы были почти пусты. Усталые Рахманиновы не могли поверить своим глазам: и это канун Рождества? Но в Швеции было уже 6 января, а не 24 декабря, и они провели в пути не просто двое суток. До них не сразу дошло, что разница с западным календарем —13 дней. Если бы они не так устали, то вспомнили бы, что живут по шведскому времени, а не по русскому; теперь они были эмигрантами, и Москва превращалась в далекое воспоминание. Вскоре с Петроградом их будет разделять и широкий ледяной океан.
Наверное, им странно было находиться в шведской столице, думая, что таков типичный канун Рождества. Где праздничное настроение, где люди, выбирающие подарки? Почему у всех такие серьезные лица, никто не светится от предвкушения, в руках нет перевязанных лентами коробок, колокола не звонят?
У Рахманиновых было совсем мало вещей. Сам композитор-изгнанник никогда еще не чувствовал себя таким одиноким и потерянным, как в первый день на Западе, запутавшимся во времени, среди людей, говоривших на незнакомом языке, в холодном и незнакомом гостиничном номере, без фортепиано. Ему не было так плохо даже в двадцать лет, когда он в отчаянии прятался на лестнице Мариинского театра, слушая ужасное исполнение его симфонии Глазуновым. Он был сам не свой, не Рахманинов из старой России.
Он много раз гастролировал за границей, но в конце всегда возвращался на родину. Теперь у него не было родины: Россия стала лишь воспоминанием, которому он будет предаваться в своей новой стране. И если в Стокгольме он никак не мог отделаться от этих гнетущих мыслей, то у него на это были веские причины. Все, что у него теперь оставалось, это десять пальцев пианиста и любящая жена.
Экспатриант – это человек, живущий не в той стране, где он изначально был или до сих пор является гражданином, и большевистская Россия произвела тысячи экспатриантов. Тех, кто бежал из страны по политическим причинам, чаще называют изгнанниками. Экспатриация относится как к изгнанничеству, так и ко многим интеллектуалам, принудительно лишенным гражданства. Но Рахманиновых никто не заставлял и не убеждал бежать – это был их собственный выбор. Им бы пришлось прожить в России гораздо дольше, прежде чем их бы выдворили из страны, так что их экспатриация, о которой они потом долго горевали, была добровольной. Другие представители элиты, в том числе такой композитор, как Прокофьев, остались.
Московский музыкальный критик и композитор Леонид Леонидович Сабанеев (1881–1968) понимал бегство Рахманинова. Он был большим ценителем русской классической музыки Серебряного века, особенно музыки Скрябина, и не относил Рахманинова к композиторам первого ряда. Причина? «Какой-то барьер, – писал он в начале 1920 годов, – мешает ему полностью раскрыться»[107]107
См. Бертенсон, р. 202. Сабанеев написал несколько книг о русских композиторах конца XIX века, особенно о Скрябине, которым восхищался. Его книга Modern Russian Composers 1930 года не соответствует более раннему русскоязычному сочинению «История русской музыки» 1924 года. В русскоязычной версии Рахманинов упоминается всего в одном параграфе под заглавием «Ретроспективизм». «Воспоминания о России» (Москва, 2004) описывают его собственный вынужденный уход в изгнание в 1926 году, сначала в Париж, а потом в Ниццу, где он и умер в 1968 году.
[Закрыть]. В чем препятствие, стало ясно спустя десятилетие, после того как Рахманинов эмигрировал. По мнению Сабанеева, причина раскрылась почти сразу же после отъезда из России в 1917 году. Стоит снова дать цитату, в которой он рассматривает этот «барьер» как «трагедию»:
…трагедия расставания с родиной [случившаяся в самом конце 1917-го, когда Рахманинов отправился в изгнание], кажется, до сих пор [то есть сейчас, в 1930-м, на Западе] грызет его изнутри. Удивительно это гробовое молчание, в которое погрузился творческий гений композитора с момента его отъезда [в 1917-м]. Да, он написал Четвертый концерт для фортепиано. Но все же восемь лет молчания [1922–1930] – это огромный срок для композитора. В нем будто что-то надломилось, когда он оторвался от родной почвы, словно его гений таинственным образом пустил корни в землю отцов и не мог больше произвести ни единого ростка[108]108
См. Бертенсон, р. 125, Сабанеев (1930), р. 117.
[Закрыть].
Это можно считать сжатым описанием, пусть и обобщенным, разрушительной ностальгии, в которой кроется суть проблемы. В этой апатии, что охватывает тоскующего по дому художника, ничего не произрастает, потому что «в нем будто что-то надломилось, когда он оторвался от родной почвы». Сабанеев представляет Рахманинова раненым оленем, «неустойчивым и пассивным организмом», физиологически ослабленным. Отговорка, что в эмиграции у Рахманинова не было времени писать музыку, Сабанееву кажется чушью, как и мне. Отъезд в Америку сказался на и так чрезмерно тоскующем Рахманинове тяжелее, чем все, что с ним случалось до 1917 года; после отъезда в Америку он еще сильнее стал чувствовать разницу между былой Россией – его Россией – и будущей. Слова Сабанеева так точно передают самую суть ностальгии Рахманинова, что их можно было бы поставить эпиграфом ко всей этой книге.
Помещая композитора не слишком высоко, не слишком низко, Сабанеев хвалит его, а не порицает, как делали петербуржские критики в конце 1890-х. Сабанеев приводит и убедительные психологические доводы: больной ностальгией, обреченный вечно ассоциироваться с Чайковским (еще одним раненым оленем, уже из-за своей сексуальной проблемы), подкошенный революцией, неспособный сочинить ничего важного на Западе, бесплодный талант, чья ностальгия не позволяла ему произвести ничего великого. Как отличался он от других экспатриантов, что процветали на чужбине, как, например, Джеймс Джойс, добровольно отправившийся в изгнание, не говоря уж о множестве интеллектуалов, бежавших из нацистской Германии в конце 1930-х, – те не переставали творить в той или иной степени.
* * *
Кич – это псевдоискусство, чья главная цель – пробудить в массовом потребителе несдерживаемые сентиментальные эмоции. Кич подражает настоящему искусству, но не стремится к самобытности и, в отличие от подлинного искусства, представляет собой утилитарный объект, низкопробный, производимый на конвейере, вызывающий стандартизированную реакцию и не предполагающий критической дистанции между объектом и зрителем, которые сливаются в одно целое. Кич превращает определенные объекты и действия в фетиш с целью заставить потребителя расчувствоваться. Он совершенно не стесняясь обращается к ностальгии о прошлом. Его главная функция в том, чтобы вызывать коллективную слащавую сентиментальность, или, как писал немецкий философ Вальтер Беньямин, «мгновенное эмоциональное наслаждение, не требующее интеллектуальных усилий и отстранения или сублимации».[109]109
См. Эндрю Бенджамин, Walter Benjamin and the Architecture of Modernity (Continuum, 2005), p. 41–42. Другой немецкий социолог искусства Арнольд Хаузер также поспособствовал формированию определения кича в период нацизма: он объяснил, что кич отличается от обычных популярных произведений тем, что претендует на то, чтобы его воспринимали как серьезное искусство. По мнению Хаузера, кич следует воспринимать как псевдоискусство, подражающее великому искусству или паразитирующее на нем, и основная его функция состоит в том, чтобы льстить потребителям и утешать их, убеждая в том, что они понимают искусство. См. Арнольд Хаузер, Sociology of Art (Chicago, 1982), гл. 6. Существуют весомые исторические причины тому, что немецкие социологи первыми стали так подробно исследовать кич: нацистское искусство использовало в целях пропаганды кичевую образность, и многие немецкие критики, наблюдавшие со стороны, пришли в ужас от того, что эта образность пытается выдать себя за серьезное искусств.
[Закрыть]
«Сопли», как часто называл это Теодор Адорно (1903–1969), другой немецкий критик, писавший во времена нацизма, хорошо продаются. Музыка Рахманинова взывает к тоске, печали, пафосу, жалости, сочувствию – всем эмоциям, присущим ностальгии, – и не подходит под вульгарное определение «сопли». Однако сопли – довольно расплывчатое описание, поскольку вбирает в себя весь нижний конец эмоционального спектра; относится ли оно к любому кичу или только к определенным видам? Музыкальный кич обычно пропитан соплями, но не любой кич входит в их эмоциональную сферу. К тому же в родственных видах искусства, особенно в поэзии и музыке, сопливый кич играет на ложной патетике и на трогательном: ложная патетика заключается в резком, неожиданном переходе от возвышенного к низменному, а трогательное постоянно взывает к жалости, нежности и грусти. Рахманинов активно использовал последнее, особенно в виде плача. Его произведения практически не содержат стилистически ложной патетики, выраженной в резком переходе от одной эмоциональной крайности к другой, – такой прием не входит в его музыкальную грамматику, хотя встречается у современных ему русских композиторов, обычно не столь значительных. Однако он мастерски использует все тончайшие оттенки трогательного и в особенности возвышенного. И возможно, будет несправедливо по отношению к его музыкальному словарю и эмоциональной восприимчивости относить к соплям обе категории (и ложную патетику, и трогательное).
В любом случае не стоит отмахиваться от взгляда Адорно, пусть и некорректного, на музыку Рахманинова[110]110
Уже упомянутый Ричард Тарускин считает, что от него можно и нужно отмахнуться; см. The Oxford History of Western Music (Oxford University Press, 2005). Нападки Адорно на музыку Стравинского, хотя она совсем непохожа на музыку Рахманинова, отвратили от него потенциальных последователей, а неприкрытая ненависть к джазу пошатнула его статус музыкального критика гораздо сильнее, чем утверждение, что Рахманинов – кич.
[Закрыть]. Каким бы он ни был категоричным, Адорно не мелкий критик, который сам никогда не играл. Состоявшийся пианист, он изучал композицию под руководством Альбана Берга, одного из самых одаренных студентов Арнольда Шёнберга, и у него был очень сложный репертуар. Со временем Адорно стал одним из самых оригинальных критиков XX века, особенно из-за новизны своих критериев, и отверг притязания Рахманинова на самобытность с помощью своих блестящих познаний и навыков: сначала он объяснил, какие черты кича прослеживаются в «музыке для широкого потребления» Рахманинова, а потом доказал, что всеми любимая Прелюдия до-диез минор – это «кичевое подобие»:







